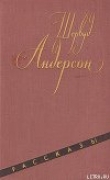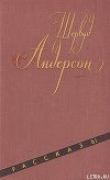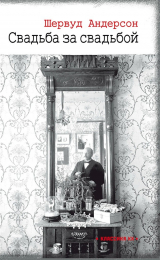
Текст книги "Свадьба за свадьбой"
Автор книги: Шервуд Андерсон
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
4
– И вот, видишь ли, я зажег лампу в общей комнате; я позабыл про обед и исписывал страницу за страницей, я писал той женщине и, все меньше соображая, городил одно на другом лживые признания: о том, что мне стыдно за произошедшее между нами несколько месяцев назад, о том, что я сделал это… скажем так, что я ворвался к ней в комнату по-настоящему только во второй раз, ибо был безумен, – и писал я ей еще много-много другой невообразимой ерунды.
Джон Уэбстер вскочил на ноги и начал нервно расхаживать по комнате, но дочь уже не была всего лишь безвольной слушательницей его истории. Он подошел к тому месту, где между зажженных свечей стояла Дева, а потом повернул к двери, ведущей в коридор и на лестницу, и тут она сорвалась с места, подбежала к нему и порывисто обвила руками его шею.
Она расплакалась и уткнулась лицом ему в плечо.
– Я люблю тебя, – сказала она. – Что-то произошло, но это совсем не важно, я люблю тебя.
5
И вот он, Джон Уэбстер, – он в своем доме, ему удалось, по крайней мере в эту минуту, разрушить стену, которая возвышалась между ним и его дочерью. После ее порыва они сели рядом на кровать, и он обнимал ее, а она положила голову ему на плечо. Многие годы спустя, если рядом оказывался друг, а сам Джон Уэбстер был в подходящем настроении, он рассказывал об этой минуте как о самой важной, самой чудесной во всей его жизни. Если можно так сказать, дочь отдала ему самое себя, а он отдал самое себя ей. Он понял, что это тоже в некотором роде свадьба. «Я был отцом и был возлюбленным. Как знать, может быть, эти две вещи невозможно разделить. Я был из тех отцов, кто не боится осознать прелесть плоти собственной дочери и позволить своим чувствам пропитаться ее благоуханием», – вот как он говорил.
Казалось, просидит он так, за беседой с дочерью, еще с полчаса, а потом покинет дом и уйдет с Натали, и не будет ничего такого, но жена, лежавшая на постели в соседней комнате, услышала крик дочери о любви, и это, должно быть, разбередило в ней что-то глубинное. Она бесшумно соскользнула с постели и, подойдя к двери, тихонько ее приоткрыла. Она стояла, облокотившись о косяк, и слушала, что говорит муж. Взгляд ее был полон тяжкого ужаса. Быть может, в ту минуту она хотела убить мужчину, который столько лет был ее мужем, и не сделала этого только потому, что долгие годы безволия и покорности жизни напрочь лишили ее силы поднять руку и нанести удар.
Так она стояла в безмолвии, и могло показаться, что она вот-вот рухнет – но этого не происходило. Она ждала, а Джон Уэбстер продолжал говорить. Сейчас он с каким-то чуть ли не дьявольским вниманием к мелочам рассказывал дочери всю историю их брака.
Было, по крайней мере, по словам этого человека, вот что: написав одно письмо, он не смог остановиться и в тот же вечер написал еще одно, и еще два – на следующий день.
Он все писал и писал эти письма, и это занятие, как ему самому казалось, породило в нем какую-то свирепую страсть лжи, которую, стоило ей разгореться, уже ничем было не унять. «Я положил начало тому, что владело мною все эти годы, – объяснял он. – Это представление, которое разыгрывает каждый, это ложь, которой каждый опутывает сам себя». Ясно было, что дочь не последует за ним, как бы ни порывалась. Он говорил сейчас о том, чего она не испытала, не могла испытать, – о гипнотической силе слов. Она уже читала книги, уже обманывалась словами, но сама не сознавала того, что все это с ней уже случилось. Она была совсем молодой девушкой, и поскольку, как это часто бывает, в мире вокруг нее не было ничего волнующего, ничего захватывающего, постольку она была благодарна за эту жизнь в книгах и словах. Конечно, они нисколько не тревожат пустоты, они проскальзывают сквозь разум, не оставив следа. Ну так что ж, ведь они сотканы из материи мира грез. Надо прожить жизнь, испить ее почти до конца, прежде чем поймешь, что под поверхностью самой заурядной обыденности всегда вершится глубинная, пульсирующая драма. Немногим открывается поэзия действительности.
Было очевидно, что ее отцу она открылась. Он говорил. Он распахивал перед ней двери. Это было подобно прогулке по старинному городу вместе с проводником, охваченным чудесным порывом вдохновения. Заходишь в старые дома и выходишь из них, и видишь вещи такими, какими их не видел прежде никто. Все предметы повседневного бытия, картина на стене, ветшающее кресло, придвинутое к столу, сам стол, а за ним сидит человек, которого ты знал всегда, – сидит и курит трубку.
Каким-то чудом все эти вещи теперь обретали новую жизнь и новый смысл.
Художник Ван Гог, который, как говорят, в приливе отчаяния покончил с собой, ибо не мог вместить в границы своего холста все чудо и всю славу солнца, сияющего с небес, – однажды он написал полотно. Старое кресло в пустой комнате. Когда Джейн Уэбстер выросла и вот-вот должна была превратиться в женщину и обрести собственное понимание жизни, она увидела это полотно в одном нью-йоркском музее. Странное удивление перед жизнью рождалось из созерцания этой картины, этого обыкновенного, грубой работы кресла, которое, может статься, принадлежало какому-нибудь французскому крестьянину, какому-нибудь крестьянину, в чьем доме художник, как знать, пробыл всего час однажды летним днем.
В тот день, наверное, он был особенно живым, особенно чутко сознавал бытие этого дома, где он просто сидит себе и рисует кресло и переносит в этот рисунок весь без остатка отклик чувств, который пробудили в нем люди этого дома и всех других домов, где он бывал.
Джейн Уэбстер была в той комнате со своим отцом, и он обнимал ее и говорил с ней о том, чего она не понимала, и о том, что понимала, говорил тоже. Теперь он снова был молод и чувствовал одиночество и неуверенность юной мужественности так же, как и она сама уже ощущала одиночество и неуверенность юной женственности. Как и ее отцу, ей предстояло начать хоть немного понимать вещи. Теперь он был честным человеком, он говорил с нею честно. Одно это уже было чудом.
Во времена своей юной мужественности он странствовал по городам, имел дело с девушками, делал с девушками то, о чем до нее доносился лишь шепот. Это заставляло его чувствовать себя нечистым. Он не слишком глубоко чувствовал то, чем занимался с теми глупышками. Его тело занималось любовью с женщинами; тело – но не он сам. Вот что знал ее отец и чего пока не знала она. Она многого еще не знала.
Будучи молодым человеком, ее отец начал писать письма женщине, рядом с которой был совершенно нагим тогда, совсем недавно, когда появился перед ней. Он пытался объяснить, как его разум, бродя в потемках, вдруг осветился образом одной определенной женщины, к которой он мог бы обратить свою любовь.
Он сидел в гостинице и писал слово «люблю» черными чернилами на белой бумаге. А потом шел гулять по тихим ночным улицам города. Теперь она ясно представляла себе его образ. Он был чужим существом, много старше нее, ее отцом – и вот это исчезло. Он был мужчиной, а она женщиной. Она хотела утихомирить галдящие в нем голоса, заполнить зияющие, белые пустоты. Она сильнее прижалась к нему своим телом.
Его голос толковал вещи. В нем была страстная жажда толкования.
Он сидел в гостинице и выводил на бумаге те слова, и засовывал бумагу в конверт, и отсылал конверт туда, к женщине, живущей так далеко от него, а потом бродил и бродил, и мысль о других, еще многих и многих словах гнала его назад в гостиницу, и там он записывал их на новых бумажных листах.
В нем народилось что-то такое, что трудно было объяснить, ведь он не понимал самое себя. Вот гуляешь под звездами или под сенью деревьев на тихих улицах городов и иногда, летними вечерами, слышишь голоса в темноте. Тобой овладевает фантазия. Чувствуешь где-то во тьме глубокое, тихое величие жизни и спешишь к нему. Тебя охватывает какой-то безнадежный пыл. От одной только твоей мысли сияние звезд в небесах становится великолепнее. Поднимается легкий ветерок, и это будто бы рука любимого касается твоих щек, перебирает твои волосы. Ты должен найти в жизни нечто прекрасное. Когда ты молод, не смей стоять столбом, иди прямо к прекрасному. Письма были попыткой идти. Попыткой найти опору на неведомых извилистых путях темноты.
И так вышло, что Джон Уэбстер с этими своими письмами сделал что-то странное, что-то лживое с самим собой и с женщиной, которая позже стала его женой. Он сотворил мир несуществующих вещей. Но будет ли по силам ему и этой женщине вместе жить в этом мире?
6
Пока мужчина говорил со своей дочерью, пытаясь заставить ее понять вещи неизъяснимые, в полумраке своей комнаты женщина, которая столько лет была его женой и из тела которой появилась женщина моложе, та, что сидит сейчас рядом, так близко к ее мужу, – теперь она тоже пыталась понять. Спустя некоторое время у нее не осталось сил стоять дольше, и ей удалось, не привлекая внимания, опуститься на пол. Ее спина скользнула по дверной раме, и под ее тяжелым телом ноги вывернулись под странным углом. В этой позе ей было неудобно, колени начали болеть, но ей было все равно. В сущности, физическое неудобство даже приносило ей удовлетворение.
Живешь год за годом в мире – и вот этот мир рушат прямо у тебя на глазах. В том, чтобы точно давать всему наименование, есть что-то злое, что-то безбожное. Об иных вещах говорить нельзя. Бродишь наугад в мутном мироздании и не задаешь лишних вопросов. Если в безмолвии таится смерть, тогда я принимаю смерть. Какой толк от нее отворачиваться? Мое тело постарело и отяжелело. Если сидеть на полу, то болят колени. Есть нечто невыносимое в том, что мужчина, с которым прожито столько лет, которого воспринимаешь совершенно безусловно как часть механизма жизни, вдруг превращается в какое-то совсем другое существо, в этого страшного вопрошателя, в этого растравителя позабытых минут.
Если живешь за стеной, значит, тебе так больше нравится – жить за стеной. За стеной свет тусклый, он не режет глаза. Сюда нет ходу воспоминаниям. Звучание жизни на расстоянии начинает слабеть, становится невнятным. Что-то варварское, дикое есть во всей этой затее, с тем чтобы ломать стены, проделывать дыры и расковыривать трещины в стене жизни.
Внутри женщины, Мэри Уэбстер, тоже шла борьба. Какая-то непривычная, другая жизнь то появлялась, то угасала в ее взгляде. Если бы в эту минуту в комнате появился кто-то четвертый, то именно ее он ощутил бы пронзительнее, чем тех, других.
Как же это ужасно – то, как ее муж Джон Уэбстер расстелил, подготовил это поле битвы, которая теперь бушует в ней. Этот мужчина все-таки – драматург. Все эти покупки – картинки с Девой, свечи, обустройство этой маленькой сцены, на которой предстояло разыграться спектаклю, во всем этом был безотчетный порыв к выразительности, свойственной искусству.
Быть может, по его виду было и не сказать, что он что-то такое задумывает, но с какой же дьявольской уверенностью он трудился. Женщина сидела на полу в полутьме. Между нею и горящими свечами – кровать, на которой сидят те, другие, один говорит, другая слушает. Весь пол вокруг в густых черных тенях. В поисках опоры она взялась рукой за косяк.
Огоньки свечей там, наверху, подрагивали. Свет попадал только на ее плечи, голову и поднятую руку.
Она почти полностью погрузилась в океан тьмы. И вот усталость достигла пика, и голова ее склонилась, так что казалось, будто она вся целиком погрузилась в океан.
Но рукой-то она по-прежнему держалась за косяк, и вот голова ее снова показалась над поверхностью. В ее теле пульсировал почти неуловимый ритм. Она была словно ветхая, наполовину затопленная лодка, что покоится на глади морской. Мелкая, дрожащая рябь световых волн резвилась на ее крупном, поднятом к потолку белом лице.
Вроде бы трудно стало дышать. И думать вроде бы стало трудно. Проживаешь год за годом, ни о чем не задумываясь. Лучше всего было покоиться на глади морской в океане безмолвия. Как мудро устроен мир: ведь он отвергает и превращает в изгоев всех, кто потревожит океан безмолвия. Тело Мэри Уэбстер подрагивало. Можно убить, но нет силы убить, нет знания, как убить. Убийству – и тому, хочешь не хочешь, надо учиться.
Это совершенно невыносимо, но время от времени ты обязана думать. Так уж оно устроено. Женщина выходит замуж за мужчину, а потом совершенно неожиданно обнаруживает, что вовсе не выходила за него замуж. В мире в ходу странные, неестественные понятия о браке. Дочерям нельзя рассказывать таких вещей, какие сейчас рассказывает их дочери ее муж. Может ли отец изнасиловать сознание собственной юной целомудренной дочери, заставив ее понимать неизъяснимые явления бытия? Если бы подобное было позволительно, то во что превратился бы весь благопристойный, упорядоченный уклад мира живых? Целомудренным девушкам не полагается ничего знать о жизни до тех пор, покуда не придет время ужиться, уже по-женски, с тем, что однажды просто пришлось принять.
В каждом человеческом теле есть великий колодец безмолвных раздумий, которым нет конца. Вслух произносятся те или иные строго определенные слова, но в то же самое время глубоко внутри, в самых потаенных глубинах, звучат слова иные. Это залежи мыслей и невысказанных чувств. Сколько же всего низвергнуто в глубокий колодец, спрятано в глубокий колодец!
Тяжелая железная крышка лежит на том колодце, зажимает колодцу рот. И когда эта крышка надежно закреплена в пазах, то бояться нечего. Ходишь-бродишь, говоришь слова, доедаешь пищу, надоедаешь людям, ведешь дела, копишь средства, носишь одежду, проживаешь свою нормальную упорядоченную жизнь.
Иногда по ночам, когда ты видишь сны, крышка немножко дрожит, но об этом никто не знает.
Зачем нам те, кто стремится сорвать крышки с колодцев, содрать стены, бороться? Лучше оставить все как есть. Тех, кто смеет тянуть лапы к тяжелым железным крышкам, следует убивать.
Тяжелая железная крышка на глубоком колодце в теле Мэри Уэбстер яростно дрожала. Она приплясывала на месте. Танцующее мерцание свечей было подобно мелким игривым волнам на спокойной глади морской. И другой танцующий свет, тот, что сиял в ее глазах, отвечал ему.
Джон Уэбстер, сидя на кровати, говорил свободно, легко. Уж коли он подготовил сцену, то и главную роль в спектакле тоже отдал себе. Сам-то он воображал, будто в центре событий этого вечера находится его дочь. Он даже смел думать, будто ему хватит сил изменить направление ее жизни. Эта юная жизнь была подобна реке, еще совсем узенькой: она течет сквозь тихие луга и издает лишь негромкое журчание. Через этот поток, который вскорости примет в себя другие потоки и станет рекой, – через него пока можно просто перешагнуть. И можно рискнуть и перегородить его бревном – тогда, как знать, удастся пустить его вспять. Все это отчаянная, почти бредовая затея, но тебе все равно никуда не деться от чего-то подобного.
Сейчас он выбросил из головы другую женщину, свою бывшую жену Мэри Уэбстер. Когда она удалилась из спальни, он подумал: наконец-то она сошла со сцены. Ему было приятно смотреть, как она уходит. В сущности, за всю их совместную жизнь он ни разу не имел с ней дела по-настоящему. Мысль, что она покинула пространство его жизни, принесла ему облегчение. Теперь можно вздохнуть глубже, вздохнуть привольнее.
Он думал, что она сошла со сцены – но вот она вернулась. Ему все еще придется считаться и с ней тоже.
В разуме Мэри Уэбстер начали пробуждаться воспоминания. Муж рассказывал историю об их свадьбе, но она не слышала его слов. История у нее внутри принялась сама себя рассказывать, и она начиналась с того далекого дня, далекого дня ее собственной юной женственности.
Она слышала, как из горла ее дочери вырвался крик о любви к мужчине, и крик этот разбередил в ней что-то до того глубинное, что это заставило ее вернуться в комнату, где ее муж и дочь сидели рядом на постели. Однажды тот же самый крик зародился в другой молодой женщине, но непонятно почему так и не вырвался наружу, не слетел с ее губ. В ту минуту, когда он вот-вот мог покинуть ее, в ту давнюю минуту, когда она лежала нагая на постели и смотрела в глаза нагому юноше, что-то такое, чему люди придумали имя «стыд», разделило ее и готовность этого счастливого крика слететь с ее губ.
Сейчас ее разум утомленно брел по времени вспять, вспоминая ту сцену в мельчайших деталях. То была одна давняя поездка по железной дороге, и сейчас она пустилась в нее снова.
Все было так запутанно. Сначала она жила в одном месте, а потом, будто какой невидимка ее подтолкнул, отправилась в гости совсем в другое.
Ехать надо было ночью, а спальных вагонов в поезде не было, так что ей пришлось трястись в сидячем и несколько часов кряду смотреть в темноту.
За окном вагона была темнота, и отступала она только время от времени, когда поезд на пару минут делал остановку в каком-нибудь городке в Западном Иллинойсе или в Южном Висконсине. Вдруг появлялось здание станции с подвешенным к стене фонарем и работник, зачастую один-единственный, который кутался в пальто и иногда толкал по перрону тележку с чемоданами и коробками. В одних городах люди садились на поезд, а в других – сходили с него и исчезали в темноте.
С нею рядом уселась старушка с корзиной, в которой сидел черный с белым кот, а когда она сошла на одной из станций, ее место занял какой-то старик.
Старик ни разу не взглянул на нее, но не переставая что-то бормотал, она никак не могла разобрать что. У него были седые лохматые усы; они свисали над сморщенными губами, и он то и дело поглаживал их костлявой старческой рукой. Слова, которые он бормотал вполголоса, невнятно звучали из-под ладони.
Молодая женщина из того стародавнего путешествия по железной дороге спустя какое-то время начала впадать в забытье, в полудрему. Разум обогнал тело и устремился к тому моменту, когда путешествие завершится. Девушка, с которой она была знакома по школе, пригласила ее в гости, и они обменялись несколькими письмами. Все время, что она пробудет в гостях, в доме будут находиться двое молодых мужчин.
Одного из них она уже видела. Он брат ее подруги и однажды приезжал в школу, где они обе учились.
А что за птица тот, другой? Даже смешно, сколько уже раз она задавала себе этот вопрос. Сознание рисовало ей самые фантастические образы.
Поезд мчался среди невысоких холмов. Вот-вот рассветет. Нынче днем будут холодные серые облака. Может быть, выпадет снег. Бормотливый старик с седыми усами и костлявыми руками сошел с поезда.
Полусонными глазами смотрела высокая и стройная молодая женщина на невысокие холмы и протяженные равнины между ними. Поезд проехал по мосту над рекой. Она соскользнула в сон, и обратно из сна ее вырвал толчок – то ли поезд тронулся, то ли остановился. Вдали виднелось поле, и через это поле в тусклом утреннем свете шел молодой человек.
Может быть, ей только приснился этот молодой человек, что шел через поле вдоль железной дороги? А может быть, она действительно его видела? И как был он связан с тем молодым мужчиной, которого ей еще только предстояло встретить в конце своего путешествия?
Было бы нелепо думать, что тот молодой человек посреди поля был из плоти и крови. Он шел с той же скоростью, что и поезд, легко перешагивал через ограды, стремительно пробирался по улицам городов, просачивался сквозь полосы сумрачных перелесков будто тень.
Когда поезд останавливался, он останавливался тоже и смотрел на нее с улыбкой. Почти наяву чувствуешь, как он входит в твое тело и выходит точно вот с такой же улыбкой. И эта мысль на удивление приятна. А вот он уже идет, все идет и идет по поверхности вод речных, пока вдоль реки мчится поезд.
И все время он смотрел ей в глаза: сумрачно, пока поезд шел через лес и сам наполнялся сумраком, и с улыбкой, когда они выбирались на открытое пространство. Было что-то в его глазах, что звало, завлекало. По телу разливалось тепло, и она беспокойно ежилась на сиденье.
Проводники растопили печь в конце вагона и закрыли все окна и двери. Как видно, сегодня все-таки не будет так уж холодно. В вагоне стояла невыносимая жара.
Она встала со своего места и, хватаясь за спинки других кресел, пробралась в конец вагона, открыла дверь и какое-то время стояла, глядя на пролетающий мимо пейзаж.
Поезд прибыл на станцию, где настала пора сходить и ей, и на перроне стояла ее подруга: та пришла на станцию на тот случай, если она вдруг все-таки приедет этим поездом.
И тогда она вместе с подругой отправилась в незнакомый дом, и мать подруги уговорила ее лечь в постель и поспать до вечера. Две женщины все спрашивали, как это она умудрилась поехать этим поездом, а ей нечего было ответить, и она немного смутилась. В самом деле, был ведь другой поезд, куда быстрее; она могла бы сесть на него и весь путь проделать при свете дня.
Просто было в ней какое-то лихорадочное желание поскорей выбраться из своего города и из дома матери. Она не смогла бы объяснить этого своим родным. Нельзя же сказать собственным матери и отцу, что просто хочешь дать деру. С этой поездкой дома началась такая кутерьма, вопросы за вопросами. И вот ее снова загнали в угол и засыпают вопросами, на которые у нее нет ответов. Она надеялась, что подруга сможет понять, и, преисполнившись этой надежды, все повторяла и повторяла то, что сотни раз без всякого толку говорила дома: «Мне просто хотелось это сделать. Я не знаю почему, мне просто хотелось».
И вот в незнакомом доме она улеглась в постель, довольная, что избавилась от назойливых расспросов. Когда она проснется, они уже выбросят все это из головы. Подруга зашла в комнату вместе с ней, и ей хотелось поскорее ее выпроводить, побыть хоть недолго одной.
– Я сейчас не буду распаковываться, просто скину одежду и завернусь в простыни. Я и так не замерзну, – сказала она.
Это было как-то чудно. Но она ведь и ждала, так ждала, что, когда приедет, все будет как-то по-другому: она надеялась, что все будут смеяться, что вокруг соберутся молодые люди и у них будет слегка смущенный вид. А сейчас она чувствовала одну только неловкость. Что они пристали к ней с этими вопросами, почему да почему она вскочила ни свет ни заря и поехала медленным поездом, вместо того чтоб подождать до утра? Иногда ведь хочется дурить по мелочам и чтобы никто не заставлял ничего объяснять. Когда подруга вышла из комнаты, она разделась, быстро забралась в постель и закрыла глаза. Вот еще как ей вздумалось подурить: почему-то захотелось быть голой. Если бы она не села в этот неудобный поезд, ей бы никогда не явилась фантазия о юноше, что гуляет в полях вдоль железной дороги, что шагает по улицам городов, что поспешает сквозь лес.
Иногда так хорошо побыть голой. У кожи появляется какое-то новое ощущение вещей. Ах, если б можно было почаще испытывать эту негу. Можно нырнуть в чистую постель, хоть иногда, когда устала и хочется спать, и это похоже на то, как если бы оказалась в крепких теплых объятиях того, кто может любить и понимать тебя, когда вдруг придет охота подурить.
Молодая женщина, лежащая в постели, спала, и во сне ее снова стремительно несло сквозь темноту. Женщина с котом и бормочущий старик больше не появлялись, но множество других людей приходили в мир ее снов и проходили его насквозь. Это был поспешный, спутанный марш удивительных событий. Она шла вперед, неуклонно вперед к тому, чего так жаждала. Вот-вот оно сбудется. Ей завладело великое стремление вперед.
Как это странно, что на ней нет одежды. Юноша, который так быстро шагал через поля, снова появился перед ней, но раньше она не замечала, чтобы он тоже был обнажен.
В мире стало темно. В мире сгустились сумерки.
И вот молодой мужчина перестал стремительно идти вперед и, как и она сама, замер в тишине. Они оба погрузились в океан безмолвия и парили в его толще. Он стоял и смотрел ей прямо в глаза. Он мог войти в ее дом и снова выйти. И мысль эта была бесконечно сладка.
Она лежала в мягкой теплой темноте, и ее плоть была горяча, слишком горяча. «Кто-то сдурил и растопил печь, а двери и окна открыть позабыл», – подумалось ей смутно.
Молодой мужчина, который подошел к ней так близко, который молча стоял так близко и смотрел ей прямо в глаза, – он мог сделать все хорошо. Его руки были всего в нескольких дюймах от ее тела. Еще мгновение – и они прикоснутся к ее телу, наполнят его прохладным покоем, и ее саму тоже, и ее тоже.
Какой сладостный покой был в том, чтобы смотреть молодому мужчине в глаза и отдавать ему самое себя. Его глаза сияют в темноте, будто крохотные озера, и можно броситься в воду. Окончательный и бесконечный покой и радость можно обрести, только если броситься в воду.
Можно мне остаться так навсегда и тихонько нежиться в мягких, теплых, темных озерах? Я очутилась в каком-то потайном месте, за высокой стеной. Снаружи голоса кричат: «Стыд! Стыд!» Когда прислушаешься к этим голосам, озера кажутся мутными, гнусными лужами. Что же мне – слушать их или зажать руками уши, закрыть глаза? Голоса за стеной становятся все громче, все громче, они кричат: «Стыд! Стыдись!» В голосах этих смерть. Но неужто если я зажму ладонями уши и не буду их слышать, неужто и в этом тоже – смерть?