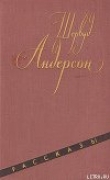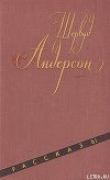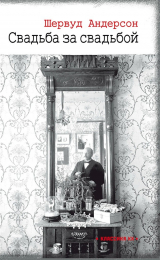
Текст книги "Свадьба за свадьбой"
Автор книги: Шервуд Андерсон
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
Джон Уэбстер с отвращением всплеснул руками и поспешно спрыгнул с кровати. Тело его жены зашевелилось, и она приподнялась и встала на четвереньки. На мгновение она замерла в таком положении и стала похожа на какое-нибудь огромное и неповоротливое животное, больное, изо всех сил пытающееся подняться и пойти.
А потом она все-таки поднялась, прочно уперлась ступнями в пол и медленно побрела прочь из комнаты, не глядя на них обоих. Ее муж стоял, вжавшись спиной в стену, и смотрел ей вслед. «Ну что ж, ей конец», – угрюмо подумал он. Дверь ее комнаты медленно надвигалась на него. Наконец она закрылась. «Иным дверям положено всегда оставаться закрытыми», – сказал он самому себе.
Но рядом по-прежнему была дочь, и она его не боялась. Он подошел к шкафу и, достав оттуда одежду, принялся одеваться. Он понял, что минута эта ужасна. Что ж, он разыграл все карты, что были у него на руках. Он был обнажен. А теперь он должен забраться в свою одежду, одежду, которая, он чувствовал, абсолютно бессмысленна, до предела уродлива, ибо безвестные руки, ее создавшие, не были движимы стремлением творить красоту. Нелепая мысль пришла ему в голову. «А есть ли у моей дочки чувство момента? Может, она сейчас сумеет мне помочь?» – спросил он себя.
И тут сердце подпрыгнуло у него в груди. Джейн вдруг повела себя так мило. Пока он наскоро напяливал одежду, она отвернулась и уткнулась лицом в постель, приняв точно ту позу, в какой минуту назад лежала ее мать.
– Я вышел из той комнаты в коридор, – заговорил он. – Мой друг как раз поднялся по лестнице и зажигал в коридоре лампу, она была прикреплена к скобе в стене. Ты вполне в состоянии представить, какие мысли в тот момент проносились в моей голове. Мой друг посмотрел на меня, ничего еще не зная. Ему, видишь ли, еще невдомек было, что в доме женщина, но он видел, как я выходил из комнаты. Когда я вышел и закрыл за собой дверь, он как раз зажег лампу, и она осветила мое лицо. Наверное, что-то в выражении моего лица поразило его. Позднее мы с ним никогда не говорили об этом. Оказалось, оба мы были смущены, напуганы тем, что произошло и только должно еще было произойти.
Я, видно, вышел из комнаты, пошатываясь, как лунатик. Что было у меня на уме тогда? Что было у меня на уме, когда я стоял рядом с ее обнаженным телом, и что – еще раньше? То была сцена, которая в жизни не может повториться. Только что ты видела, как твоя мать ушла к себе. Тебе, не ошибусь, любопытно, что у нее на уме. Я могу ответить тебе. У нее на уме нет ничего. Она превратила свой ум в пустырь, куда нет дороги ничему, что наделено смыслом. Она потратила на это всю свою жизнь, как и, не ошибусь, большинство людей.
А что до того вечера, когда я стоял в коридоре и лампа освещала меня и друг мой глядел на меня и гадал, что же такое стряслось – об этом-то в конце концов я и должен попытаться тебе рассказать.
Теперь он был наполовину одет, а Джейн снова сидела на кровати прямо. Он подошел и сел рядом в наброшенной на плечи рубашке. Многие годы спустя она вспоминала, каким невероятно юным выглядел он в ту минуту. Казалось, он полон решимости заставить ее полностью понять все, что тогда произошло.
– И вот, пойми, – медленно продолжил он. – Она до того видела и моего друга, и его сестру, но она никогда не видела меня. Но она ведь знала, что, когда она приедет, я буду гостить в этом доме. Конечно же она задумывалась о незнакомом юноше, с которым ей предстояло встретиться, и не буду отрицать, что и сам я тоже о ней думал.
В ту самую минуту, когда я вошел к ней, голый, она была для меня живым существом. И когда она вышла ко мне из своего сна, понимаешь, еще прежде, чем она успела подумать, – тогда я тоже был для нее живым существом. Мы посмели осознать, что друг для друга мы живые существа – но только на мгновение. Сейчас я это знаю, но на протяжении долгих лет после тех событий я не знал, я только лишь пребывал в смятении.
Я пребывал в смятении и тогда, когда вышел в коридор и остановился перед своим другом. Ты понимаешь, ведь он не знал, что она в доме. Я должен был что-то ему сказать, а это было все равно что при всех трепаться о том таинстве, что разыгрывается между двумя людьми в минуту любви.
Понимаешь, этого было никак нельзя, так что я стоял там, мямлил что-то себе под нос, и от этого все становилось только хуже и хуже с каждой минутой. У меня, наверное, был виноватый вид, и спустя миг я уже и чувствовал себя виноватым, хотя пока я стоял там, в той комнате, подле кровати – я уже объяснял, я совсем не чувствовал вины, на самом деле даже наоборот.
«Я вошел в комнату голый и встал у кровати, и эта женщина все еще там, совсем нагая», – сказал я. Мой друг, конечно, удивился. «Какая еще женщина?» Я попытался объяснить. «Подружка твоей сестры. Она совсем нагая там, на кровати, а я вошел и встал рядом. Она приехала полуденным», – сказал я.
Понимаешь, выглядело все это так, как будто я знал. Я чувствовал себя виноватым. Вот что со мной творилось. Ясное дело, я мямлил, я был смущен. «Он никогда не поверит, что это была случайность. Он решит, что я задумывал какую-то дичь», – вдруг подумалось мне. Посещали его или нет мысли, которые в ту минуту пришли в голову мне – хотя бы одна из них, – мысли, в которых я его тогда, можно сказать, обвинял, – этого я так и не узнал. С той минуты я всегда был чужаком в этом доме. Понимаешь, чтобы внести в эту историю, в мой поступок, полную ясность, надо было без конца оправдываться, оправдываться вполголоса и исподтишка, а я таким никогда не грешил, и даже после того как мы с твоей матерью поженились, между мной и моим другом все изменилось навсегда.
И вот я стоял там и мямлил, а он не сводил с меня озадаченного, потрясенного взгляда. В доме стояла такая тишина, и я помню, как свет лампы, той, что была на этой скобе, падал на наши с ним нагие тела. Мой друг, человек, который был свидетелем той минуты, того поворотного момента моей жизни, теперь мертв. Он умер лет восемь назад, и мы с твоей матерью надели свою лучшую одежду и в экипаже поехали на отпевание, а потом на кладбище – смотреть, как его тело опускают в землю; но в ту минуту в коридоре он был такой живой, и я всегда буду вспоминать его таким, каким он был тогда. Мы целый день слонялись по полям, и он, как и я, помнишь, был только что после купания. Его молодое тело было очень стройным, крепким, оно было словно светящийся белый отпечаток на темной стене коридора, рядом с которой он стоял.
Мы оба думали, что произойдет что-то еще, мы ждали, когда же произойдет что-то еще? Мы больше не говорили друг с другом, мы стояли молча. Пожалуй, он просто был поражен моим заявлением – что я только что сделал – и еще каким-то странным отзвуком в том, как именно я это говорил. Будь все как всегда, кончилась бы эта история обычным хихиканьем в кулак и больше ничем и все было бы позабыто – всего лишь не совсем пристойный, упоительный анекдот, – но тем, как я говорил и как держался, когда вышел к нему из комнаты, я сам уничтожил всякую возможность так ее толковать. Я наверное, был слишком смущен и вместе с тем недостаточно смущен значительностью своего поступка.
И мы просто стояли и молча глядели друг на друга, и тут дверь на первом этаже, ведущая на улицу, открылась, и в дом вошли его мать и сестра. Они воспользовались тем, что гостья легла спать, и отправились в центр за покупками.
А что до меня – нет на свете ничего труднее, чем описать, объяснить происходившее со мной в ту минуту. Я с трудом держал себя в руках, можешь мне поверить. Теперь, в эту минуту, я думаю, что тогда, в ту минуту много лет назад, когда я стоял голый в коридоре рядом со своим другом, что-то покинуло меня такое, что мне в ту минуту было никак не вернуть назад.
Может быть, когда ты станешь старше, ты сможешь понять – раз сейчас не можешь.
Джон Уэбстер посмотрел долгим, тяжелым взглядом на свою дочь, и она тоже смотрела на него. Для них обоих история, которую он рассказывал, вдруг стала какой-то безликой. Женщина, которая была связана с ними так тесно, была для них матерью и женой, безвозвратно исчезла из этой истории, точно так же, как несколькими мгновениями раньше она, шаркая, ушла из этой комнаты.
– Видишь ли, – проговорил он медленно. – Чего я тогда не понимал, чего я и не мог тогда понимать, это то, что, влюбившись в женщину, лежавшую на кровати в той комнате, я покинул самого себя. Никто не понимает, что событие, подобное этому, может настигнуть просто так, совершенно случайно, словно мысль, сверкнувшая в уме. Теперь я пришел к вере – и я хотел бы запечатлеть это в твоем мозгу, молодая женщина, – что такие минуты настают во всякой жизни, но из миллионов людей, родившихся на свет и проживающих свои долгие или короткие жизни, лишь немногие приходят для того, чтобы и в самом деле узнать, что такое жизнь. Понимаешь, есть в людях какой-то упрямый отказ от жизни.
Тогда, давным-давно, я стоял в коридоре рядом с комнатой этой женщины, и я был потрясен. Нечто сверкающее возникло между этой женщиной и мной в тот миг, который я тебе описал, в тот миг, когда она вышла ко мне из сна. Это коснулось чего-то в самой глубине наших существ, и я все никак не мог прийти в себя. То была свадьба, то было нечто бесконечно личное для нас обоих, и вдруг волей судьбы это оказалось выставлено на потребу публике. Я думаю, все сложилось бы точно так же, будь мы в доме только вдвоем. Мы были очень молоды. Иногда я думаю, что все люди в мире очень молоды. Они не в силах нести пламя жизни, когда оно вспыхивает и оживает в их руках.
А в комнате за закрытой дверью женщина, должно быть, в эту самую минуту испытывала это же самое чувство, точь-в-точь как я. Она приподнялась и теперь сидела на краю кровати. Она прислушивалась к неожиданной тишине дома, как прислушивались к ней мой друг и я сам. Может быть, нелепо так говорить, и все равно ясно, что мать и сестра моего друга, только что вошедшие в дом, сами того не зная, пострадали тоже, пока стояли там, внизу, не снимая пальто и прислушиваясь.
Именно тогда, в ту самую минуту, женщина в погруженной в темноту комнате зарыдала, как дитя, которому разбили сердце. Что-то сокрушительное произошло с ней, а она не умела этого удержать. Конечно же самой понятной причиной этих ее рыданий, единственной причиной, которой она могла объяснить свое горе, был стыд. Вот что, думала она, с ней стряслось – она попала в унизительное, смешное положение. Она была совсем еще юная девушка. Она, конечно, уже успела задать себе вопрос: что подумают другие. Во всяком случае, и в ту минуту, и после я был гораздо чище, чем она.
Звуками ее рыданий, как звоном, огласился весь дом, и мать моего друга вместе с сестрой – а они, я уже говорил, все это время стояли и прислушивались – уже бежали к лестнице, чтобы подняться к ней.
А я, я сделал то, что остальным должно было показаться смешным, почти преступным. Я подбежал к двери, ведущей в спальню, рванул ее на себя, вбежал внутрь и захлопнул дверь за собой. К этому времени в комнате стало уже почти совсем темно, но я, не колеблясь ни секунды, бросился к ней. Она сидела на краю кровати, и от рыданий ее тело раскачивалось взад-вперед. В ту минуту она была как стройное юное деревце посреди открытого поля, где поблизости нет ни единого другого дерева, которое могло бы его защитить. Она будто бы содрогалась под порывами урагана, вот что я пытаюсь сказать.
И вот, понимаешь, я бросился к ней и обхватил руками ее тело.
То, что произошло с нами тогда, произошло еще раз, всего раз, в последний раз в нашей жизни. Она отдала себя мне, вот что я пытаюсь сказать. И это была еще одна свадьба. На мгновение она совсем затихла, и в неверном свете она обратила ко мне свое лицо. Это был тот же взгляд – будто бы кто-то пришел ко мне из глубоко запрятанного места, со дна моря или еще из какой-нибудь дали. Я всегда так думал о месте, откуда она пришла, – что это море.
Я не боюсь сказать, что если бы хоть кто-то кроме тебя слушал сейчас мой рассказ или если бы я рассказывал тебе это при менее странных обстоятельствах, ты бы и подумала только, что я романтический дурень. «Она ведь испугалась», – сказала бы ты, и, поверь мне, так оно и было. Но было и другое. Пускай в комнате было темно, я чуял это сияние глубоко у нее внутри, я чуял, как оно поднимается прямо ко мне. Эта минута была невыразимо прекрасна. Это продлилось всего долю секунды, будто щелчок затвора в фотоаппарате, а потом прошло.
Я все еще крепко держал ее, и дверь открылась, и на пороге появились мой друг, и его мать, и сестра. Он снял лампу со скобы на стене и теперь держал ее в руке. Она сидела на кровати, вся нагая, а я стоял рядом, упершись коленом в матрас и крепко обхватив ее руками.
2
Прошло еще с четверть часа, и Уэбстер был наконец готов оставить дом и вместе с Натали отправиться навстречу новому приключению жизни. Уже совсем скоро он будет с ней, и все нити, связывающие его с жизнью прежней, окажутся перерублены. Ему было совершенно ясно, что, как бы ни повернулось дело, он больше никогда не увидит свою жену и, быть может, никогда не увидит эту женщину, что сидит сейчас с ним в комнате, – свою дочь. Раз по силам распахнуть, взломать двери жизни, то и закрыть их сможешь тоже. Ты можешь выйти из какой-то фазы твоей жизни, как из комнаты. Ты оставишь за собой следы, но тебя здесь больше нет.
Он застегнул ворот, надел пальто, он проделал все это с величайшим спокойствием. Еще он собрал небольшой чемодан, положив в него запасные рубашки, пижаму, туалетные принадлежности и прочее.
Все это время его дочь сидела в изножье кровати, уткнувшись лицом в собственный согнутый локоть, которым опиралась о бортик. Думала ли она? Говорили в ней голоса или нет? О чем она думала?
Теперь, когда отец прервал рассказ о своей жизни в этом доме и занялся всеми этими неизбежными бездумными пустяками, предваряющими путь к новой жизни, пришел черед набухающих минут молчания.
Не было сомнения, что, если он и впрямь тронулся умом, безумие в нем неуклонно становилось размереннее, превращалось в привычку его существа. Все глубже и глубже пускало в нем корни новое видение мира или даже скорее фантазия; а если мы подберем какое-нибудь современное словечко, как позднее со смехом делал он сам, то скажем, что ему постоянно приходилось ловить такт нового ритма жизни.
Во всяком случае, потом, много лет спустя, когда ему случалось рассказывать о своих нынешних переживаниях, говорил он так: вот если вы приложите усилие и просто дадите себе волю, то вам будет уже нипочем проживать жизнь как заблагорассудится. Когда он говорил об этом много лет спустя, создавалось впечатление, что он без всякой натуги уверовал: имея довольно таланта и мужества, человек способен как ни в чем не бывало ходить по воздуху, скажем, на уровне второго этажа, заглядывать в окна и смотреть на людей, занятых своими делами, подобно известному историческому персонажу с Востока, который, как говорят, некогда разгуливал по водам морским. Это тоже была часть той мысли, которую он поселил у себя в голове, – мысли о том, как рушатся стены и люди выходят из своих темниц.
Как бы то ни было, сейчас он стоял у себя в комнате, скажем, поправляя булавку в галстуке. У него был небольшой чемодан, куда он сложил вещи, все, как ему казалось, что может пригодиться. В соседней комнате его жена, которая, занимаясь проживанием собственной жизни, превратилась в какое-то громоздкое и вялое существо и в безмолвии лежала на кровати, точно так же, как недавно лежала она перед ним и его дочерью.
Что за темные и страшные мысли наполняли ее разум? Или, может быть, разум ее чист и бел – таков, каким, думал порой Джон Уэбстер, он стал уже давно?
За его спиной, в этой же комнате, была его дочь, в этой своей тоненькой ночнушке, с волосами, рассыпавшимися по щекам и по плечам. Ее тело – а он видел его отражение в зеркале, покуда завязывал галстук, – поникло, обмякло. Переживания этого вечера конечно же лишили чего-то ее тело, может быть, навсегда. Он подивился этому, и взгляд его, блуждая по комнате, вновь обратился к Пресвятой Деве, к свечам, горевшим по сторонам ее лица, – она смотрела на них спокойно. Может быть, этому-то спокойствию и поклонялись люди в Пресвятой Деве. Странная прихоть судьбы подтолкнула его привести ее, спокойную, в эту комнату и сделать соучастницей всего этого удивительного действа. Не было сомнения, что и он сам был так же спокоен и девственен в ту минуту, когда тащил, тащил из своей дочери это что-то; да, именно тогда начало иссякать то, что делало ее тело таким обмякшим, таким зримо безжизненным. Не было сомнения, что он отважился… Рука, завязывавшая галстук, слегка подрагивала.
И сомнение явилось. Как я уже говорил, в доме в эту минуту стояла полная тишина. В соседней комнате его жена лежала на постели и не издавала ни звука. Она плыла по океану безмолвия, так же, как и всегда с той самой ночи, той стародавней ночи, когда стыд, приняв облик обнаженного, потерявшего разум мужчины, сковал своими объятиями ее наготу на глазах у тех, других людей.
Неужто то же самое он сотворил со своей дочерью? Неужто он и ее погрузил в волны этого океана? Это была поразительная, страшная мысль. Ты все делаешь шиворот-навыворот, становясь безумным в разумном мире или разумным в безумном. Вдруг ни с того ни с сего все опрокинулось, все перевернулось с ног на голову.
И ведь вполне могло оказаться, что дело-то все вот в чем: просто-напросто он, Джон Уэбстер – человек, который ни с того ни с сего влюбился в собственную стенографистку, вздумал сбежать и зажить с нею вместе, и у него попросту не хватило духу претворить этот нехитрый замысел в жизнь, не разводя из этого чертовой чехарды, не оправдывая себя за счет других с помощью – скажем уж начистоту – юродивых умствований. Только чтобы оправдать себя, он измыслил всю эту ошалелую возню с расхаживаньем в голом виде перед молоденькой девушкой – его дочерью, между прочим, а ведь она как дочь была вправе рассчитывать на предельную деликатность с его стороны. Ясное дело, то, как он себя вел, показалось бы кому-то совершенно, совершенно не простительным. «В конце концов, я ведь по-прежнему всего лишь владелец фабрики стиральных машин в маленьком висконсинском городке», – прошептал он самому себе, нарочно высвистывая слова медленно, отчетливо. Это следовало держать в уме. Теперь чемодан собран, а он закончил одеваться и был готов идти. Порой, когда разум больше не в силах двигаться вперед, тело заступает на его место, и тогда завершение начатого дела становится необратимым, неизбежным.
Он прошел через комнату и постоял немного, глядя в спокойные глаза Девы, смотревшей на него из рамки.
Снова запели его мысли, словно звон колоколов, несущийся над лугами. «Я в комнате, в доме, на улице, в городе, в штате Висконсин. В эту минуту большинство людей здесь, в городе, людей, среди которых я прожил всю свою жизнь, – они в постелях, они спят, но завтра утром, когда меня уже здесь не будет, город останется там же, где был, и двинется дальше дорогой своей жизни, как он делал это всегда с тех самых пор, как я был еще молодой балбес, женился на женщине и зажил своей нынешней жизнью». Таковы были эти ясные, видимые глазу вехи существования. Носишь одежду, ешь, барахтаешься среди таких же, как ты, женщин и мужчин. Есть фазы жизни, что проживаются под покровом ночи, а есть такие, которым под стать свет дня. Пожалуй, поутру три женщины, работающие в его конторе, да и управляющий тоже, будут заниматься своими обычными хлопотами. Пройдет время, и, когда не появятся ни он сам, ни Натали Шварц, они начнут переглядываться. Потом поползет шепоток. Это тот самый шепоток, который пронесется по всему городу, войдет во все дома, в магазины, в лавочки. Мужчины и женщины на улицах будут останавливаться посудачить, мужчины с мужчинами, женщины с женщинами. Женщины, которые вместе с тем и жены, будут настроены скорее против него, а мужчины будут скорее завидовать, но мужчины говорить о нем станут, пожалуй, с куда большей озлобленностью, нежели женщины. И все это – только для того, чтобы сохранить в тайне мечту: каким-то образом положить конец смертной скуке своего существования.
По лицу Джона Уэбстера расползлась улыбка, и тогда он уселся на пол у ног дочери и дорассказал ей историю своей семейной жизни. В конце концов, он находил какое-то нехорошее, злобное удовольствие в том, чтобы уничтожить всю свою прежнюю жизнь. А что дочь? Природа – и это тоже правда – сделала нерушимой существующую между ними связь. Он может преподнести дочери любую новую мысль о жизни, какая ни придет ему в голову, и пусть она ее отвергнет – зато это станет для нее поводом самой принять решение. Люди не будут ее винить. «Бедная крошка, – скажут они. – Какой позор иметь такое убожество вместо отца!» А если посмотреть на это иначе? Вдруг, услышав все, что он должен ей сказать, она решится ускорить свой бег сквозь жизнь, распахнуть жизни объятия, как говорится, и тогда его нынешние поступки будут ей в помощь. Вот Натали – ее старая мамаша устраивала ей одни гадости, она напивалась в стельку, она кричала так, что всем соседям было слышно, и обзывала шлюхами своих трудолюбивых дочерей. Может быть, нелепо думать, будто от такой матери будет больше проку в будущем, нежели от матери безупречной, респектабельной, и все же в этом перевернутом с ног на голову мире, где все шиворот-навыворот, – почему бы нет?
Во всяком случае, в Натали есть какая-то тихая уверенность, и ему самому, даже в минуты сомнения, она несет удивительный покой и исцеление.
«Я люблю ее, я принимаю ее. Если распустившаяся мать Натали, оглашая улицы дикими воплями в отрешенном блеске опьянения, проторила для нее чистый путь, да здравствует и она тоже», – подумал он, улыбнувшись собственным мыслям.
Он сидел у ног дочери и тихо рассказывал, и пока он говорил, что-то и в ней самой утихло. Она слушала с непрестанно растущим интересом и время от времени поглядывала на него сверху. Он сидел к ней очень близко и иногда, слегка наклонившись, прижимался щекой к ее ноге. «Паскудник! Он небось и ее под себя подмял». Ей-то совершенно точно ничего такого в голову не приходило. Неуловимое ощущение надежности, уверенности передавалось ей от него. Он снова рассказывал о своей свадьбе.
На закате его юности, когда друг, его мать и сестра вошли к нему и к женщине, на которой ему предстояло жениться, его вдруг одолела та же напасть, что позже оставила незаживающий рубец на ее существе. Его одолел страх.
И что же вы приказали бы ему делать? Как следовало ему объяснить то, что он уже во второй раз ворвался в комнату к обнаженной женщине? Такое объяснить нельзя. Охваченный безысходной тоской, он выскочил из комнаты, пронесся мимо стоявших на пороге людей и побежал по коридору – на сей раз в комнату, которая ему предназначалась.
Он прикрыл и запер за собой дверь, а потом принялся одеваться, быстро, с лихорадочной поспешностью. Только полностью одевшись, он взял саквояж и вышел из комнаты. В коридоре тихо, лампа заняла свое место на скобе. Что произошло? Хозяйская дочь, конечно, сидит сейчас с этой женщиной и пытается ее успокоить. Друг его, наверное, пошел к себе и сейчас одевается и конечно же тоже думает думу. Так уж заведено отныне, что в этом доме не будет конца смущенным, взволнованным думам. Все было бы в порядке, не войди он в комнату во второй раз, но как ему теперь объяснить это второе вторжение, столь же ненамеренное, как первое? Он быстро спустился по ступенькам.
Внизу он столкнулся с матерью своего друга, женщиной лет пятидесяти. Она стояла в дверях столовой. Служанка накрывала ужин. Здесь блюли законы ведения дома. Было время ужина – и через несколько минут все люди в доме сядут ужинать. «Боже мой, – подумал он. – Неужто она может спуститься сейчас сюда и сесть за стол со мной и остальными? Могут ли привычки бытия так скоро восстановиться после потрясения столь глубокого?»
Он опустил саквояж на пол у своих ног и посмотрел на старшую женщину.
– Я не знаю… – заговорил он и так и замер, глядя на нее и невнятно что-то бормоча.
Она была смущена, как наверняка были смущены в ту минуту все в доме, но в ней было что-то такое, очень доброе, и от нее исходило сочувствие, даже когда она ничего не понимала. Она заговорила.
– Это была случайность, никому от нее никакого вреда, – начала она, но он не стал ждать, не стал слушать.
Подхватив саквояж, он бросился из дома.
Что же теперь делать? Он помчался через весь город к своему дому; тот стоял темный, безмолвный. Отец и мать уехали. Бабушка – мать его матери – жила в другом городе и была очень больна, так что отец и мать уехали к ней. Они вернутся только через несколько дней. Дом стоял пустой, обеих служанок отпустили. Внутри не горело ни огонька. Он не мог здесь остаться, он должен был отправиться в гостиницу.
«Я вошел в дом и опустил саквояж на пол у двери», – говорил он, и дрожь пробежала по его телу, когда он вспомнил тот давний тоскливый вечер. А ведь это должен был быть вечер веселья. Четверо молодых людей собирались потанцевать, и в предвкушении па, какие он мог бы выделывать вместе с новой девушкой, незнакомкой из другого города, он еще загодя взвинтил себя до полуисступления. Вот ведь черт! – он надеялся найти в ней что-то такое – но что же? – что-то такое, что каждый безусый дурачок мечтает обнаружить в какой-нибудь незнакомке: вот она однажды явится перед ним как из-под земли и принесет с собой новую жизнь – и подарит ему совершенно открыто, ничего не прося взамен.
– Понимаешь, эта мечта, конечно, несбыточная, это и так ясно, но в юности ты все равно об этом мечтаешь, – сказал он с улыбкой. Он улыбался все время, пока рассказывал эту часть истории. Понимала ли дочка то, что он говорил? Не стоило к этому слишком придираться.
– Эта незнакомка должна явиться перед тобой облаченная в сияющие одежды, со спокойной улыбкой на лице, – продолжал он воплощать перед нею свою фантазию. – Она держит себя с таким царственным изяществом, и в то же время, понимаешь, в ней нет ничего холодного, отстраненного, она не из таких. Вокруг нее множество мужчин, и все они, вне всяких сомнений, заслуживают ее куда больше, чем ты сам, и все же она идет к тебе, она ступает медленно, и все тело ее полно жизни. Она – несказанно прекрасная Дева, но есть в ней и что-то очень земное. А если говорить начистоту – она может быть очень холодной, очень гордой и отстраненной, когда дело касается кого угодно, только не тебя, – но когда она с тобой, от ее холодности не остается и следа.
Она подходит к тебе, и ее рука, на которой она держит перед собой, перед своим юным стройным телом золотой поднос, – ее рука слегка дрожит. На подносе шкатулка, маленькая, искусной резьбы, а внутри сокровище, талисман, и он – для тебя. Сейчас ты достанешь из шкатулки сокровище, золотое кольцо с камнем, и наденешь на палец. Это просто пустяк. Удивительная прекрасная женщина принесла это, чтобы вот так, у всех на глазах, показать: она у твоих ног. Вот твоя рука тянется к шкатулке, вот ты берешь кольцо, и все ее тело начинает сотрясаться, и золотой поднос падает на пол с оглушительным грохотом. Со всеми, кто стал свидетелем этой сцены, происходит нечто необычайное. Внезапно все присутствующие осознают, что ты, которого они привыкли считать самым обыкновенным парнем, впрочем, нет – если говорить по правде, не обыкновенным, а таким же чистеньким, как они, – и вот, понимаешь, их почти силой заставляют осознать твое подлинное «я». Вдруг ты предстаешь перед ними во всем многоцветье своего истинного оперения, наконец-то они его видят. От тебя исходит какая-то лучистая величественность, она освещает комнату, где все собрались – ты сам, незнакомка и все прочие, мужчины и женщины твоего города, которых ты знал всю жизнь, которые всю жизнь думали, что знают тебя, и вот теперь они смотрят на тебя и задыхаются от изумления.
Это всего лишь мгновение. И тут происходит самое невероятное. На стене висят часы, и часы эти все тикают, тикают, они сокращают твою жизнь и жизнь всех остальных. А за пределами комнаты, где разыгрывается эта удивительная сцена, есть улица со всей своей уличной сутолокой. Мужчины и женщины наверняка сбиваются с ног, поспевая то туда, то сюда, поезда приходят и уходят к дальним станциям, а еще дальше – корабли, они плывут по просторным морям, и великий ветер вздыбливает воды этих морей.
И вдруг все останавливается. Честное слово. Часы на стене перестают тикать, поезда, что только что мчались вдаль, замирают в бездвижности, люди на улицах, которые начали было говорить друг другу слова, так и стоят с открытыми ртами, и над морем успокаивается ветер.
Вся жизнь повсюду скована этой минутой тишины, и вот тогда то, что спрятано у тебя глубоко внутри, заявляет о себе во весь голос. Ты делаешь шаг, выходя из великой неподвижности, и заключаешь женщину в объятия. Мгновение – и все живое снова может двигаться и быть, но после этого мгновения жизнь навеки будет окрашена этим твоим движением, этой вашей свадьбой. Ибо для этой свадьбы и были созданы ты и женщина.
Возможно, все это увлекает нас к самым дальним пределам фантазии, как Джон Уэбстер поспешил пояснить Джейн, и все же вот он сидит в спальне на втором этаже, вместе со своей дочерью, так близко к своей дочери, которой он раньше вовсе не знал, и пытается рассказать ей о том, что чувствовал тогда, в молодости, когда разыгрывал величайшего в мире наивного олуха.
– В доме было как в могиле, Джейн, – сказал он, и голос его прервался.
Было ясно, что стародавняя мальчишеская мечта в нем по-прежнему жива. Даже теперь, уже достигший зрелости, он ощущал ее слабый, едва уловимый аромат, пока сидел на полу у ног дочери.
– В доме весь день никто не зажигал огня, а на улице становилось все холоднее, – заговорил он снова. – По всему дому расползался эдакий сырой холод, какой всегда нагоняет мысли о смерти. Ты, конечно, помнишь, что я тогда думал, все еще думал о своем поведении в доме друга как о безумии, как о каком-то мороке. Видишь ли, наш дом топился печами, и у меня в комнате, наверху, была своя маленькая печка. Я пошел в кухню – там за печью, в ящике, всегда хранилась щепа для растопки, уже нарезанная, так что я набрал охапку и пошел наверх.
В коридоре, возле самой лестницы, я споткнулся в темноте о ножку кресла, и вся эта охапка высыпалась на сиденье. Я стоял там в темноте, стараясь думать – и не думая. «Я, наверное, заболеваю», – подумал я. У меня не осталось ни капли чувства собственного достоинства – в такие моменты, пожалуй, и вовсе невозможно ни о чем думать.