
Текст книги "Обители пустыни"
Автор книги: Шарлотта Брайсон-Тейлор
Жанры:
Ужасы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
Глава V СОЛНЕЧНЫЙ УДАР
День спустя Ибрагим сообщил, что исчез Мусса. Ибрагим нервничал и не скрывал этого. Люди, заявил он, стали тревожиться; сам он будет счастлив, когда работы в этом крае завершатся. Место это нечестиво. Кроме того, он сообщил, что видел Муссу минувшей ночью и что Мусса вел себя странно, говорил не переставая о розовых садах и неведомых ароматах, названия которых никто не знал, и сказал, что если вновь увидит Женщину, непременно последует за ней. Следовательно, не могло быть сомнений в том, что Мусса сошел с ума, торжественно заключил Ибрагим, ибо Богу-Господу известно, что близ лагеря нет ни единой женщины, и никаких благовоний, одна лишь вонь скотного загона. О да – Мусса обезумел, лишился рассудка, иного объяснения и быть не могло. Вследствие этого, Меррит приказал обыскать лагерь, надеясь обнаружить припрятанное спиртное, но не нашел ровным счетом ничего. Люди стояли и молча смотрели, пока обыскивали их палатки. Той ночью в лагере никто не пел; землекопы собрались вместе и спали группами по три-четыре человека.
Несколько часов спустя Дин, возвращаясь к своей палатке, наткнулся на Холлуэя, который растянулся на земле, опираясь подбородком на руки.
– Осторожнее! – тихо сказал Холлуэй, не двигаясь с места. – Посмотри только на эту восходящую луну.
Его голос утратил обычную веселость и казался усталым. Дин решил, что юноша тоскует по дому и его, возможно, неплохо было бы немного приободрить; он принял прозвучавшее в словах Холлуэя приглашение и сел рядом. Луна, поднимаясь над величественным Холмом затерянного города, окрасила небосвод глубоким иссиня-черным цветом; земля предстала дремлющим морем светоносного серебра, окутанным бесконечным одиночеством и покоем.
– Да, великолепно, – вяло согласился Дин. Внезапно он сообразил, что восход луны, обыкновенно вызывавший у Холлуэя бурю поэтических восторгов, этой ночью никак того не вдохновлял. Он, всегда такой живой и деятельный, сделался вдруг рассеянным и безразличным. Дин гадал, не перегрелся ли часом молодой фотограф на солнце, когда Холлуэй нарушил молчание; говорил он с некоторой неуверенностью и стесненностью, благодаря чему внезапно показался Дину совсем мальчишкой.
– Знаешь, Дин, я вот раздумывал, есть ли, в конце концов, доля правды в россказнях наших землекопов? Я не имею в виду всю эту ахинею о женщине, но, сегодня вечером я сам кое-что видел.
– Где именно? – так же серьезно спросил Дин. Темнота скрыла улыбку иронической терпимости на его лице.
– Внизу, среди могил.
Голос Холлуэя звучал торжественно.
– Стало быть, какой-то козел вырвался на свободу, – бодро предположил Дин.
– О, можешь надо мной смеяться, если хочешь! – с неожиданной твердостью произнес Холлуэй. – Разумеется, дальше ты скажешь, что это был один из наших рабочих. Не исключаю, но готов поклясться, что это было нечто иное. Для чего рабочим бродить здесь в такое время, когда и во имя спасения своей бессмертной души ни один из них не посмеет приблизиться к проклятому месту после наступления темноты?
– Тогда почему ты сам туда пошел? – спросил Дин.
Услышав ответ Холлуэя, негромкий, со странным задыхающимся хрипом, Дин выпрямился во тьме, пытаясь разглядеть лицо друга.
– Не знаю. Как ни, глупо это звучит, ничто, не может отвадить меня от этого места. Говорю тебе, Дин, я был там четыре последние ночи, каждую ночь, и я боюсь его до смерти.
– Если так, зачем же, ради всего святого, ты туда ходишь? – изумился Дин.
– Говорю же, я ничего не могу с собой поделать! – нетерпеливо ответил Холлуэй. – Не успеваю оглянуться, как я уже там. Скажи мне, Дин, когда люди получают солнечный удар, не наделяет ли это их способностью видеть вещи… которых на самом деле нет, понимаешь?
– Не знаю, – медленно начал Дин и умолк, вспомнив картину, что не покидала его теперь ни днем, ни ночью: тускло освещенная гробница, скорчившаяся на полу и блистающая драгоценностями мумия с горящими глазами и сам он, почти лишившийся чувств, сраженный ужасающим солнечным ударом, раздирающий голыми руками земляной завал в агонии идиотического страха.
– Да, это так, – решительно сказал он.
Холлуэй глубоко, с облегчением вздохнул.
– Хвала небесам! Если бы не это объяснение, я уж точно рассудил бы, что начинаю сходить с ума… Какая прекрасная ночь! Похожа на те, что бывают у нас на родине поздней весной.
Он с удовольствием потянулся, расслабил все свое мускулистое тело и поглядел вверх на повисшую в небе луну. Дин понимал, что Холлуэю было необходимо выговориться, по-своему излить терзавшее его смутное беспокойство, и слушал фотографа краем уха, не слишком вникая в его болтовню.
– Там есть холм позади старого дома, – продолжал мальчишеский голос. – Луна появляется из-за него точно так же, как здесь, когда восходит каждую ночь за Холмом затерянного города. И там есть большое старое яблоневое дерево, а прямо под ним разбита клумба, где растут фиалки. Я вдыхал их аромат целый день – словно в любую минуту мог посмотреть вниз и увидеть, как они растут в тепле и сырости. Забавно, как человек может заставить себя поверить, что чувствует запах цветов, тогда как на тысячу миль вокруг цветов нет и в помине, и как простое воспоминание об этом запахе возвращает его к давным-давно забытым вещам. Не пойму, отчего я вообразил все это, но воспоминание оказало на меня довольно любопытное действие: я начал скучать по своему маленькому щенку бультерьера, как никогда и ни о чем не тосковал в этом бренном мире. Я отдал бы половину себя, чтобы он оказался сейчас рядом со мной и положил голову мне на колени; и я даже не знаю, почему так, ведь фиалки никак не связаны с бультерьерами.
Дин встряхнулся, сознавая лишь то, что Холлуэй продолжает говорить.
– Фиалки? – переспросил он.
– Я просто рассказывал о Кено, своей собаке, – грустно произнес Холлуэй. – Эта луна заставила меня вспомнить о доме, и о старом саде с фиалками – клянусь, я буквально чувствую их запах прямо сейчас – и одно потянулось за другим, и я стал думать о своем щенке. Больше я сейчас ни о чем и ни о ком не могу думать. Иди спать, не обращай на меня внимания. Интересно все же, не является ли это одной из стадий треклятой солнечной болезни. В таком случае, у меня налицо все симптомы.
– Что там за «одна из стадий»? – сонно отозвался Дин, в то время как Холлуэй замолк, не получив ответа.
– Э-э… ну, то есть, когда ощущаешь ароматы, которых не существует и прочее. Что, в чем дело?
Дин выпрямился, положил руку на плечо Холлуэя и легонько потряс фотографа.
– Ты тоже это испытал? – спросил он. – Послушай-ка, Боб, и ты это почувствовал?
– Да, я тоже, в каком-то смысле, – признался Холлуэй.
– Я и не думал, что это произведет на тебя такое впечатление. Это ведь часть обычной программы, не так ли? – головокружение, боль в затылке, раскаленный железный обруч перед глазами, появление разного рода запахов и видений. Это… это ведь симптомы? Определенно, симптомы – чем еще, разрази меня гром, это может быть? Не уверен, что все это меня тяготит; это не так уж неприятно, если подумать, но, ах! я даже не знаю! Я стал так чертовски скучать по дому.
Он прервал себя на полуслове и тревожно зашевелился в темноте.
– Я несу вздор, – сказал он твердо. – Думаю, это тоже симптом. Что ж, самое время пойти спать.
Он бросил взгляд на свою палатку, белеющую в отдалении под лунным светом.
– Лучше возьми себя в руки и постарайся избавиться от этих приступов, – ласково посоветовал ему Дин. – К солнцу в этих краях нельзя относиться легкомысленно, знаешь ли.
Когда Холлуэй побрел к палатке, Дин проводил прищуренными глазами. Затем он добрался до собственной палатки и зажег лампу. Используя кожаный дорожный сундук как письменный стол, он сделал несколько записей в дневнике и навел порядок в журнале раскопок и книгах учета находок; а тем временем снаружи сгущалась ночь и весь лагерь погружался в сон.
После он убрал бумаги и расстелил постель. Но не успел он протянуть руку, чтобы погасить лампу, как остановился, склонив голову и прислушиваясь. По ту сторону брезентовой стены, совсем рядом с палаткой, раздался тихий звук, словно рядом перекатилось и прошуршало чье-то тяжелое тело. Дин снял ботинки и бесшумно прокрался к выходу. Он глянул на залитый лунным светом пейзаж и резко отпрянул назад с быстрым вдохом.
– Господи! – пробормотал он. – Этот мальчишка!… Устроился здесь в одном одеяле вместо того, чтобы спать, как полагается, у себя в палатке. Он что, совсем обезумел?
На мгновение Дин задумался. После снова надел ботинки, шумно завозился, опять прислушался – и затем позвал как можно более естественным тоном:
– Эй, Холлуэй! Ты еще не ложился? Заходи.
И усмехнулся, заслышав смущенный шорох по ту сторону брезента. Затем послышались шаги.
– Заходи, не стесняйся, – любезно пригласил он, – полог не застегнут, – и вновь прилежно склонился над своим дневником.
Холлуэй вошел; Дин обернулся и поднял на него пытливый взгляд.
– Уверен, что я не помешаю? – спросил Холлуэй. Интонация его голоса заставила Дина присмотреться к фотографу внимательней.
– Ничуть, – ответил он. – Честно говоря, я в самом деле рад, что ты пришел. Я услышал, как ты… кхм… проходил мимо, и подумал – отчего бы не пригласить тебя в гости? Ты случайно не помнишь, в какой ящик мы упаковали слепок с надписи из библиотеки?
– Я, нет, кажется, не помню, – сказал Холлуэй. Он опустился на складной стул. – Дин, можешь мне дать какое-нибудь снотворное? Я, мне что-то сегодня совсем нехорошо. Это солнце – во всем виновато солнце.
Дин недоуменно и чуть нахмурившись посмотрел на него. Холлуэй напряженно вцепился обеими руками в края сиденья. Его лицо было бледно, светлые волосы взъерошены. Он плотно стиснул зубы, но уголки его губ время от времени подергивались. На плече виднелось длинное пятно, оставленное землей. Под взглядом Дина Холлуэй сейчас же беспокойно задергался.
– Ну хватит! – раздраженно воскликнул он. – Все дело в солнце, говорю тебе. Если мне удастся хотя бы одну ночь выспаться, я буду в полном порядке.
– Я дам тебе лекарство, – сказал Дин и отошел к аптечке у изголовья кровати. Затем оглянулся через плечо и добавил, пристально наблюдая за воздействием своих слов:
– Вот только тебе придется заночевать у меня. Когда прописываешь снотворное, нужен глаз да глаз, сам понимаешь.
Выражение лица юноши быстро и резко изменилось, но Дин успел заметить перемену – взгляд, исполненный облегчения, мгновенная расслабленность всех черт. Холлуэй поспешно спросил:
– А можно? – и прикусил язык, добавив: – О, я боюсь, что причиню тебе жуткие неудобства.
– Ничего страшного, – Дин отвернулся и занялся лекарством. Он вынул из сетки с полдюжины плодов лайма и налил в жестяную кружку чистой воды из бачка, висевшего у входа в палатку. Затем выдавил в кружку цитрусовый сок, добавил немного сахара и несколько капель из синего пузырька и смешал микстуру в стеклянном стакане.
– Это и младенцу не повредит, – удовлетворенно пробормотал он. – Дружеское общество – единственное лекарство, что нужно бедняге этой ночью.
Он быстро повернулся к Холлуэю.
– Держи, старина, – произнес Дин и увидел, как Холлуэй подпрыгнул при звуке его голоса, будто в него выстрелили, – пей медленно. Это поможет тебе заснуть, я полагаю.
Холлуэй принял кружку с благодарностью и глубочайшей верой в снотворное действие микстуры и послушно отхлебнул. Дин тем временем достал второе одеяло, негромко насвистывая сквозь зубы. В свете лампы при каждом движении тянулись за ним по брезентовым стенам искаженные тени.
– А теперь быстренько ступай в кровать, – распорядился он. – Через десять минут ты будешь спать и, гарантирую, без всяких сновидений.
– Да, но где тогда будешь спать ты? – спросил пациент, вставая.
– Не беспокойся об этом, – бросил Дин.
Холлуэй все так же послушно улегся в кровать, натянув одеяло до подбородка. Он издал глубокий успокоенный вздох, глядя, как Дин расхаживает по палатке; фотограф напоминал ребенка, нашедшего у родителей защиту от неведомых ужасов темноты. Дин завернулся в одеяло на полу, откуда ему было удобно наблюдать за Холлуэем, подложил под голову свой плащ вместо подушки и потянулся к лампе. Внезапно Холлуэй заворочался, сел на постели и быстро заговорил высоким голосом:
– Дин, погоди минутку! Лучше уж я расскажу тебе все начистоту. Будь я проклят, если собирался вторгаться к тебе посреди ночи. Я совсем не болен, и со мной ничего ужасного не произошло, за исключением приступа самого настоящего животного страха. Не знаю, почему тебе показалось, будто я проходил мимо. Правда же в том, что я лежал, укрывшись одеялом, около палатки, где мог слышать твои шаги внутри и скрип твоего пера. Все, чего мне хотелось – это оказаться рядом с другим человеком, слышать его и сознавать, что я не остался наедине с Этим. Я понимал, что стоит мне провести еще час в своей палатке, и я вновь окажусь внизу, среди могил. Да, я был испуган, до смерти испуган – сам подумай, приятно ли мне в этом признаваться – но, клянусь Богом, я даже не знаю, что так испугало меня. Я и не думал приходить и мешать тебе. Достаточно одеяла и места на полу – мне не нужна твоя кровать.
Он дернулся и спустил ногу на пол. Дин сбросил одеяло, вскочил и толкнул Холлуэя обратно.
– Лежи, где лежишь, Боб. Эти дела сказались на твоих нервах, только и всего. Боже правый! Не тревожься о кровати. Надеюсь, ты не считаешь, что для меня впервой ночевать на полу? И я очень рад, что ты пришел ко мне, раз уж тебе так досталось. Нет ничего хорошего, когда человек в твоем состоянии вдобавок остается в одиночестве. А теперь давай спать, идет?
Холлуэй наконец успокоился. Дин вернулся в свой угол и лег. Наступила долгая тишина. Внезапно Холлуэй произнес из глубин одеяла, словно нечто само собой разумеющееся:
– Ну и адское же здесь местечко, как по-твоему?
Глава VI ТОТ, КТО УШЕЛ
Проснувшись утром, Дин обнаружил, что его пациент уже удалился. Холлуэй явился к завтраку, в сером тумане рассвета, держась с чрезвычайным достоинством и деланным равнодушием. Дин благоразумно не упоминал о случившемся ночью, и Холлуэй мало-помалу начал сбрасывать свою чопорную маску.
Дин провел большую часть утра, прилежно упаковывая ящики с древностями для безопасной перевозки. Меррит, как обычно, был на раскопках со своими людьми; Холлуэй неустанно фотографировал руины. Он яростно обругал своего боя, когда последний перевернул кювету с фиксативом, что было весьма необычно для всегда добродушного и беспечного Холлуэя. Затем они с Дином заспорили о вопросе, серьезность которого грозила ввергнуть всех троих в бедственную гражданскую войну. Ссора началась с заявления Дина, объявившего a propos обеда, что единственно правильный способ приготовления коктейля из семейства мартини заключается в добавлении половины ложки шерри после того, как прочие ингредиенты будут подобающим образом смешаны, хотя можно обойтись и без этого. Холлуэй решительно высказался в том смысле, что шерри, в целях должного смешения, необходимо добавлять прежде вермута; далее он пообещал приготовить для Дина образчик коктейля по данному рецепту в «Уолдорфе»[2]2
Имеется в виду знаменитая и роскошная гостиница «Уолдорф-Астория», находившаяся в то время на Пятой авеню.
[Закрыть] в вечер их прибытия в Нью-Йорк и угостить его ужином с шампанским, если упомянутая теория окажется неверна. Они с жаром препирались; Меррит, необдуманно взяв на себя роль посредника, быстро оказался в положении hors de combat[3]3
Вышедший из строя (фр.).
Причина войны (лат.).
[Закрыть] и был вынужден с позором удалиться. Противники осыпали друг друга красноречивыми инвективами, давно позабыв о casus belli[4]4
Причина войны (лат.)
[Закрыть], и в конце концов разошлись, надутые, как двое сердитых детей, в дальнейшем с высокомерным презрением игнорируя друг друга. Меррит, озадаченный до крайности, пытался пролить бальзам на их раны, уверяя, что оба в равной степени правы – дескать, любой из рецептов ничуть не уступает другому, винить же во всем, в том числе и в их, гм, раздражительности следует солнце. На это Холлуэй возразил, что солнце здесь совершенно не при чем – дело лишь в неисправимой ограниченности некоторых лиц, считающих свою точку зрения непогрешимой истиной. Дин заметил, что вопрос вовсе не в этом, однако, и резко оборвал себя. Вслед за сим Холлуэй, превратно заподозрив в его замечании скрытую насмешку, бросил на Дина разъяренный взгляд и зашагал прочь.
– Что это с ним? – воскликнул Меррит с несколько раздраженной усмешкой.
– Кажется, он вообразил, что я собрался попрекать его, припомнив один, хм-м, случай, – кратко ответил Дин. – Его стоит поучить хорошим манерам: нечего лелеять обиды. Отвратительная неотесанность! Знал бы, к чему это приведет – никогда не стал бы с ним спорить.
После обеда Дин с головой ушел в работу. Время от времени, отрываясь от своих списков и карточек, он чуть заметно улыбался, вспоминая бессмысленную перепалку; испытывал он и легкие уколы отеческого негодования по поводу того, что сам же назвал «холлуэевской невоспитанностью».
За ужином Меррит огляделся вокруг, словно что-то внезапно потерял, и спросил:
– Где же Холлуэй?
Дин, открывая жестянку с абрикосами, снисходительно ответил:
– Все дуется, я думаю. Обычно он не склонен выходить из себя. Я всегда считал его довольно-таки добродушным малым.
– Так и есть! – подтвердил Меррит. – Мне кажется, Дин, ты был с ним немного грубоват. Солнце в этих краях имеет свойство пагубно действовать на людей, а ведь парнишка еще не набрался опыта. Но вернемся к этой «негасимой лампаде». Я собираюсь отправить ее доктору Пибоди из вашингтонского музея, с приложением письменного описания обстоятельств, при которых она был найдена. К светильнику я не прикасался, только упаковал его в ящик под литерой D. Надеюсь, Пибоди сумеет извлечь все, что находится внутри. Это может решить – или, скажем, помочь решить – задачу, над которой ученые бьются многие годы, а именно проблему вечного света. По окончании исследований мне хотелось бы выставить светильник вместе с табличками и вазами. Кстати, как подвигается упаковка?
Они мирно курили вечерние трубки и обсуждали свои планы и проекты. Порой Дин ловил себя на том, что прислушивается в ожидании быстрых мальчишеских шагов и взрыва жизнерадостного смеха.
На следующее утро, в разгар работы, Дин решил, что необходимо сделать снимок мозаичного пола, так как фотография поможет при будущей реконструкции правильно собрать пронумерованные плитки, и отправился за Холлуэем и его камерой. В то утро Меррит приступил к работе раньше обычного; Дин слышал, как он кричит со дна траншеи, призывая к себе Ибрагима из другого рва. Дин быстро направился к нему и, поглощенный своими делами, отрывисто спросил:
– Где Холлуэй? Мне нужен снимок пола в квадрате 14.
Меррит взглянул на него с внезапной мрачностью.
– Ты разве не знаешь? Холлуэй этой ночью не вернулся в лагерь. Я отправил нескольких людей на поиски среди гробниц. Должно быть, он упал и поранился. Возможно, забрался в туннель и попал под оползень.
Потрясенный этим известием, Дин похолодел. В голове билась одна-единственная мысль: «Двое уже пропали! Что, если парень стал третьим?»
– Он, он должен быть где-то здесь, – сказал Дин с наигранной беззаботностью. Меррит сдвинул шляпу на затылок жестом, полным тревоги и замешательства.
– Надеюсь, что так! – медленно произнес он. – Без сомнения, он скоро найдется. Но, вспомни о Тарфе и Хафизе!
– Быть может, он вернулся, а потом снова ушел совсем рано, и мы его не заметили, – предположил Дин. В глубине души он знал, что надежды его тщетны. Меррит покачал головой.
– Нет, я спрашивал Хамда, его боя.
Было видно, как Меррит борется с отчаянием, с предчувствием безысходности.
– Они найдут его к полудню, скорее всего, – сказал он, стараясь приободриться. – Если нет – что ж, мы отправим на поиски больше людей. Признаться, я опасаюсь, что у него недавно случился солнечный удар. Он вечно трудится, готов взяться за любую работу, какая только подвернется, так что я, боюсь, я часто забывал, что он еще зелен, что за ним нужно присматривать, и требовал от него большего, чем он мог выдержать. А он продолжал работать, бедняга, пока не падал от усталости, и никогда не жаловался. Это худшая его черта – не поймешь, когда он доходит до крайности. О да, он вернется вместе с землекопами к полудню, я уверен.
Они еще долго успокаивали себя, повторяя эти слова. Но ближе к вечеру серое лицо Меррита сделалось еще более серым и озабоченным, а Дин молчал и был погружен в свои мысли. Он откровенно признавался себе, что поступил с Холлуэем грубо; неужели и сам он перенес солнечный удар? Он вспомнил ночную сцену в палатке – высокий мальчишеский голос и нервное признание: «Все, чего мне хотелось – это оказаться рядом с другим человеком, слышать его. Я понимал, что стоит мне провести еще час в своей палатке, и я вновь окажусь внизу, среди могил. Ничто не может отвадить меня от этого места. Я был там четыре последние ночи, каждую ночь, и я боюсь его до смерти». Дин блуждал в лабиринте напрасных сожалений. Неужели Холлуэй нуждался в нем прошлой ночью, нуждался в поддержке, в человеческом обществе, и не решился прийти из-за глупого спора, страшась насмешек и презрения? Сражался ли он со своим безумием в одиночестве, час за часом, во тьме, и наконец сдался и побрел в то место, что так его ужасало – и что случилось там? Дину знал, что в подобных душевных катастрофах воображение играет пугающе реальную роль, стоит ему овладеть своей жертвой. И Холлуэй… при мысли, что он мог уйти, как ушли те двое и, как они, бесследно исчезнуть с лица земли, Дин начал мерить лагерь шагами, раздираемый тревогой.
Ибрагим, обжигаясь, преданно грел на огне кастрюльку с лакомствами, оставленными с ужина для Холлуэя, которого он очень любил; десятник заметил судорожные метания Дина и поднял голову.
– Хозяин не отправить больше люди, – печально сказал он.
Дин кивнул. Ибрагим перевел взгляд на кастрюльку.
– Сэар, я просить слово, очень уважительно. Что это значить? Что означать «скрыть дрости… эрайшо»?
Дин задумался.
– Что-то не пойму! Где ты это слышал?
– Мистер Холлуэй сказал эта. Мне. Прошлый ночь. Я сидеть у огня. Он быстро подходить, видеть меня и стоять. Он сказать: «Ибрагим, поздно уже, верно?» Я говорить – да, очень поздно. Он говорить: «Ибрагим, я видеть она, та женщина, который ты звать джинн». Так и сказать.
– Женщина! Снова это пустое суеверие! – со вздохом сказал Дин.
– Я говорить: «Сэар, ради Бог-Господь, не ходи. Быстро идти и ложиться спать». А он сказать: «О, я и не думать ходить за она, ты, старый дурак. Просто прогуляться вниз к могилы немного». Потом засмеяться и сказать: «Скрыть в Небо-Земля больше, дрости эрайшо». и я не знать, что еще. Какой-то совсем есть плохой английский, да? Тогда он уходить, а я после идти к дыра и смотреть вниз, искать он. И видеть, как эта близиться там ко мне, сэар, весь лицо белый, глаза зеленый как огонь, скользить вдоль земляной холмы, как кошка в ночь, и говорить так тихо: «Я не уходить, не уходить». А он идти, и я бежать быстро к мои люди, и падать, и скользить, чтобы духи не догнать.
Дин бросился к Мерриту.
– Я сам буду искать парня. Если Ибрагим говорит правду – он, боюсь, ушел вслед за Тарфой и Хафизом.
Меррит поднял глаза.
– Ты имеешь в виду.
Дин горестно кивнул.
– Да. Кажется, он видел то же самое. Он говорил об этом Ибрагиму.
– Почему же Ибрагим не остановил его? – в гневе вскричал Меррит.
– Потому что он глупец, – ответил Дин. – Я возьму с собой полдюжины людей, запас еды и всю воду, которую ты сможешь нам выделить. В каком-то смысле, – он глубоко вдохнул сквозь зубы, – я чувствую здесь и долю своей вины. Видишь ли, недавно мальчик приходил ко мне и рассказывал об этих вещах. И мне не следовало говорить с ним так, как вчера. Я должен был помнить.
Вдруг он ударил кулаком о раскрытую ладонь.
– О, это непредставимо! – хрипло воскликнул он. – Не верю, что мальчик попал в беду! Он должен быть где-то поблизости; конечно, мы нагоним его через несколько миль! Господи, зачем мы только нашли это проклятое место!
Спустя два часа поисковая партия тронулась в путь. Дин, помедлив, подошел к Мерриту и протянул ему руку.
– Попрощаемся, – сказал он. – Можешь поднять флаг на вершине самого высокого холма и оставить его там, пока мы не вернемся?
Меррит крепко пожал ему руку.
– Да, – сказал он. – Я сделаю это. Даст Бог, вы найдете бедного парня целым и невредимым. Но, береги себя, Дин. Помни, что если ты не найдешь его в течение недели… дальнейшие поиски будут лишены смысла.
Они поскакали в сторону темнеющего востока, прочь от заката; и Меррит молча стоял и смотрел им вслед, не шевелясь, пока они не превратились в черные точки, ползущие по дну пустыни.
Вслед за тем Меррит столкнулся с новыми неприятностями. На четвертый день после отъезда Дина в лагерь во время ужина прибежал рабочий, пронзительно вопя. Весь лагерь собрался вокруг, слушая его; все нервничали и ждали новых бедствий. Ибрагим потащил его к Мерриту, рассекая возбужденную толпу, и рассказал, что после того, как прочие землекопы ушли, человек этот вернулся в самый дальний раскоп в поисках забытой кирки и обнаружил мумию принцессы в неглубокой пещере среди груды щебня. Далее Ибрагим заявил, что люди требуют немедленно разрешить им замуровать мумию обратно в гробницу, дабы злые чары этого места были разрушены.
Это требование одновременно удивило, позабавило и возмутило Меррита. Находка мумии – большая удача; рабочий должен быть вознагражден. Но о возвращении мумии в гробницу не может идти и речи. Совершенно бессмысленно со стороны рабочих связывать безобидную кучку высохшей кожи и костей со всеми своими бедами; это предположение не стоит даже всерьез рассматривать. Итак, мумия должна быть извлечена и бережно упакована этим же вечером. Нашедший незамедлительно пойдет к раскопам с Мерритом и укажет местонахождение пропавшей мумии. Землекоп тщетно протестовал. Серые глаза Меррита вселяли в него благоговейный трепет; рабочему пришлось уступить, предварительно испросив у своих товарищей все амулеты, какие ему согласились одолжить. Снаряженный и укрепленный таким образом против козней Дьявола, он, дрожа и подвывая, повел за собой Меррита мимо ближайших к лагерю траншей к одному из старых раскопов. Здесь он осмотрелся и подошел к небольшой пещерке, скрытой за грудой щебня.
– Это то самое место, господин, – сказал он и осторожно двинулся вперед на разведку. Но вдруг он упал на колени, схватился за свои амулеты и принялся молиться, как одержимый.
– Ты перепутал место, – строго сказал ему Меррит. – Здесь нет никакой мумии.
– Но это то самое место, господин, где час назад глаза мои видели мумию. Клянусь Аллахом, то самое место! Она исчезла, и потому, что я искал ее, гнев ее падет на меня и я погибну так же, как мой господин и мои друзья. О, хозяин, уйдем отсюда! Место проклято. Это логово злой души, которую мы освободили от смерти, и теперь она заманит нас в смерть. Ай, господин, идемте скорее!
– Убирайся, несчастный трус! – пробормотал Меррит на яростном англо-саксонском и отпустил рабочего взмахом руки. Землекоп не понял слов, но осознал смысл жеста и помчался прочь. На протяжении часа Меррит терпеливо обыскивал курганы, заброшенные рвы, пустынные гробницы. Один раз поднял глаза, почувствовав на себе чей-то взгляд, и раздраженно произнес:
– Возвращайся в лагерь, говорю тебе! Работать ты не желаешь, а зрители мне здесь не нужны!
Чуть позже он с растущим гневом повторил свой приказ. Не найдя в конце концов ничего, он пришел к убеждению, что рабочий соврал. Он направился обратно в лагерь, разгоряченный и полный отвращения, и послал за виновником, который явился, излучая полнейшую безмятежность.
– Почему ты солгал мне? – спросил Меррит. – И когда я отослал тебя в лагерь, зачем вернулся? Хотел посмеяться, глядя, как я следую твоим бесполезным указаниям?
– Я не покидал лагерь, господин мой, – заявил землекоп. – И там, где я сказал, я видел мумию. Она была там. Я не знаю, когда она ушла; не ведаю, куда ушла.
– Довольно. Возможно, ты не знаешь. Но больше никаких сказок. Я этого не потерплю. Понятно?
Но наутро у Меррита возникли новые затруднения. Ибрагим, с взволнованной и сердитой гримасой на смуглом лице, пришел к нему и сказал, что люди наотрез отказываются спускаться в раскопы. Рассказ землекопа сделал свое дело. Они были испуганы, в чем честно признавались; они готовы на все, лишь бы угодить господину, которого любят так же, как своих отцов и матерей, но входить в проклятый город и его кишащие дьяволами подземные гробницы они не станут. Меррит понял, что должен действовать осторожно, иначе может разразиться мятеж. В лагере воцарился суеверный страх; рабочих была сотня против него одного. Только тот землекоп, что поднял накануне ложную тревогу, был на его стороне. Три дня они трудились вдвоем, делая все, на что способны две пары старательных рук; все это время армия прогульщиков ела, слонялась по лагерю, курила и спала в тени, на удивление благорасположенная к Мерриту, но вежливо упрямая, словно мул, когда доходило до работы.
Затем преданный землекоп исчез, как и три человека до него – ночью, в тишине и тайне. Это вызвало откровенную панику. Люди совершенно уверились, что среди них угнездилось беспощадное и деятельное зло; каждый считал себя следующей жертвой. Ибрагим намекнул Мерриту, что в приступе ужаса землекопы вполне могут собрать животных и провизию и скопом бежать, взяв закон в собственные руки; и тогда Меррит вскочил со складного стула и вышел на солнечный свет, стиснув зубы, с глазами, горящими огнем в предвкушении битвы. Рабочие, собравшиеся было в тихо бормочущие кучки, разошлись, как только Меррит появился среди них. Он воспользовался кратким перевесом внезапности и заговорил, негромко, без гнева, но так, что каждый слышал его голос и чувствовал, как мужество покидает его под огнем серых саксонских глаз. Меррит говорил на арабском, и речь его была понятна всем; он стоял на холмике щебня, с непокрытой головой, безоружный, а ворот рубашки открывал его загорелую шею; он запрокинул голову, господствуя над всеми одной только силой воли и наследием крови, что текла в его жилах.
– Послушайте, люди, вы давно уже не дети, и вам нечего бояться темноты. Не стану отрицать, странные вещи происходили в последнее время, но они кажутся странными только потому, что до сих пор мы не нашли для них верное объяснение. Разве вы сами это не понимаете?
Одна-две головы с сомнением кивнули.
– Я не собираюсь с вами спорить, я даже не стану вам говорить, что вы ослы. Что касается Дахира, который ушел этой ночью – откуда вам знать, что кто-то из вас, в отместку за его преданность мне, не припугнул его в темноте; и вот он, считая, что длань Зла опустилась на него, решил искать спасения в пустыне?


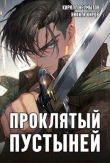

![Книга Жук [Том II] автора Ричард Марш](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-zhuk-tom-ii-263993.jpg)



