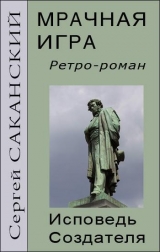
Текст книги "Мрачная игра. Исповедь Создателя (СИ)"
Автор книги: Сергей Саканский
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Внезапно сзади раздался шорох. Я оглянулся. В дверном проеме стояла женщина. Она тревожно смотрела на меня.
– Здравствуйте, – улыбнулся я, не сразу узнав профессоршу с соседней дачи.
– Здравствуйте, – ответила она бесцветным голосом.
– Я думал найти здесь Гену, но…
– А как же вы вошли?
– Все знают, где лежит ключ.
Она вздохнула и перевела взгляд на гравюру, которую я только что рассматривал.
– Вы похожи на посетителя музея, молодой человек.
Внезапная догадка осенила меня.
– Разве вы меня не узнаете?
Женщина пожала плечами.
– Я – Рома, старый друг Геннадия, Рома Ганышев.
– Что-то не припоминаю.
– Посмотрите на меня внимательно, неужели я так изменился, Жанна Михайловна?
Услышав собственное имя, она успокоилась.
– Извините, здесь бывает так много людей… Вы ведь школьный друг Гены, да?
Она не узнавала меня.Эти слова были лишь любезностью мягкого, никогда не имевшего своего мнения человека. Когда-то давно я хорошо знал ее. Тогда это была женщина сорока с лишним лет, немногим младше моей матери, милая, соблазнительная. Сейчас передо мной стояли развалины. От города, некогда процветавшего, остались одни фундаменты. И она никогда в жизни не знала и не видела меня.
– Их никого не было со времен пожара, – сказала она.
– С первого ноября?
– Ну нет. Несколькими днями позже, когда нашли трупы.
– Трупы? – сказал я. – Сколькотрупов?
– Два – мужчина и женщина.
– Как вы сказали? Мужчина?
– Ну, не совсем. Можно ли назвать мужчинойобугленный труп?
– Почему бы и нет? Почему бы не совокупляться с обугленным трупом? – подумал я, придя в бешенство, но все же сумев сохранить бесстрастный голос:
– А эта женщина – кто она?
– Какая-то второсортная певица, либо танцовщица – не знаю. Вся эта история довольно грязная. Взломали замок, залезли, барабанили на рояле, словом – резвились дня два. Я сначала подумала: Гена с друзьями. Мне еще показалось странным, что он не заглянул к нам… Потом я услышала пальбу. Ночью загорелась дача.
– Ну да, – сказал я, – они палили в мишень, из мелкашки.
И тут меня пошатнуло, будто бы кто-то невидимый толкнул меня в грудь. Из мелкашки ли?Я отчетливо вспомнил мишень. Отверстия были от крупнокалиберных пуль, выпущенных из настоящегооружия. Целая улица глупостей, которую я так тщательно выстроил за последние полчаса, стремительно закружилась возле меня, навроде Penny Lane.
– Я уж не знаю, из чего они палили и зачем, – сказал Жанна, не заметив моего кружения. – Помню, я считала. Выстрелов было ровно семь. Не правда ли, это что-то мистическое?
– Несомненно, – сказал я с ненавистью. – Могу ли я от вас позвонить?
Она поколебалась, все еще предполагая во мне бандита.
– Пройдемте, – наконец решилась она.
Я запер сарай, положил ключ на место, стараясь сделать это правильно, небрежно. Пальцы мои дрожали.
Мы прошли сквозь внутреннюю калитку, соединяющую два соседних участка, и поднялись по ступенькам дома Жанны.
Увидев через мое плечо, как я кручу телефонный диск, она усмехнулась:
– Вы набираете не то. Это старый номер. Они ведь разменялись с родителями, разве вы не знали?
– Меня давно не было в Москве.
– Это заметно. Ваш черноморский загар…
Я недослушал, поскольку произошло соединение, и в трубке возник чей-то неприятный голос. Я спросил Гену.
– Я тебя слушаю, – произнес тот же голос. – Как раз сегодня вспоминал тебя, хотя, честно говоря… Никак не ожидал твоего звонка.
Это оказался Хомяк, и он сразу узнал меня. Он не стал скрывать своего удивления.
– Нам надо увидеться, – без предисловий сказал я.
Он помолчал. Где-то в глубине его квартиры тихо звучал BecauseЛеннона. Это привело меня в ярость, вызвало каскад воспоминаний: именно под этот аккомпанемент я бы с величайшим удовольствием раздробил череп моему бывшему другу.
– Хорошо, – холодно произнес он. – Приезжай. Записывай адрес. Только… Через два часа мне надо будет свалить по делу.
Его голос неузнаваемо изменился за эти годы, в чем не было бы ничего удивительного, если бы голос не показался мне знакомым, причем как-то странно, навязчиво знакомым, вроде бормотания радиоточки. Это был голос какого-то другого человека, которого я, несомненно, знал, но никак не мог вспомнить. Я ощутил легкий укол страха, как всегда бывает, если сталкиваешься с чем-то необъяснимым.
Положив трубку, я быстро двинулся к выходу.
– Не хотите ли чаю? – предложила Жанна.
– Спасибо, – возразил я, продолжая свой путь.
– Сейчас перерыв в электричках. К чему вам мерзнуть на платформе?
Она сделала шаг ко мне. Ее лицо стало кокетливым, еще более гадким. Похоже, она боялась упустить случай, которых в ее жизни осталось уже немного. Ее слишком уж пышный бюст показался мне подозрительным, и я понял, что там, под накладной упругостью лифчика болтаются жалкие старческие груди.
– Я возьму такси, – сказал я.
Ее взгляд потух.
– Дорогое удовольствие по нынешним временам.
– Скорее, дорогая необходимость.
– Как и этот коньяк, – она кивнула на стеклянную дверцу буфета, впрочем, уже без всякой надежды.
– Поверьте мне, – сказал я, – это очень дешевый коньяк.
Выходя, я еще раз посмотрел в сторону дачи. Развалины, руины… Жанна стояла в дверях и, вероятно, смотрела мне вслед. Я не оглянулся. Оглядываясь, мы видим лишь руины.
* * *
По пути на трассу я попытался переварить эту случайную встречу. Почему я с такой легкостью расписался в собственном безумии? Только что передо мной красовалась Жанна, о которой я мог бы сказать то же самое. Ведь это не я забыл ее и как бы впервые увидел, а она – меня, хотя мы знали друг друга около двадцати лет, и она не могла не помнить – если уж я так сильно изменился – моего имени, фамилии… Тогда кто же из нас – сумасшедший?
Начнем по порядку. Матушка всегда была больна, она действительно могла забыть, что переставила мебель… Мара и компьютер. Почему Мара была всю жизнь лучшей и единственной подругой матери – не потому ли, что их связывало родство диагнозов? И станет ли нормальный человек – Хомяк или кто-то из его родственников – тщательно подгоняя, высунув от усердия язык, вставлять в рамку вместо одной репродукции Жана Милле – другую, причем, того же бездарного автора? Теперь – Полина. Она, несомненно, была в гостях у матери уже послеперестановки, и ее вздорная, пустая башка вполне могла принять новое за старое.
Выходит, что безумие сидит не внутри меня, а свободно разгуливает снаружи, и я просто-напросто принял чужое безумие за свое. Будь я действительно сумасшедшим, то, прежде всего, обвинил бы в сумасшествии окружающих.
Это надо было проверить как можно скорее, и случай не заставил себя ждать. Первая же машина, которой я сделал стоп, затормозила, приветливо подмигнув. За рулем была женщина. На мой вопрос о плате она снисходительно рассмеялась: ей не нужны были мои гроши, если существовал некто, способный ее содержать, или же она зарабатываласама, проституируя – все это не волновало меня, равно как и действительность со своими новыми деталями – придорожными ларьками, яркими вывесками, какими-то многоступенчатыми недостроенными виллами – детская книга, которая зашелестела снаружи, сливаясь в единый огненный поток, едва мы понеслись по шоссе. Baby, you can drive my car…
– Послушайте, любезнейшая, не знаю вашего имени… – начал я.
– Агния, – представилась эта пародия на кинозвезду.
– Роман, – ответно представился я.
– Бульварный? – пошутила она.
– Не совсем. На первый взгляд, оно конечно, того: сюжет и все такое прочее, но если приглядеться… – я вдруг отчетливо вспомнил свое вчерашнее сентиментальное путешествие бульварным кольцом, когда я мысленно здоровался со всеми памятниками на своем пути…
– Вы понимаете, Агния, – сказал я с мягким акцентом, – я приезжий, из Киевской области, и плохо знаю ваш гарный город. Скажите пожалуйста, где у вас в Москве памятник, к примеру, моему соотечественнику, Николаю Василичу Гоголю?
– На Гоголевском бульваре, естественно.
– Да уж, что может быть естественней… А памятник Климент Аркадичу Тимирязеву?
– Кажется, у Никитских ворот.
Агния коротко глянула на меня, в тот миг, как я так же коротко глянул на встречный КАМАЗ. Векторы скорости, разумеется, складываются, а за рулем сидит сумасшедшая, спокойно держащая сто десять по зимней трассе. Безумие выражалось, конечно, не в скорости – в конце концов, это могла быть какая-нибудь матерая гонщица автораллей, шумахерша, – а в том, что она сказала о памятниках.
Итак, они все сошли с ума, пока меня не было с ними. Или же я, излучая какую-то неизвестную энергию, притягиваю исключительно безумцев, как бы, двигаясь по смешанному лесу, иду от березы к березе… Но это уже из области фантастики, хотя в первой версии нет ничего фантастического – вдруг это какой-то вирус или что-то еще. Ведь взялся же откуда-то из Африки… Господи, как трудно в моем горле этому слову – Африка…
СПИД… Почему бы не появиться чему-либо еще, почти за десятилетие?
Будучи разрешенной, проблема перестала интересовать меня. Кроме того – все это было лишь словесным фоном, обстановкой комнаты, в центре которой, в кресле развалившись, небрежно закинув ногу на ногу, сидела…
Так писали в старых романах: сначала мебель, ковры, рояль, гардины, уютное пламя в камине…
Марина была не одна, она была с каким-то мужчиной, сей факт отбрасывал меня на три месяца назад, в тот день, когда я получил письмо от матери, и лишний раз подтверждал тождественность измены и смерти.
– Что это вы приуныли? – поинтересовалась Агния.
Я посмотрел на нее. Большие, искусно подкрашенные глаза, тени стремятся скрыть мешки под глазами, явные признаки обжорства и гипертрофированной сексуальности. Мне захотелось плюнуть ей в лицо.
– Скоро выходить: метро, – сказал я. – Жаль расставаться с такой очаровательной девушкой.
– Это не проблема, – усмехнулась Агния. – Вот моя визитная карточка. Думаю, вам понадобится гид для дальнейшего изучения памятников старины.
Дойдя до ближайшей урны, я выбросил глянцевую бумажку, даже не заглянув в нее. Итак, они все, или – по крайней мере – часть из них, незаметно сошли с ума. Я вспомнил тот чисто литературный, полностью соответствующий мистической теории бытия, путь, который привел меня к безошибочно точному, безукоризненно уместному разговору о памятниках города.
Дело в том, что меня с детства мучил некий парадокс, одна из труднообъяснимых, но весьма будничных московских тайн, а именно: почему Гоголевский бульвар возглавляет памятник Тимирязеву, а сам Гоголь преспокойно сидит у Никитских ворот?
Теперь – по крайней мере, в воображении этой Агнии – монументы стали на свои логические места, и парадокс был разрешен.
Размышляя таким образом, я направился в гости к другу моего детства.
* * *
Я не мог без отвращения вспоминать этого человека, и лишь чудовищная игра обстоятельств заставила меня обратиться к нему. Мне предстояло выступить в роли христианина, скорее, даже – еретика-толстовца – подставляющего ягодицы, сразу после того, как его смазали по лицу. Отче наш иже еси на небеси. Если бы я мог выбирать своего Иуду, я бы хотел, чтобы им оказался именно он.
С точки зрения логики это было невозможным, хотя, судя по опыту классического детектива Агаты, преступником всегда оказывается самый невинный.
Хомяк жил за жирной металлической дверью. Я хотел позвонить условным сигналом, представляющим букву «д» на азбуке Морзе, но вовремя передумал, не желая напоминать о нашей общей юности.
Дверь отворилась тяжело, как в склепе, и на пороге возник какой-то толстяк. Несколько секунд знакомые черты не могли найти себе места в той суповой миске, которую он считал своим лицом. Время как бы исправило одну, чисто лингвистическую ошибку: слово Хомяк, звучащая, как кличка, было на самом деле фамилией субъекта, и в прошлом – высокий, стройный – он ничем не напоминал этого безобидного зверька.
– Заходи, – сказал он голосом Хомяка, вернее, тем его новым голосом, который я услышал в телефонной трубке. – Шузов не снимай, тут вчера сешн был, нашакалили. Рад лицезреть твой фейс…
Он явно переигрывал со сленгом, тщетно пытаясь выстроить вокруг меня Гурзуф начала восьмидесятых. Эта неуклюжая попытка не вызвала во мне ни малейшей жалости. Он был тем, кто посадил меня в тюрьму, если и не тем, кто продал – этого человека я еще не прочь найти – а тем, кто именно посадилменя.
– Ты что, женился на дочери советника? – спросил я, оглядывая обстановку.
– Нет, – сказал он. – Дуся у меня все та же. Я, знаешь ли, сменил профессию.
– Как тебе это удалось?
– Помнишь Жору, что в Чикаго свалил?
– Ну?
– Списались, я съездил. Открыли совместную фирму, теперь фарцуем.
– Чем?
Он косо посмотрел на меня: об этом не спрашивают, не лезь не в свое дело, ты, ублюдок!Я подумал, неужели этот слизистый мешок был когда-то моим другом?
– Трусами, – наконец ответил он.
– Какими трусами?
– Трусами, чулками, насисьниками, шелковыми подписьниками – всего более четырехсот наименований… Ты лучше скажи, чего тебя на дачу потянуло? Мне Жанна сразу после тебя позвонила. Она, верно, совсем крызанулась, если олдовых бухарей не узнает. Кстати, давай задринчим, за встречу. У меня еще около часа времени.
Он жестом пригласил меня в другую комнату, и я увидел сервировочный столик на колесах, на котором возвышалась небольшая горная страна бутылочного стекла.
– Расскажи, – попросил я, – что там произошло?
– Ничего особенного. Я, между прочим, эту самую Марину не видел столько же, что и ты… Ключ она знала, где лежит. Приехали с каким-то мафиози, трахались до потери сознания при свечах, газ то ли сам потек, то ли забыли выключить, ну и – свеча горела на столе – все полыхнуло. Весьма кстати, между прочим. Я, знаешь ли, новый хауз хотел строить, а бунгало было как-то жалко ломать. Короче, расчистили место.
– Какой еще мафиози? – спросил я, чувствуя, что начинаю дрожать.
– Понятия не имею. Меня поначалу стали в полис таскать, но я им дал, и дело замяли. Я даже протокол из любопытства прочитал.
– Как они вообще опознали сгоревшее тело?
– Стоматологическая экспертиза. Еще какие-то специфические признаки. Она стали дальше копать, пока я не стопарнул. Не хватало еще, чтобы на моей даче произошло убийство.
– Значит, это совершенно точно была она?
– Да, к моему удивлению. Этим занимались квалифицированные специалисты.
Мы помолчали. Я заметил, что Хомяк наливает мне вино, а себе – апельсиновый сок.
– За рулем?
– Не в этом дело. Я закодирован на дозу. Более пятидесяти грамм – делаю уэлл. А ты все дринчишь?
– Умеренно.
– А там?
– Пил с Божьей помощью.
– Ну и хорошо.
Мы помолчали.
– Кто такая Ника? – спросил я.
– Путана. В деле она фигурировала.
– Как ее найти?
– Не знаю. И вообще… Все это темная история, и замешан в ней какой-то крутой пипл. Зачем тебе это? Аскалку нашу ты все равно не вернешь, а собственный пелвис зачем подставлять?
– Помнишь, – вдруг сказал я, – как я спускался в колодец, чтобы посмотреть на звезды, но ни черта не увидел, и чуть было не оборвалась веревка?
– Нет, – покачал головой Хомяк. – Хотя, детство, знаешь ли… А ты помнишь, как мы заслипили на чердаке, а паренсы искали нас весь день, даже в этом самом колодце?
– Помню, – сказал я, хотя ничего такого не было.
Ничего подобного в моем прошлом не было, но оно существовало в его прошлом. Ни слишком ли много сумасшедших на моем пути? Я вдруг почувствовал тошноту и страх. Почему Хомяк ведет себя, как ни в чем не бывало, будто бы и не было той давней истории? А что если она – инвариант реальности, а в его сознании мы старые друзья, которые встретились после вынужденной разлуки?
Но все это не имело ни малейшего значения, потому что уже была поставлена жирная точка над «i». Стоматологическая экспертиза. Квалифицированные специалисты.
Марина была мертва.
Мне захотелось встать и уйти (неизвестно куда и зачем), но Хомяк опередил меня.
– Извини, – проговорил он, – но мне сейчас надо в офис, меня ждет брокер с палеными ваучерами.
Смысл этой фразы был мне не вполне ясен. Я поставил недопитый бокал на стол и поднялся.
– Хочешь, подвезу до метро?
– Не стоит. Я уже видел твою машину на улице.
– Ну, как знаешь.
– Послушай, Хома, – сказал я уже в коридоре, одевшись. – Можно один вопрос напрямик?
– Валяй.
– Не ты ли это позвонил тогда по известному телефону и сдал меня в полис?
Его глаза сузились, сквозь прежнюю тошнотворную маску проступило циничное и жестокое, пожалуй, истинное лицо. Было видно, что он борется с желанием меня ударить. Я ожидал и хотел этого, чтобы через несколько минут сделать из него кусок мяса. Но он лишь усмехнулся, пожевал губами и спокойно ответил:
– Это глубоко не логичный вопрос, кореш. Если бы тебя сдал я, то сразу последовал бы за тобой, как подельник. Я не смог бы сделать этого ни при каких обстоятельствах, даже если бы у меня были мотивы.
– Мотивы, между прочим, у тебя были.
– Давай забудем об этом, а? Ведь столько уже лет прошло…
– Да? – сказал я. – А тебе никогда не приходило в голову, что роман о Раскольникове написал никто иной, как Свидригайлов?
– Нет, не приходило. Да и вообще – последние годы я читаю только детективы, фантастику… Голова слишком забита делами, извини.
Едва я протянул руку к двери, как замок, будто во власти телекинеза, открылся сам, и Авдотья вошла. Мне было любопытно, узнает она меня или нет.
На ней был клетчатый костюм в стиле деловая женщина.Она выглядела плохо: похудела настолько же, насколько поправился ее муж, словно бы он впитал ее мясо. Она узнала меня.
– Неужели? – и ее лицо скривилось в улыбке.
Я никогда особо не жаловал ее, хотя она, похоже, стремилась найти во мне друга.
– Уже уходишь?
– Надо.
Щелкнув каблуками, я припал к ее руке. Похоже, эту женщину грызла какая-то болезнь или простая хандра, усталость.
– Я позвоню, – сказала она. – Телефон все тот же?
– Не знаю, – сказал я и сгинул.
Выйдя на улицу и, как на прогоне, представив всю эту сцену, я, наконец, понял, чей голос напоминал мне этот мерзкий баритон Хомяка. Это никак не могло быть объяснено чьим-то безумием, кроме моего личного, и даже пресловутый сдвиг реальности казался тут совершенно ни при чем.
Это был мой собственный голос.
СУИЦИД КАК НУЛЕВОЕ РЕШЕНИЕ
То был конец пути, тупик, за которым пыльная трава, сор, одуванчики. На что я надеялся? На то, что погибла другая женщина, какая-нибудь новоиспеченная Ника, а моя, присвоив ее документы (и лицо!) отправилась, скажем, в теплые края – куда, зачем? Неужели я с самого начала не чувствовал, что ее нет в этом мире, подобно тому так, войдя в темную комнату, сразу понимаешь, есть ли там человек или же комната – безжизненна?
Наверное, все это было для меня лишь реализацией страха смерти. Как же отчаянно я цеплялся за жизнь, если так верил в эту, мною же созданную легенду!
Я приплелся домой. Мамаша была на очередном дежурстве. Я подумал, что и она совершенно не беспокоит меня: не беспокоит, как она увидит это,что дальше будет с нею… Ничто не могло мне помешать, равно как и помочь в те злосчастные минуты. Я подумал, что меня совершенно не волнует, как я буду выглядеть… Я почувствовал такую тупую, невыразимую скуку…
Вот и все. Еще несколько движений, и с этим будет покончено. А вдруг? Что если сделать последнюю ставку, любую, нелепую… Что если я сейчас просмотрю в окно и проклятая труба будет снова на месте? Если так, то я ничего не сделаю и буду лишь с легким содроганием вспоминать весь этот кошмар. Итак, если труба на месте, то я…
И тут раздался телефонный звонок.
Это могли звонить только матери, или она сама – мне: ведь пока лишь трое людей знали, что я вернулся, и у меня не было ни малейшего желания восстанавливать старые связи, с самого начала, еще до того, как я принял то теплое, пьяно согревающее, ванноерешение…
Телефон продолжал звонить.
Мне пришла в голову бредовая мысль, будто бы я нахожусь в пространстве какого-то романа или фильма, где – по закону жанра – геройне может погибнуть, посему этот звонок придаст сюжету новое движение, спасая тем самым от смерти – меня.
Я поднял трубку.
– Алло, это я, – послышался знакомый голос, едва различимый за шорохами и тресками.
– Да?
Это была Авдотья, жена Хомяка.
– Здравствуй, Дуся, – сказал я, будто некий Чехов.
– Нам необходимо встретится, – сказала она.
– Да, – сказал я, почти утвердительно.
– Я в отчаянье. Наверно, я на грани самоубийства.
– Интересно, – сказал я, свободной рукой нащупав свою веревку. – Так ли уж здесь важно мыло?
– Что? Какая Мила? Во имя всего, что было между нами, умоляю, помоги мне!
Между нами ничего никогда не было, кроме одного, не совсем дружеского поцелуя, не сблизившего, но еще больше разъединившего нас.
Зажав телефонную трубку между щекой и плечом, я принялся свивать петлю.
– Я не могу с ним больше жить, – продолжала Авдотья высоким страдальческим тоном. – Он только и делает, что потеет и пердит, пердит и потеет, но это не имеет значения. Он ничего не хочет знать, кроме денег. У него есть несколько женщин, каких-то грязных шлюшек, но мне и на это наплевать. Он постоянно ест и пять раз в день испражняется. Все вокруг изменились. Все только и делают, что жрут и срут. Слушай, Рома, может быть, я схожу с ума, но творится что-то не то. Меня бросила старая подруга и даже не узнает на улице, глядит, как сквозь стекло…
– А памятники? – спросил я, прилаживая петлю к трубе отопления, словно некий Есенин.
– Что – памятники? – она не уловила иронии моего голоса. Вот будет любопытно, когда от меня останутся лишь короткие гудки.
– Памятник, Гоголю, например? – промяукал я.
– Да-да! Его больше не существует. Он исчез.
– Что-о?
– Какая-то фирма купила землю под ним. Его разобрали и увезли. Народ устроил демонстрации, пикеты, – все без толку. Теперь там строят виллу для кого-то из них.
– Какой ты говоришь памятник, – спросил я, продолжая заниматься своей адской атрибутикой, – сидячий или стоячий?
– Стоячий. Тот, который был во дворе.
– Ну, это не такая уж большая катастрофа.
Я уже стоял на табурете с затянутой петлей на шее. Оставалось сделать один шаг, так сказать, из реальности в вечность.
– Рома, я видела твое лицо. Перестань убиваться по ней, слышишь? Она не стоит того. Когда мы встретимся, я расскажу тебе о ней – всю правду. Ника говорила, что…
– Кто?! – вскричал я. – Кто говорил?
В этот миг я оступился и табурет выскользнул из-под моих ног. На долю секунды опередив струящуюся веревку, я схватился за трубу и повис на ней, обжигая ладони, Есенин. Телефонная трубка, закрутив в воздухе витую спираль, снова оказалась в моей руке. Голос, прервавшийся таким странным образом, взволнованно продолжал:
– …подруга, тоже аскалка, с которой они жили последнее время, снимали квартиру на Тверском бульваре. Я встретила ее незадолго до… Так вот, она говорила…
– Подожди, – сказал я.
Это был один из тех моментов жизни, когда невольно жалеешь о зрительской аудитории. Вид человека, висящего на одной руке, а другой сжимающего телефонную трубку, был бы весьма забавен. Я ослабил петлю, вывернулся из нее, как червяк, и спрыгнул на пол.
– Теперь давай поговорим, Дуся. Ты знаешь ее телефон или адрес?
– Только телефон.
– Ну, давай-ка, – бодро сказал я, отыскивая на столе чего-нибудь пишущее. Мою правую ладонь саднило: надо было бы смазать растительным маслом…
– Прекрасно, – сказал я через несколько секунд. – Я позвоню тебе, как только смогу. Мы обо всем поговорим, ладно? Целую.
Я повесил трубку и возбужденно огляделся вокруг. Вещи смотрели на меня широко раскрытыми глазами. Мы еще поборемся с тобой, злой волшебник!Это была действительно большая победа. Некая Ника, вторгшаяся в ее жизнь и изменившая ее. Они познакомились в метро, что может быть нелепее? Выходит, оттого, что броуновское движение случайно сблизило две частицы… И после этого ты будешь говорить мне, милая моя, о божьем промысле, о провидении, да, в тот самый миг, когда ты, умиленная, в своем церковном платке, возвращаясь с заутрени, где так нежно пахнет воском, так осторожно перебирают в воздухе золотистые лучи, спускаясь со сводчатого потолка…Простите, я наступила вам на ногу, ах, ничего страшного, тут такая толчея, меня зовут Ника, победа, я всего лишь буду вашей нежной подружкой на оставшуюся жизнь, а ведь ее осталось немного, да: я завлеку тебя на какую-то там дачу, там мы немного поупражняемся в стрельбе по куску ржавого железа, затем мы займемся группен-сексом с одним солидным, уважаемым человеком, он будет так крепко тебя ласкать, что случайно задушит, а я, твоя лучшая подруга, в качестве акта мести, угроблю его каминной кочергой, затем оболью бензином рояль, как самый любимый твой предмет в этом доме греха, и спущу, как говорится, красного петушка, меня зовут Ника, я – твоя Победа.
Я набрал указанный мне номер. Длинные гудки. Вряд ли романы Ф.М.Достоевского, чисто автоматически подумал я, с их непрестанной беготней, комнатами, дверями, выходами новых героев, могли бы развернуться в современном мире, где существует телефон…
Несколько минут я курил на балконе и смотрел на звезды. Ковш Большой Медведицы, уже ставший вопросительным знаком, намеревался вычерпать Луну – похоже на подстрочник какой-то хокки, или на эхо недавнего моего имажинизма…
И вдруг я ощутил накат сердцебиения. Мысль о том, что я упустил что-то важное, там, на даче… Дом, колодец, мишень, флигель… Было нечто, подсознательно меня поразившее, но пропущенное сегодня утром.
Я глянул на часы. Шесть вечера. Я оделся и поехал, захватив фонарик.
* * *
Сад был переполнен луной, включавшей мучительный механизм воспоминаний. Они существовали в реальности отдельно, слог за слогом, подобно вставной новелле – «Восемь лет назад на Рождество выпали такие морозы, что несколько человек погибло и т.д.» Вот так же луна заливала это уютное снежное пространство, и в том же месте я преодолевал забор, правда, я был тогда не один.
Развалины выглядели угрожающе, тут что-то определенно изменилось с утра. Я испытал безотчетный страх: то ли меняется сама реальность, то ли нечто в ее пределах. Последнее было куда опаснее. Останки дома, колодец, флигель – все было таким же, что и утром. Но что-то произошло со снегом… Я присел на корточки и пригляделся – в скользящем селеническом свете я все увидел и понял. Первым моим побуждением было немедленно уйти, но любопытство пересилило страх. В конце концов, я был силен, я умел биться, и у меня даже имелось кое-какое оружие, если можно посчитать оружием увесистый металлический фонарь.
Кто-то побывал здесь сегодня, после меня, и основательно осмотрел участок. Нога была огромной: мои собственные отпечатки, и уж тем более, жалкие, утлые лодочки Жанны, казались детскими по сравнению с этой массивной, широкой подошвой снежного человека. Я посветил. Объемные шипы елочкой, дорогая модельная обувь, размер, по крайней мере, пятьдесят второй.
На углу колодезного сруба я увидел какую-то странную, бесформенную сосульку. Она так бросалась в глаза, что я не смог бы утром не заметить ее, в том случае, если бы утром она там была.
Я отломил кусочек этого чуть зеленоватого льда, положил на ладонь, понюхал, лизнул зачем-то, несколько секунд рассматривал под фонариком и вдруг с отвращением отбросил в сторону, потому что, наконец, понял, чтоэто.
Вскоре я полностью восстановил картину посещения.
Человек был один. Он преодолел забор на юго-востоке, и это говорило о том, что он не знал другого, более удобного перелаза. Он обошел развалины, потолкался у колодца, смачно высморкался, выпустив зеленоватую соплю на угол сруба. Он полностью повторил мой утренний маршрут, двигаясь по моим следам. Затем он обошел участок по периметру, делая бессмысленные петли, как бы что-то ища, и, заметив западный перелаз, воспользовался им, чтобы покинуть сад. Я вспомнил глубокие следы автомобиля за квартал от дачи, которым сперва не придал значения.
Итак, не я один интересуюсь этой историей. А может быть, кого-то интересую я сам?
В свете этого открытия как-то померкла цель моего приезда. Еще дорогой я понял, что меня волнует мишень, точнее – рисунок, выбитый пулями. Вспомнив, как утром я усмехнулся над слабой кучностью упражнения, сейчас я обругал себя последними словами – за то, что сразу не увидел очевидного. Да… Это сделал меткий, фантастически меткий стрелок.
Кусок железа был укреплен невысоко и я, снова включив фонарик, поставил его так, чтобы отверстия засветились.
Я отошел на несколько шагов. Сердце мое защемила страшная, невыносимая тоска. Семь выстрелов легли так, что образовали ничто иное, как фигуру созвездия Ориона…
* * *
Итак, она совершила предательство. Три пули легли в ряд, словно пояс небесного охотника, остальные – четырехугольник по краям: Бетельгейзе, Беллатрикс, Ригель – молодые косматые гиганты, где-то в невообразимом пространстве несущие ответственность за наши судьбы… И она совершила предательство.
Орион был незакончен: не хватало звезды, не имеющей собственного имени и обозначающейся греческой «лямбдой». Это было понятно, стрельба велась из семизарядного американского кольта, и звезда была принесена в жертву как безымянная.
Созвездие, которое мы однажды зимним вечером назвали нашим, восемь мерцающих жемчужин, созвездие, через которое там, почти в самом сердце Азии, большую часть года я смотрел, как сквозь зеркало, в надежде увидеть твои глаза. Или ты думаешь, будто что-то другое позволило мне выжить?
Марина не умела стрелять. Следовательно, кто-то другой, меткий, посвященный в нашу тайну, глумясь, выбил на куске ржавого железа звезды.
И спустя несколько часов ты умерла, перестала существовать, здесь же, на этом пепелище… Нет, не по-русски сказано, безграмотно: это я – на пепелище, а ты была внутри… Или?
Вся моя жизнь сфокусировалась в этой точке, в этом трепещущем или.
Никто, кроме Марины, не мог выбить звезды. Допустим, она записалась в спортивную секцию и научилась стрелять. Или же – ее научил какой-то мужчина. Вероятно, он и стрелял – какая еще секция, что за бред… Но в это невозможно поверить, потому что очень немногие люди в мире знают рисунки созвездий, не считая, конечно, профессиональных астрономов, на которых мне наплевать, так как звездное небо для них то же, что для архитектора Париж.
Я снял мишень с дерева и с незначительным усилием разорвал на две половины. Вот если бы и небо так разом, чтоб хлынула сквозь рваную щель ослепительная плазма…В прошлом году, когда Shoemaker-Levy-9падал на Юпитер, я страстно желал, чтобы эта недоразвитая звезда взорвалась, уравняв тем самым сорок миллиардов человеческих существ, прошедших по планете за ее историю… Это было преступное желание, но я и есть – преступник.
Больше мне совершенно нечего было делать на даче, и я принял решение уйти отсюда как можно скорее, но, сделав несколько шагов, остановился, как вкопанный, и ужас охватил меня. Метрах в двадцати на юге я увидел огромную, черную, чем-то пародирующую человека – фигуру. Ее рост был значительно выше любого из когда-либо живших на Земле людей, и цвет ее был чернее черного.








