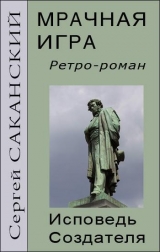
Текст книги "Мрачная игра. Исповедь Создателя (СИ)"
Автор книги: Сергей Саканский
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
ОФИЦИАЛЬНАЯ СМЕНА ЛИЦА
Рома Ганышев, бедный, едва сводивший концы с концами молодой программист, сутулый и невзрачный, и Гена Хомяк, его лучший и единственный друг, его антипод, здоровый и красивый мужчина, богатый наследник, владетель жизни, также, между прочим, молодой программист, как-то ясным холодным утром осени 1986 года, в праздник Покрова, посетили церковь Воскресения, что на Успенском Вражеке, точнее, на улице Неждановой, и там, в таинственной и ложной, плохо сфокусированной реальности воска, лучей, зычного голоса, Ганышев впервые увидел ее…
– Не может быть: православная негритянка!
– Скорее всего: аскалка. Я сам за ней давно наблюдаю…
Видимая в профиль, она беззвучно шептала слова молитвы, свеча в ее пальцах трепетала от ее дыхания, белоснежный русский платочек темнил ее, впрочем-то, довольно светлую для аскалки кожу, и многие присутствующие в храме искоса поглядывали на нее.
Она почувствовала взгляды, обернулась и нежданно, в этой слезами блестящей вариантности, встретилась с Ганышевым на несколько мгновений, и луч ее заставил его содрогнуться. Увы – нельзя было не любить это лицо.
Долгие годы невыносимой тоски и одиночества моя душа все дальше и дальше отходила от тела, и жизнь, которую я живу, пока нет тебя, все более кажется мне нереальной, призрачной, а настоящая моя жизнь там, где ты, да, пусть я была гадкой строптивой девчонкой, может быть, я и осталась ею, но та, которая все эти годы ждет тебя, и есть девушка, ушедшая в монастырь, как и было обещано, девушка-доппельгангер, даже помыслом не изменившая тебе. Это выглядит так: будто из меня нынешней вышла другая, разорвав в кровь мою оболочку, и эта другая – белая, светлая – приняла душ, смыв остатки чужой крови, гнилых вен, одела чистое белое платье…
От пустоты времени и по многим другим понятным причинам я заучил наизусть и эти слова, и все остальные ее письма… Почему-то у меня больше не получались стихи.
– Может, подождем ее на паперти, интересно… – предложил Хомяк.
– Зачем это? – возразил Ганышев, но, спустя час, когда они, следуя карикатурной беспечности тех лет, бросавшей каждого из нас в непостижимые крайности, штурмовали вместе со всеми винный магазин, у Ганышева засосало под ложечкой от этой невстречи, этого неизлома реальности, и еще через час, откупорив и выпив, Ганышев совсем сник от этой несостоявшейся любви.
Облик дачи, которую он не видел с весны, не обрадовал его, к тому же, родители Хомяка, прожив здесь сезон, сделали перестановки, к которым еще надо было привыкнуть. У антикварного рояля, царившего посередине гостиной, почему-то исчезла крышка с клавиатуры, и инструмент приобрел откровенную белозубую улыбку. На многих дверях – совсем уж непонятно, для чего – появились новые, блестящие хромом щеколды, будто члены семьи внезапно возненавидели друг друга…
Целомудренное утро, осененное церковной чистотой, перешло в глухой дачный вечер, когда с чуждой немецкой пунктуальностью действительно повалил снег, и друзья, затопив камин, продолжали жрать портвейн, говорили о политике, о науках и искусствах, о женщинах.
– Эти аскалки очень хороши в постели (немного икая). Никогда себе этого не прощу, где ее теперь искать?
– Нет ничего проще (все просто, когда есть портвейн). Она была в этой церкви сегодня, почему бы ей не пойти в следующее воскресенье?
– Точно, прямо на паперти. Она роняет платок, нагибается, и молодой человек, с массой тончайших, остроумнейших комплиментов…
Всю эту хмельную ночь, холодея под ватным одеялом, Ганышев занимался фантазиями – и простыми эротическими, и глубокими духовными, как всегда в подобных случаях, если какая-нибудь девушка бросала на него взгляд, он программировал собственный вариант реальности, и упущенный случай вырастал в быстро проговариваемую повесть – с нежнейшим диалогом, с живыми призраками улыбок, с неминуемым катарсисом – липким, горячим, постыдным…
Вся следующая неделя прошла в этом счастливом тумане: он вглядывался в лица прохожих женщин, пытаясь занять на время ее черты, мысль, иногда свободная от навязчивой идеи, вновь цеплялась за промельк церковных луковок в окне троллейбуса, Хомяк, пять лет университета прососедствовавший с ним за одним столом и теперь соседствующий этажом выше, повесил в своем углу красочный плакат, смазливую негритянку с бананом, как бы издеваясь, хотя это было случайным совпадением: их организация в те дни получила новые игривые календари, как бы прикручивая свои дурно коптящие светильники, но именно эта случайность больше всего поразила Ганышева, представляясь в виде какого-то знака судьбы.
Ничего не сказав другу, в воскресное утро (был следующий по церковному календарю праздник) он отправился на улицу Неждановой и сразу, едва перекрестившись у портала, увидел ее через открытую дверь.
Народу собралось много, к тому же, часть помещения была отгорожена для ремонта, и в этой толчее Ганышев начал свое продвижение к намеченному объекту, терзаясь и мысленно матерясь. Он терся и сопел вокруг нее, тщательно подобранные, такие ладные слова улетели прочь, и она заметила его лишь тогда, когда, закончив свою молитву и повернувшись к выходу, наступила Ганышеву на ногу.
– Ах, простите, я сделала вам больно…
– Что вы! Ничуть. Тут такая толпа…
– Слава Богу, я ухожу.
– Я тоже. Вы позволите проводить вас?
Она не ответила словом, но короткий взгляд, торопливо брошенный из-под удивительных бархатных ресниц, сказал – да!
На улице она сняла платок, волосы ослепительно черным дождем полились ей на плечи и спину, пока не застыли у талии, где-то в районе зимы, и снежинки облепили их, не сразу тая, но оказывая милость насладиться совершенством кристаллов… Господи, ей было всего шестнадцать лет!
Все кончилось искренним дружеским рукопожатием в вестибюле метро и телефоном проходной общежития – в его записной книжке, которую теперь надо постоянно ощупывать в кармане у сердца…
В понедельник утром Ганышев, присев на край хомяковского стола и бросив косой заговорщический взгляд на календарь, принялся беспечно и весело болтать, зная, что у него есть сенсация под конец сеанса.
Их давняя, еще детская дружба была разновидностью соперничества, скрытой мучительной битвы, в которой рано или поздно должен был объявиться проигравший.
Это казалось вневременным, данным на какой-то абстрактной игровой плоскости: у кого лучшие игрушки, кто имеет больше денег, кто лучше владеет мячом, боевыми искусствами, компьютером, кто объездил больше городов, выпил больше вина, кто первым поймал жука, сдал кандидатский минимум, у кого самая красивая мама, кто больше нравится женщинам, – в этом последнем Ганышев был, бесспорно, проигравшим: Хомяк выпускал более мощный поток той таинственной, еще не открытой энергии, которая часто, вне зависимости от всех прочих свойств субъекта, влечет противоположный пол, да, это был главный и совершенно убийственный козырь Хомяка: ведь как бы высоко ты ни летал, каким бы ни стал мастером и бакалавром, знаменитым художником или поэтом, великим мыслителем, – если ты не возбуждаешь аппетита у женщин, ведь ты говно, ей! – дерьмо вонючее, тухляк, вот я, например… и Хомяк выдавал очередную душераздирающую историю, которая не была лишь эротической фантазией, мелким продолжением какого-нибудь шапочного знакомства на остановке, а действительно происходила в некоем темном, потном, малознакомом Ганышеву пространстве, и даже Полина, старая шлюха, была в свое время великодушным подарком Хомяка, или, как подозревалось потом – далеко заброшенной блесной, дабы лишний раз доказать Ганышеву, как плохо и неумело он делает это.
Вышеизложенная наидлиннейшая фраза молниеносно прокрутилась в сознании Ганышева, когда он, болтая ногами, поведал наконец вчерашнюю историю другу, ничуть не приукрасив, разве что, заменив рукопожатие на поцелуй, и когда Хомяк, долгим задумчивым взглядом посмотрев на банановую фотомодель, самым невинным голосом сказал:
– Это очень кстати. Мы с Дусей как раз открываем сезон в Переделкино. Отполинь свою и приезжай с новенькой.
– Вот тебе, – сказал Ганышев и, издав поцелуйный звук, показал из паха кукиш.
* * *
Она была зачата в Москве и родилась в Киеве, куда ее мать, так и не покорив великий год, вернулась в родительский дом с незаконченным высшим образованием, с катастрофическим делением клеток под сердцем и, так сказать, с позором. Марина– это вполне советское имя, вероятно, было произведено (сознательно или под) от названия страны, откуда прибыл студент, даже несколько в квадрате, потому что прибыл этот веселый бурш из города Марракеша, издревле славившимся производством шерсти, пряжи, ковров, пальмового волокна. Цитадель Хll века с украшенными эффектным декором воротами, мавританские мечети, медресе, белые, словно мукой осыпанные улицы, оживляемые подвижной тенью листвы – можно было бы вдруг, совсем обезумев, завести обстоятельное жизнеописание этого субъекта, высокого, стройного мулата, поленившегося надеть презерватив, углубив и затянув тем самым эту и так мучительную рекламную паузу, или лучше, поэтичнее – эту жемчужину изящной словесности, ловко вставленную в оправу из прочих слов…
Она бросилась под поезд на станции метро «Арсенальная», и этот внезапный импульс (вместе с нею в кашу превратилась авоська со сладким перцем, только что купленным на Бессарабке) можно понять, как и бабушку, в чьей истерзанной душе преспокойно уживались набожность и расизм.
От отца она унаследовала не только специфическую внешность, но и абсолютный музыкальный слух. Пятнадцати лет она эмигрировала в Москву и поступила в музыкальное училище, вернувшись в город своего детства в цинковой облатке, застреленная единственным метким выстрелом в сердце, изнасилованная новообращенным некрофилом и кремированная спустя несколько минут – вместе с остатками дачи, на которой прошли чуть ли не лучшие дни и ночи ее жизни… Но все это еще впереди, все это – как брешь в разорванной странице и величина, неизвестная в текущий момент.
Я не могу понять, почему так быстро выкристаллизовалась моя любовь к тебе: теперь, спустя так много лет, я с прекрасной ясностью представляю и то волшебное стечение обстоятельств, и то внезапное стечение наших взглядов, когда в их лучах, словно сквозь магический кристалл, я увидел все наше будущее, роковую неизбежность любви, страдания, смерти, послушай, ведь я вовсе не собирался тогда в церковь, мы просто шли за вином в стекляшку у Никитских ворот, и мой друг, соблазнившись таинственной тьмой распахнутой двери, предложил зайти на минуту, ведь я тебе еще не говорил: мы увлекаемся, мы хотим осмотреть все действующие храмы города, это своего рода хобби, и вот чем обернулась и еще обернется эта минута, скажи, не сам ли Господь Бог устроил нашу встречу, тонкой невидимой палочкой подталкивая беспокойные фигурки?
–Нет. Ты не прав. То есть, ты, конечно, в чем-то и прав, но… Если бы я могла выразить словами так же гладко, как это умеешь ты! Я говорю: разумеется, на все Божья воля, только цели Его нам совершенно неведомы.
– Может быть для того, чтобы родить на свет какого-то особого, с особой миссией ребенка? – подумал Ганышев.
– Мы этого не знаем, – сказал он, – но если у нас что-то началось, оно ведь не может пройти просто так, верно?
– Что это у нас началось? Я вижу тебя второй раз в жизни, мы только что перешли на ты, а ты рассуждаешь, будто…
– Стоп! – Ганышев хлопнул себя по лбу, так что получилось театрально. – Я не могу отделаться от ощущения, что где-то видел тебя раньше…
– Это бывает, дежавю называется. Из этого даже сделали известный прием…
– Неделю назад, в Цветаевском музее, мы с Хомяком ходили на выставку Сальвадора Дали…
– Нет, я не была, но если кто-нибудь…
– Конечно, пойдем! И… кажется, еще где-то, может быть, в театре?
– В прошлой жизни,– страшным шепотом произнесла Марина, и оба рассмеялись.
Они допили кофе и вышли на воздух. Кажется, падал снег, или это всего лишь навязчивое видение, вызванное непрерывной плоскостью облаков под крылом… Ганышев подумал, что «Лира», куда они обычно ходили с Полиной, не самое лучшее место для встреч.
– Пойдем в кино? – предложил он.
– Пойдем… А на трамвае покатаешь?
– Что? – смысл шутки не сразу дошел до Ганышева, он вдруг подметил, что в ее лице мелькнуло что-то странное, отнюдь не ангельское, но тотчас восстановились прежние черты.
– А поехали на дачу! – вдруг выпалил он.
– Поехали, – вдруг согласилась она.
Ганышев остолбенел, и его глупое сердце отчаянно забилось: неужели все так просто? Значит, она вовсе не… А самая обыкновенная…
– Шлюха, – сказала она. – Признайся, ведь так ты сейчас подумал?
Ганышев прилежно опустил глаза.
– Послушай, – сказала Марина, двумя пальцами осторожно потрогав его пуговицу. – Я вовсе не собираюсь с тобой ночевать.Мы могли бы действительно куда-нибудь съездить, проветриться. Это гораздо лучше, чем сидеть в темном кино, где ты с упорством школьника будешь домогаться моей руки.
– А если я буду просить твоей руки в прямом смысле?
– Увы, – Марина глянула на небеса, показав ослепительные белки, – придется отложить этот разговор до моего совершеннолетия.
Они вдруг принялись хохотать, пристально глядя друг другу в глаза, и так же вдруг замолчали…
– Так что? Поедем?
– Поедем, поедем. Да и вообще… – Марина быстро посмотрела на часы. – Сегодня мне надо быть в общаге пораньше и выдолбить одну гамму. Так что бегом в кино и все. А на эту твою дачу съездим в субботу, с утра.
Ганышев приуныл.
– Во-первых, дача не моя, а моего друга, – скучным голосом проговорил он, – а во-вторых, в субботу там занято.
– Да?
– Ну, там будет что-то вроде праздника, начало сезона… Понимаешь, родители живут там все лето и пол-осени, а зимой обитаем мы, и вот, в эту субботу…
– Ну и что? Поедем на праздник, я люблю веселиться.
– Поедем, – пожал плечами Ганышев.
Эта затея ему не нравилась: он вовсе не собирался знакомить Марину с Хомяками – по разным причинам, не говоря уже о главной: Ганышев с трудом представлял, как Дуся отреагирует на перемену «невесты».
Вернувшись в тот вечер домой, Ганышев принялся думать о своих отношениях с Линой, и ему стало так горько, что нестерпимо захотелось выйти в другое, более спокойное пространство: выпить или покурить травы.
Он позвонил Хомяку, но трубку взяла Дуся, ровным голосом сказав, что муж еще не вернулся из шахматного клуба, и ее подозрительность имела под собой вполне реальную почву, ибо никакого шахматного клуба не было: эта очередная выдумка (прошлым увлечением была рыбалка, с которой Хомяк как-то умудрился принести морскую рыбу) угрожала вот-вот лопнуть под натиском Дусиной ревизии.
Ганышев отыскал заначку в закромах матери (у нее недавно начался очередной роман, и она часто пропадала вечерами) и напился. Чужеродное вещество, попав в его кровь, сделало окружающий мир более податливым: Ганышев позвонил Полине и, как ему показалось, решительно порвал с нею. Вернулась мама, счастливая, пахнущая духами, пахнущая мужчиной, чуть пьяная, и Ганышев, приникнув к ее плечу, все ей, плача, рассказал, во всем повинился – украл ее водку, думал о ней дурно, ибо она не верила в Бога – мама гладила Ганышева по волосам и тоже, наверное, прослезилась.
– Представить не могу, что у меня будут черные внуки…
– Но мамочка! Ее отец был не негр даже, а мулат. В сущности – ик! – она ровно настолько же негритянка, насколько я – еврей.
Поздно вечером позвонил Хомяк, и Ганышев, еще полный химической свободы, взял с него кровную клятву, что он никогда, ни при каких обстоя… Не посягнет… Ибо это единственное, что осталось у него в жизни…
– Не беспокойся, – заверил его друг. – Аскалки вообще не в моем вкусе. К тому же, у меня сейчас такая баба, что тебе и не снилась.
* * *
Порвать с Полиной, однако, оказалось не так-то легко.
На следующий вечер она без звонка заявилась к Ганышеву домой и потребовала объяснений. Он был полон какой-то мрачной твердости, он стоял, привалившись к стене, молча наблюдая истерику, а затем вдруг сильно, с омерзением и страхом ударил любовницу по лицу – так взрывают мосты…
– Полина, он не полетит, – изрек Ганышев, удивленно разглядывая свою ладонь.
Кажется, именно в этот момент я впервые заметил подозрительный излом на линии судьбы, по хиромантии предвещающий тюрьму.
– Полетит, – задумчиво произнесла девушка, отерев обагренное пощечиной лицо. – Полетит далеко и надолго.
И вышла, оставив настежь открытую дверь и дымный след сигареты, будто свой собственный призрачный силуэт – критическое свое, параноидальное свое одиночество.
* * *
В восемь утра в субботу, Ганышев встретил Марину на «Киевской», в центре зала, у фонтана и, глядя в ослепительные черные глаза, непринужденно болтая, думал: эх, знала бы она, чтопришлось перенести ему в эти последние дни… М-да! Знал бы он сам, чтопридется перенести ему за несколько последующих дней, последующих месяцев, последующих лет…
Возвращаясь в ганышевский период моей жизни, я с кинематографической точностью вижу этот сломанный, как бы за смертью ребенка выброшенный на свалку, игрушечный мир, вижу не в пелене тумана, не в кипении царапин на изношенной пленке, а будто в каком-то четком, полном солнечной искренности дверном проеме. Я плохо представляю стену, в которой прорублена дверь в мою юность, но картина, создаваемая на сетчатке глаз, безукоризненно сфокусирована и необычайно ясна.
А создается непритязательный интерьер тамбура электрички, полный едкого дыма, тогда еще вполне табачного, сломанная стеклянная створка с неизменно подтертой надписью, неперестроенная переделкинская платформа середины восьмидесятых (почему-то особенно запомнилась мусорная урна, подожженная какими-то огнепоклонниками, которые теперь – увы – выросли и, вероятно, шмаляют из неигрушечного оружия в горячих точках страны), мертвый сухой вяз, зачем-то скоротавший свою сотню лет на обочине дороги, деревянный забор Рождественской церкви, деревянная же улица дачного поселка, сама дача, окруженная соснами, также лет сто ожидающими драматического зрелища – нетрудно уловить в этой череде звуков нечто общее, целенаправленное, так или иначе провоцирующее будущий пожар… Дача привела Марину в какой-то дикий восторг, девушка вела себя так, будто только что приняла изрядную затяжку, и Ганышеву даже показалось, что она намеренно переигрывает, чтобы польстить хозяевам. Впрочем, в тот сумасшедший день чувство безумия охватило всех и все: небо страдало от первого зимнего солнца, гости, давненько не видевшие друг друга, разрывались от желания все всем рассказать, да и выпивки было более чем достаточно – обычно скупой Хомяк на сей раз неожиданно расщедрился.
В середине вечера, когда все набрались настолько, что кое-кто, в том числе и Дуся, временно умерли где попало, Ганышев вдруг решил, что его чудесная мечта сбудется именно сегодня, почти сейчас, но Марина, быстро разгадав его намерения, отвела Ганышева в угол под лестницу и, поигрывая его пуговицей, произнесла такие слова, которые вполне могли бы отрезвить его, будь он не так сильно пьян.
Да, да, я вероятно, скажу тебе да, огромное, до небес, на крепких корнях произрастающее ДА, слушай, я наверно и впрямь дура, но что-то в тебе есть, и поверь, я никого не любила никогда, никого не люблю и сейчас, и через неделю, через месяц, но у меня такое странное чувство, что это когда-нибудь произойдет, друг мой, душа моя, делай со мной все, что захочешь – да! – но эти слова я скажу тебе не сегодня, скажу когда-нибудь, может быть, не скажу никогда вовсе, а сейчас иди спать, потому что ты уже набрался, как Ной, и неизвестно, куда еще заплывешь.
Ее глаза блестели, и вся она была, как натянутая струна, ее энергия была так сильна, а курсив столь упруг, что ганышевская пуговица осталась в ее пальцах.
Он повиновался. Хомяк отвел его в самую дальнюю комнату и уложил, посоветовав запереться изнутри, дабы кто-нибудь случайно не заглянул сюда пофачиться. Ганышев блаженно вытянулся во весь рост, завернувшись в ватное одеяло, в не менее ватные грезы о любви, семье, очаровательных смуглых детках, и дом поплыл куда-то, словно Ковчег, и звуки рояля, доносившиеся из залы, округляя метафору, символизировали волны, бьющие о борт, затем вошла мать, присела на край кровати, заплакала, но Ганышев прогнал ее, погрузившись в еще более глубокий сон, где он занимался всякой ерундой – на пару с другом валил двуручной пилой вышеуказанный сухой вяз, не догадываясь, что это – один из многих, всю жизнь мучающих нас, звоночков из будущего, потом он старательно разрезал хрустящие денежные купоны и, углубясь уже на самое дно Марианской впадины, твердой рукой поднял парабеллум и выстрелил, как пишут в пошлых романах, в самое сердце своей возлюбленной… И Полина умерла во сне, навсегда исчезнув из его жизни.
Внезапно он проснулся. Дача была безмолвна. Показалось, будто кто-то подошел к двери, послушал и на цыпочках удалился. Ганышев нащупал на полу недопитую бутылку (Хомяк позаботился о похмелье друга) и вслепую выпил несколько глотков бормотухи. Внезапно возникшая безумная идея показалась мудрой, совершенно естественной. Он вышел из комнаты и так же на цыпочках, как та недавняя галлюцинация, поднялся на второй этаж, где, как было решено еще вечером, спала Марина.
Ему пригрезился запах марихуаны, что было также галлюцинацией, посещавшей его в самых невообразимых местах: в театре, в церкви – людям, вкусившим это магическое знание, всегда чудится его запах…
Он тихо вошел и закрыл за собой дверь. В проеме окна стоял Орион, вполне освещая комнату и девушку, разметавшую волосы на подушке. Бетельгейзе, этот непостижимый кровавый гигант, окрашивал все сущее в соответствующий цвет, как бы символизируя то, что должно было здесь произойти. Ганышев бросился на спящую девушку, жестом русского рубахи-парня оторвав свои последние пуговицы. Когда Марина проснулась, было уже поздно: вся ее православная ортодоксальность, вся тщательно сберегаемая для какого-то теоретического мужа девственность, равно как и ганышевские мечты о венчании с аскалкой, облаченной в белоснежную фату, – все это выплеснулось из девушки-женщины кровавым протуберанцем, смешавшись с белоснежной спермой насильника, и в этот миг сквозь ирреальную, откровенно выдуманную и для дураков освещенную – Бетельгейзе, Ригелем или там Регулом – картинку, на самом законном основании проступили облака, серебристые змейки рек в разрывах, и я («в колодцах между туч мерцали…») отвернулся от мутного иллюминатора и стал скучающим взором рассматривать пассажиров. Как знать, может, среди них был еще один будущий убийца, и даже не один?
Курсив мой, – как однажды выразились друзья-литераторы. Сколько грусти заключено в этом сказочном слове… ОднаждыГанышев стоял перед ее дверью и, пьяно вообразив эту душе– и телораздирающую сцену, ужаснулся. Как знать, случись она на самом деле, я (то есть, все-таки, Ганышев) двуручной пилой с Божьей помощью валил бы стволы не по 88-й, а 117-й статье, не летел бы за полторы тысячи верст за сожженной любовью, не предавался бы мучительным и красивым воспоминаниям на высоте двенадцати тысяч метров и на сто восемьдесят градусов изменил свои сексуальные наклонности…
Слава Богу, Ганышев всего лишь постоял перед закрытой дверью, на всякий случай зачем-то даже осторожно на нее нажал (проклятые Хомяки – везде понаделали запоров) и вернулся в свою комнату, где ждала его недопитая бутылка вина.
Он лежал и пил, и даже наслаждался сознанием, что он хотя бы услышалее через закрытую дверь. Бедная, бедная моя девочка, измученная жизнью в вонючей общаге, ежедневным приставанием, тоской по черной своей родине, язычеством, христианством и черт знает, чем еще… Она спала беспокойно, метаясь во сне, и скрип старых пружин, наверно, вызывал музыкальные сновидения, она стонала во сне – чужим, утробным голосом и Ганышев, слыша все это, чувствовал, как слезы наполняют его глаза… Наполнили, но – увы – не выкатились. Увы, ни одна слеза не покинула тело Ганышева в ту роковую ночь. М-да.
* * *
Ганышев проснулся от музыки: в сердце дома звучал Abbey Road,причем, на самом любимом месте хозяина – похоже, он решил включить спящую компанию таким нежным образом – юный Леннон тонко и трогательно вытягивал Because…
Однако, спустя какое-то время, вернувшись из сна в явь (переход, конечно, чисто словесный, весьма спорный), Ганышев осознал, что слышит не мертвую магнитную запись, а вполне живые струны рояля, и звучит вовсе не Because,а самая обыкновенная «Лунная соната».
Марина сидела за роялем, ее распущенные волосы цветом и блеском соперничали с инструментом, причем, явно не в пользу «Шредера», Хомяк, расположившись в венском кресле поодаль, сонно наблюдал за исполнительницей, время от времени пригубляя из бокала, Дуся, с редким для нее отсутствием выражения ревности, возлежала на оттоманке, окруженная подушками: пережрала, бедняжка, что, впрочем, не мешало ей наслаждаться бессмертным творением мастера, неуверенно оживавшим в длинных, тонких, таких, наверное, нежных пальцах интерпретаторши.
– А где все? – глупо спросил Ганышев, как раз в тот момент, когда пальцы пытались справиться с одним из самых сложных пассажей.
– Схиляли на первой собаке, – сказал Хомяк, и музыка сразу оборвалась, Марина опустила глаза и руки, наступившая тишина обратила только что спаянный человеческий круг в гигантский четырехугольник.
– Что вы называете собакой,Геннадий? – спросила Марина, чтобы пробить паузу.
– Электричку. Неужто вы этого не знали?
– Нет. Мне не нравится, когда коверкают русский язык. Собака – это животное на четырех ногах, с двумя ушами.
– Четыре четырки… – попытался пошутить Ганышев, но никто не обратил на него внимания.
– Ты совершенно права! – подала голос больная Дуся. – Если б ты знала, как достали меня все эти ихние герла, задринчим, асканем, взнучим…Причем, были б они настоящие хиппи, а то так: летом на пару недель стопом в Гурзуф, затем – рассказов на целый год.
– Ну и что? Иногда несколько секунд оргазма помнишь всю оставшуюся жизнь.
– Гена, прошу вас, не говорите пошлостей.
– Ладно, сдаюсь. Извините. Между прочим, не пора ли нам тоже перейти на ты?
– Я не против. Ты хоть и не лишен недостатков, но, в общем, мужчина неплохой.
– Назови меня еще дядей – Гумбертом или Карлсоном. Никакой я не мужчина в расцвете сил, а элементарный молодой человек, образно выражаясь – довольно клевый чувак. Кстати. Так это не делается. Надо задринчить на брудершафт, поцеловаться, а уж потом сказать друг другу это заветное интимное ты.
– Я не против. Только меня совершенно не тянет пить эту вашу «осень».
– Ужасно! – вмешалась Дуся. – Ты и так – так скверно выглядишь, что еще один глоток…
– Ничего подобного! – воскликнул Хомяк. – У меня наверху завалялось полбутылки шампанского. Как хорошо, что я не вспомнил о нем раньше…
– Позволь мне узнать, где и какэто у тебя завалялось?– угрюмо спросила Дуся.
– Среди прочего хлама, как раз под той кроватью, где сегодня почивала наша дорогая гостья.
– Потрясающе! – сказала Марина. – Оказывается, я всю ночь провела с этим игристым, чудесным, любимым моим напитком? Правда, я почти не спала: мешали звезды. Казалось, они были нарисованы прямо на стекле…
Хомяк отправился наверх, Марина, поглядев куда-то за окно, устало произнесла:
– Вы не поверите: это была самая лучшая ночь в моей жизни. Эта маленькая комнатка чем-то напоминает уютную каморку Раскольникова, а все те комнаты, где я жила раньше, походили на гробы.
– Не понимаю, – подал голос Ганышев, – что ты в ней нашла? Обыкновенный шкаф, только большой.
– А вид из окна? Впервые в жизни я вижу порядочный вид в этой стране… Вот если бы вы разрешили мне хоть немножечко пожить здесь… И этот рояль…
– Сука! Мерзкая поганая тварь! – вдруг вскричала Дуся. – Подумать только: эдак как бы случайно, тихой сапой… Заначил шампусика под кроватью, и вроде бы только что вспомнил… Клянусь, он приводил сюда какую-то бл… то есть, pardon… exusesezmoi!Какую-то шлюху, какую-нибудь пешку из своего, так сказать, шахматного клуба. Как раз на той неделе, когда пахан схватил грипп и отлеживался дома… Скажи-ка, дядя, ведь не даром? Откуда у тебя, Карлсон, это советское, если вы все жрете исключительно шмурдяк? Ну-ка, поди сюда, такой покажу тебе Bruderschaft!
–Дусечка! – заблеял Хомяк с середины лестницы. – Надеюсь, ты не забыла, какое сейчас тысячелетие на дворе? Между прочим, год восемьдесят шестой, в не какой-нибудь там, скажем, девяносто пятый. За шмурдяком была очередь часа на два, и мы с Ромкой взяли шампу… Ну, скажи ей, Ром, пока она мне батл об хэд не разбила!
Монолог был произнесен быстро и лепетно, примерно на той же скорости, с которой работают дикторы в этом самом вышеуказанном году, однако, Ганышев все же успел понять, что от него требуется, и с готовностью нарушил заповедь номер три.
– Муж говорит правду, – лжесвидетельствовал он. – Мы действительно заначили этот пузырь на Покрова, а утром позабыли, так как опаздывали на соба… То есть, тьфу! На electrical train…Более того: именно я и засунул ее под кровать, эта привычка передалась мне от матери, она всегда так делает, кстати, вы знаете, почему я курю исключительно «Пегас»? Дело в том, что моя матушка в молодости курила именно «Пегас» и я, воруя у нее сигареты, присел…
Бормоча все это, Ганышев с гадливой ясностью представлял, как Хомяк, отпив из горлышка последний, достаточно возбуждающий глоток, ловким ударом вбивает пробку на место и тут же (шампусик еще не успел всосаться) входит в какую-то женщину, сопит, наслаждается, и все это кончается тем, что Ганышев, глядя в серые глаза чужой обманутой жены, старательно крестится троеперстным знамением, а Марина бросает на него удивленный взгляд – ведь ее проницательность была не чета Дусиной: она сразу увидела в Хомяке бабника и лжеца… Был вечер, и закупорена туго была бутылка красного вина…
– Так как же насчет брудершафта? – весело спросил Хомяк, когда страсти улеглись.
– А ты не забыл, – сказала Дуся, – что нам уже пора на станцию?
– Минут восемь у нас найдется.
– Ты собираешься посвятить этому сладостному процессу целых восемь минут?
Пока происходила их мягкая перепалка, Хомяк уже наполнил бокалы, с истинно советской тщательностью разделив это, чьим-то оргазмом подкрашенное шампанское, на четыре равные части.
Обогнув рояль с запада (его отражение в черном зеркале деки добавило нам еще некую толику Африки) Геннадий Иванович Хомяк (явно ему не хватало фрака, манишки, прочих атрибутов эпохи Шредера) изящно, лирически (то есть, напоминая музыкальный инструмент, коим беременно это многозначное слово) изогнул свою блудливую руку в извилистом жесте, и Марина, какбы передразнивая его, сделала то же самое. Выпив, они весьма корректно и целомудренно поцеловались (хоть и в губы, но коротко, хоть и взасос, но символически) и все это было наяву, и Ганышев ясно ощутил, как в момент этого скорбного бесчувствия губ вино все еще течет по их пищеводам. (Я так хорошо помню эту удивительную сцену, что готов извести сотни часов, чтобы создать ее на мониторе – кадр за кадром – красочный, никому, кроме меня, не интересный мультфильм…)








