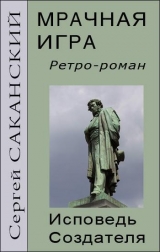
Текст книги "Мрачная игра. Исповедь Создателя (СИ)"
Автор книги: Сергей Саканский
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Я зажмурился и вновь открыл глаза. Это была елка, обыкновенная елка, облепленная снегом, затесавшаяся среди сосен – что-то вроде великана из знаменитых стихов Маршака. Да, это была елка, естественное для наших мест растение, но я мог бы поклясться, что раньше его на этом месте не было, и оно не могло вырасти до таких размеров за восемь лет, следовательно, передо мной демонстрировался все тот же ряд явлений: труба, памятники… Для пущей выразительности это совпало с моментом моей галлюцинации, и действительность как бы показывала мне свои волчьи зубы.
И тут до меня, как до жирафа, дошла запоздалая реакция на замороженную харкотину, которую я облизал, и я начал блевать. Опершись руками о две сосны – вот каким огромным стало мое тело – я принялся изрыгать из себя ниагару желудочного сока и желчи.
Вдруг кто-то брызнул мне в лицо ярким светом фонаря. Я не видел стоящего – только ослепительный круг сетчатого света. Силуэт был не очень большой, но мощный, широкоплечий. Я подумал, вооружен ли этот человек, и если нет, то я смогу с ним легко справиться. Как-то не верилось, что именно это создание тьмы могло оставить такие огромные следы… И тут я понял, что передо мной – женщина.
– Это опять вы? – услышал я голос Жанны Михайловны.
Я тихо, остаточно рыгнул, но она тактично не заметила этого, что привело меня в бешенство.
– Очень любезно с вашей стороны, что вы не уехали. Может быть, все-таки зайдете на чашку чаю, а когда ночной электричкой вернется муж, я вас с ним познакомлю. Он – профессор, очень интересный человек.
– Идите вы в жопу вместе со своим мужем, – пробурчал я, повернулся и пошел на станцию.
Небо было чистым, и я отыскал подлинный Орион. Слеза обожгла мне щеку. Я с нежностью подумал о тех немногих людях планеты Земля, которые сейчас, одновременно со мной, видят с различных континентов эту область небесной сферы.
* * *
Весь тот день я метался по городу, словно по какому-то роману Федора Михайловича, спотыкаясь о бесчисленные «вошел», «прошел», «вышел», путаясь в деепричастных оборотах метро, которое обросло новыми станциями, какими-то выдуманными, уже постжизненными линиями, мучаясь неузнаванием знакомых улиц, как если бы вполне по-русски построенная фраза состояла из каких-нибудь выдуманных слов.
Несколько раз по дороге домой я звонил Нике, ответом были длинные гудки. Уже в лифте меня посетила элементарная идея, из тех, которые всегда следуют с опозданием. Не раздеваясь, я сел на тумбочку в коридоре и набрал справочную. Через несколько минут адрес Ники был у меня в руках.
– Может, сначала примешь ужин? – забеспокоилась мать, но я только махнул рукой.
Вскоре я разыскал дом на Тверском бульваре, поднялся на пятый этаж и несколько раз безуспешно позвонил в старую обшарпанную дверь.
Молчание.
Тупик.
Все мои действия кончались этими молчаливыми тупиками, будто я был шариком известной детской игры. Почти десять часов вечера…
Я уже сделал несколько заплетающихся шагов по лестнице, как вдруг услышал клацанье замка. Я оглянулся: открылась противоположная дверь, и я увидел голову женщины.
– Что вы хотели?
– Ничего особенного, – сказал я, в два прыжка одолел лестницу и очутился в ауре роскошного, пышущего жаром тела.
– Меня интересует квартира номер семнадцать, уточнил я ледяным голосом, который мог бы принадлежать как милиционеру, так и профессиональному убийце.
– Если вы хотите ее снять, так она занята, а если, – женщина смерила меня оценивающим взглядом, – вас интересуют девушки, то их нет уже месяца три. Во всяком случае, я там поливаю цветы и не заметила, чтобы кто-нибудь трогал вещи.
Она поливает цветы три месяца, – эта фраза крутнулась в моей голове и тотчас разбилась на сотни стеклянных шариков.
– Следственный отдел уголовного розыска, – вдруг выпалил я. – Я уполномочен воспользоваться вашим ключом для осмотра квартиры.
– В столь поздний час? – она кокетливо склонила голову набок.
– Ни сном, ни духом, мадам.
– А можно взглянуть на ваше удостоверение?
– Разумеется, – сказал я и, симулируя жест самый привычный, полез в потайной карман пиджака.
Несколько секунд соседка рассматривала то, что я показал ей, как и подобает, в развернутом виде из собственных рук.
– Хорошо, – наконец согласилась она. – Мне как раз пора освежить цветы.
Она скрылась за дверью и вскоре вернулась, покручивая на пальце кольцо с ключами. Я заметил, что она успела причесаться и тронуть губы помадой. Если бы эта набитая дура немного смыслила в жизни, она не только не позволила бы менту ворваться в квартиру без санкции и понятых, но и с гораздо большим вниманием отнеслась к той ксиве, которую он предъявил.
Это была уродка. Ее непомерно пышный бюст как бы рассматривал меня, словно пара очков. Соски, топорщащие даже грубую материю свитера (если продолжить метафору) напоминали выпуклые блики света от электрических ламп. Над всем этим, на длинной тонкой шее, колыхалась мучительно маленькая голова, и черты ее лица были какие-то птичьи, типичные для жительницы города, который я с детства ненавижу.
Мы вошли в квартиру. Просторная прихожая, располагающая к велосипедным прогулкам. Налево-направо две комнаты. Прямо – кухня и прочее.
– Приступайте, – сказала женщина, глянув через плечо, и быстро прошла в ванную. Я услышал шум воды.
– Вы хозяйка этой квартиры? – спросил я.
– Нет, просто слежу за ней. Хозяева отстроили дом в Тарасовке, что называется, вышли в люди. Ника снимает ее. Месяца три, как уехала в Крым. Кстати, странно: она давно должна была вернуться.
– Куда именно она отправилась?
– Секундочку. Ай, ай… Ну-да, Данила-мастер! В Ай-Даниль. Какой-то пансионат или санаторий, по путевке.
Интересно, допожара или после?
– Не помните точно, какого числа?
– Разумеется. Это было второго ноября, у дочки как раз начались каникулы.
На другой день после пожара, буквально, через несколько часов.
– Вы видели ее в тот день?
Это был вопрос, решавший все. Если бы она сказала «да», мой роман с действительностью был бы закончен.
– Да, – сказала она и вдруг закашлялась. В эти мгновения я пережил многое…
– То есть, что же я вру? Я забыла. Она оставила записку.
– Почерк принадлежал именно ей?
– Да. Впрочем… Я не очень-то знаю ее почерк.
– Записка не сохранилась?
– Нет, конечно. Извините, мне надо поухаживать за цветами.
Мы прошли в комнату. Ничего особенного: неприбранное жилище одинокой женщины – поперек кровати банный халат, на стуле – скомканные черные колготки… И вдруг мое сердце забилось, я ощутил резкий спазм в гортани, будто подавился недожеванным куском. Комната медленно пошла вкруговую, явно демонстрируя нелепость, фальшь, мультипликационность окружающей среды…
И в центре этого кружения я увидел Марину.
Чуть склонив голову вниз-набок, как-то странно, незнакомо улыбаясь, безуспешно пытаясь подражать леонардовской шлюхе, она смотрела на меня, то есть, в объектив, то есть – на каждого желающего. Фотография была самой верхней в пачке, лежавшей на журнальном столике. Я взял пачку в руки и принялся рассматривать, тасуя, словно колоду карт.
На фотографиях были запечатлены крупные планы девичьих лиц. Всего их было одиннадцать, словно кроме существующих четырех мастей появились еще какие-то семь. Все они чуть наклонили головы вниз-набок, как-то загадочно улыбаясь – моны лизы – и по отсутствию воротничков было видно, что они либо глубоко декольтированны, либо… На лбу у меня выступила испарина. Следующая серия подтвердила мою догадку. Те же девушки – и среди них Марина – были сняты уже поясным планом, взятые чуть ниже пупков: у всех как на подбор крупные груди, и было видно, что для пущей выразительности они искусственно вызвали у себя эрекцию сосков.
Далее начиналось самое интересное. Девушки приняли излюбленную позу Поля Гогена «теха-омана» – эти фотографии выполняли двойную функцию: показывали во всей красе как обнаженные тела, так и профили лиц. Затем шли вольные фантазии на тему «я самая лучшая» – девушки причудливо изгибались, чуть не завязываясь в узел, протягивали в объектив свои груди, выворачивали наизнанку срамные губы… И среди них была Марина.
Она стояла, одним коленом упершись в венский стул, приспустив трусики, и симулировала мастурбацию. Глаза мои отказывались верить. Но это была – вне сомнения – она.
Одна странность поразила меня в этих изображениях, одна общая черта. Большинство моделей имели в той или иной степени выраженные африканские черты: либо настоящие мулатки, либо наши, доморощенные аскалки. Это был весьма романтический пансион.
– Бедненький! – услышал я голос соседки. – Тяжело на такое смотреть нормальному мужчине… Понимаю.
Я ошалело оглянулся на нее. Кажется, на несколько минут я вообще забыл о ее присутствии. Безумная мысль посетила меня. А что, если нет и никогда не было никакой Ники?
Я отделил от пачки крупные планы и дал соседке в руки.
– Если среди них Ника?
– Конечно, – сказала она. – Именно здесь они всем этим и занимались.
Нет, она указала не на Марину.
– Скажите, а этудевушку вы знаете?
– То же мне «девушку». Вы бы еще сказали – девочку…
– Знаете вы ее или нет? – терпеливо спросил я, трясущейся рукой алкоголика протягивая фотографию Марины.
– Да, – сказала соседка. – Это Лиля.
– Лиля?
Гадкая улыбка появилась на моем лице: конечно, это двойник, доппельгангер – ведь не могла же в самом деле Марина, моя Марина…
– Но это не настоящее имя, – продолжала соседка, будто бы грязной половой тряпкой стирая надежду с моего лица. – Да и Ника по паспорту обыкновенная… Как ее? Серьги, бусы… Ах, да! Анжела Буссу-Би. Это фамилия ее отца, негра из Марокко или Анголы, черт их разберет. Они все так называли себя для клиентов – Лилия, Ивонна, Гера… Вы, разумеется, знаете, чем они тут занимались?
– Чем же они тут занимались? – словно эхо, пробормотал я.
– Блядством они тут занимались, – сказала соседка ласково. – Что с вами? Вам плохо? Милиционеру нельзя матом, да?
Я промолчал. Комната продолжала медленно вращаться перед моими глазами, словно я находился в центре карусели.
Вдруг взгляд соседки уперся во что-то за моей спиной, и лицо ее стало заметно бледнеть.
– Нет, невозможно! – воскликнула она.
Я резко обернулся, ожидая увидеть что угодно, но интерьер был неизменен, словно стоп-кадр.
– Вещи поменялись местами!
– Какие вещи? – встрепенулся я.
– Многие, если не все. Я ни к чему здесь не прикасалась. Сегодня все лежит не так, как на той неделе. Будто их взяли в руки и аккуратно положили на место. Вот и ящик стола выдвинут чуть больше.
– Вы хотите сказать, что тут кто-то побывал?
– Точно. И дверца шкафа…
– Может быть, это вернулась эта самая Буссу-Би?
– Нет. Тогда был бы полный бардак. Я говорю вам: кто-то обыскал квартиру… О. черт подери! Боже мой, что это?
Я проследил за лучом ее взгляда и не заметил ничего, кроме одинокого горшка на подоконнике: развесистая лилия вот-вот собиралась зацвести.
– Что вы имеете в виду?
– Подойдите и посмотрите сами. Надеюсь, вы мужчина с крепкими нервами.
Слабое эхо ее ужаса зацепила и меня. Я медленно, словно опасаясь, что взорвется миниатюрная домашняя бомба, подошел. И тут будто какая-то лямка лопнула внутри меня: на бутоне растения, бессмысленно, в отсутствие жильцов, выпустившего свой белоснежный половой орган, висела желто-зеленая, с мелкими кровавыми прожилками – сопля.
Итак, существо, любящее пострелять из ноздрей, вне всякого сомнения, двигалось маршрутом, симметричным моему – так же в поисках утраченного времени. Это мог быть как мужчина, так и немыслимая, фантастических размеров – женщина, или какой-нибудь трансвестит, мутант… Безликое, бесполое – этоперемещалось в пространстве параллельно мне, то отставая, то опережая меня, и я понял, что рано или поздно наши пути пересекутся.
Я спросил:
– Что-нибудь пропало?
– Не думаю. Тут вообще, нечего брать… Послушайте, мужественный вы человек! Мне страшно…
Она вдруг двинулась на меня и, прежде, чем я успел что-либо сообразить, прижалась ко мне всем телом, так, что я ощутил на своем животе ее арбузные груди, размерами сравнимые с массивной задницей. Развратный рот приблизился, и я невольно впитал червеобразное прикосновение губ, острый гнилостный запах, в то время как ее рука торопливо боролась с молнией на моих брюках.
Я мягко, но сильно отстранил женщину.
– Вы понимаете, что я на работе, – сказал я с каменным лицом.
– Ах, простите, лейтенант! – краснела она так же быстро, как и бледнела.
Мне захотелось повалить ее на пол и давить, скрежеща зубами, ее горло, пока она не перекусит собственный язык.
– Не стоит волнений сударыня, – сказал я. – Надеюсь, мы еще увидимся – в более благоприятной обстановке.
Я нежно провел ладонью по ее жирным волосам…
Мы вышли на лестницу, и я стал спускаться, кивнув и улыбнувшись через плечо.
– Эй! – крикнула она мне вслед. – Меня зовут Эмма.
– Эмма, – процедил я сквозь зубы, уже завернув на смежную лестницу. – Ау, Эмма! Это – я.
* * *
На следующее утро мне пришлось убедиться в том, что эта эпоха все же имеет какие-то положительные черты. Сделав несколько звонков по газетным объявлением, я запродал свой компьютер и, погрузив его в две хозяйственные сумки, отвез по указанному адресу, а на обратном пути, заглянув в авиакассу, безо всякой суеты взял билет до Симферополя.
Сборы заняли не более получаса, как в студенческие времена, когда кто-то из друзей внезапно звонил и предлагал отправиться куда-нибудь в Вильнюс – стопом, товарняком, бупом, порой даже – по билетам.
Two of us riding nowhere spending someone's hard earned pay…
Я предусмотрительно захватил с собой весь набор документов, которые когда-то напечатал на лазерном принтере – то, с чего началась моя невинная игра. Это были удостоверения: милиционера, пожарника, журналиста, и даже особый мандат, где со всякими вензелями и печатями было указано – пропустить Ганышева Р.С. в специальное минетное управление (СМУ) для сотворения минета согласно минетному предписанию.
Уже сидя в самолете, я вспомнил, что так и не посмотрел наш семейный альбом. Поразмыслив немного, я понял, что в этом не было необходимости: я знал, чтоя там увижу. Я был уверен, что на групповых фотографиях не смогу отличить свое лицо от лица Хомяка, как и его современный голос. Это могло значить лишь одно: изменился не Хомяк, а я сам. Зачем, кому это нужно, чтобы я, подобно какой-то супруге или болонке, со временем стал принимать облик своего друга? И если бы это было действительно так, то Хомяк бы не узнал меня. Значит, все гораздо страшнее, чем я думал. Значит, мысль, которую я принял сперва за курьезную, является вполне реальной: изменилась сама действительность.
Если бы в тот момент, когда я сделал это открытие, меня не мучило другое, более важное, я бы попросту прошел в служебный салон, выключил пару стюардов, стюардесс – без разницы, кого в таких случаях бить, мужчину или женщину – открутил бы штурвал двери аэробуса и спокойно шагнул вниз, не перекрестившись, как я однажды чуть было не сделал – через перила Б.Каменного моста, но об этом речь впереди.
Я подумал, что если бы я верил в существование Дьявола, то я бы продал ему свою душу в обмен на жизнь женщины, которую любил. Но, поскольку никакого Дьявола не существует, я готов заключить этот адский договор с реальностью, вселенной – пусть Ты меняешься, мне наплевать на Тебя, но, молю Тебя, изменись так, чтобы Марина была жива!
Я снова вспомнил о фотографиях и понял, что вовсе не надо лезть ни в какой альбом, а достаточно просто сунуть руку в карман, что я и сделал, достав пачку своих удостоверений.
Лицо, мелким паспортным форматом изображенное на них, было в равной степени похоже как на хомяковское, так и на мое собственное. Вероятно, мы с ним всегда были похожи, или сделались похожими за долгие годы общения, просто раньше я этого не замечал.
Я не замечал. Но, может быть, заметила Марина, и может быть, когда меня не стало, она воспользовалась суррогатом и вступила с Хомяком… И тогда именно Хомяк сделал эти выстрелы по мишени и, хотя он понятия не имел о фигуре Ориона, Марина, опять же, глумясь (или изнывая от тоски – что не имело значения) губной помадой нарисовала ему точки, которые он добросовестно, слепопрострелил?
Но это же бред, опять все тот же абсурд! Ведь сказано было, что семь выстрелов прозвучали в тот самый день, когда загорелась дача, но Хомяк же не мог присутствовать при этом? А почему, собственно? Ведь об этом рассказал мне именно он. Как пишут иногда врачи, со слов больного…
И почему я поверил ему, что это не он совершил тогда этот роковой звонок? Из-за того, что он подставлял самого себя? Но как? Ведь «улики» тогда находились только у меня, и обыск в его квартире – тем более, если он заранее позаботился об этом – не дал бы никаких результатов, к тому же, он сам собирался, окончив дело,уничтожить «улики».
Смешно. Это все равно, что подозревать мою собственную мать: ведь она имела, в конце концов, совершенно те же мотивы, что и Хомяк.
Или же, если принять к сведению мои собственные галлюцинации, как ни крути – болезнь… И тогда тот звонок – в конце концов – мог сделать и я сам.
Упершись лбом в стекло иллюминатора, я смотрел на облака, и этот, в уходящих лучах темнеющий снег, был родствен холоду и снегу мой души, среди сосен на живой еще даче в Переделкино, снегу, который вполне мог бы скрыть своей девственной белизной величайший грех моей жизни, если бы я тогда его совершил.
Почему белый цвет навсегда связан в моем сознании с ее образом, белый, вобравший в себя весь видимый и невидимый спектр, цвет облаков, цвет снега – вот и ответ, исключающий обещанную вопросительную закорючку, Большую Медведицу зимы, – да, я встретил ее в начале зимы, и снег окружал нас всю эту короткую жизнь – и снег, и зима, и зимние звезды, скажем Сириус, впервые восставший из-за черно-зеленого конуса ели в самом начале ее каникул, трехкратная догонская жемчужина в ночи, острым зрением твоим легко разделяемая на три. Кем был тот юноша, восемь лет назад носивший мое имя?
Он существовал с женщиной, которая была ему отвратительна во многих смыслах, кроме одного. Она лишила его невинности и несколько лет любила, кукла, способная лишь вращать шарнирами для принятия различных поз. Она представляла собой весьма приличный снаружи, но скользкий и липкий внутри – мешок, снабженный различными отверстиями для ввода-вывода веществ: шоколада, дерьма, мочи, спермы и так далее – это был хорошо развитый, еще не изношенный организм, страдающий лишь несколькими легкими недостатками, как то: близорукость, обжорство, похотливость, – он назывался «Полина» и имел статус невесты Ганышева, что, в свою очередь, не могло не придать Ганышеву ответного, возвратного статуса жениха, именно он, этот организм, и явился тем провокатором, который привел Ганышева от игры к преступлению, заставил Р.С.Ганышева делать деньги, и это был я.
Он работал или, лучше, служилпрограммистом на секретном предприятии, которое в силу своего дурацкого наименования, всегда представлялось ему в виде гигантского ящика с вырезом для писем, куда проваливались, однако, маленькие пластилиновые человечки. Это была одна из типичных, жестоких и довольно милых заморочек прежней жизни: Ганышев был пацифистом, он не хотел служить в армии; предприятие освобождало Ганышева от воинской обязанности; предприятие делало бомбы. Вся нематериальность, естественность и – в конечном счете – прелесть советской жизни иллюстрировалась, в данном случае, тем, что ни одно из этих страшных, коварных устройств не причинило никому вреда: все они, несколько лет пропутешествовав по территории страны, вернулись, наконец, обратно, где были, правда, уже без Ганышева, демонтированы на мирные нужды, но мы тогда об этом не знали, мы болели обязательным юношеским диссидентством, как триппером, и Ганышев тоже витийствовал на кухнях, и сочинял опусы с фигой в кармане, и все это растворилось и выпало в осадок, и смылось в дренаж, и даже его тогдашняя набожность, как выяснилось впоследствии, оказалась лишь причудливой формой тайного нонконформизма… Как, когда, каким образом из этого далекого, в перспективе маленького человечка, получился я?
Я сквозь разобранные храмы, крестясь и плача, проходил и падал, выбившись из сил, ничком на высохшие травы. Я был на равных с мудрецами великодушными, когда в колодцах облачных мерцали цепями улиц города.
И даже так.
Я каждый год справляю тризны по мертвой родине моей, я ухожу из прежней жизни ежеминутно вместе с ней. Из тьмы веков, из тьмы упругой, глазами яда и огня, как женщина, глазами Юга, глядит Россия на меня. Почти слепой во тьме кромешной вбираю соль там-там-там… губ… И сам, давно уже умерший, люблю ее прекрасный труп.
Там Гумилев, тут Мандельштам, все вместе, в оправе прозы, немного Набоков, хотя – можно заметить – не эпигонство, а официальная постмодернистская вариация.








