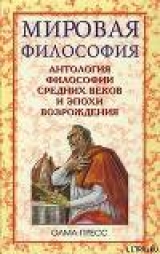
Текст книги "Антология философии Средних веков и эпохи Возрождения"
Автор книги: Сергей Перевезенцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 48 (всего у книги 49 страниц)
Эти мнения и подобные им утопийцы частично усвоили из воспитания. Они были воспитаны в государстве, установления которого находятся далее всего от такого рода глупостей. Частично же – из чтения и изучения книг. Ибо, хотя в каждом городе немного тех, кто освобожден от прочих трудов и приставлен к одному только учению (это как раз те, в ком с детства обнаружились выдающиеся способности, отменное дарование и склонность к полезным наукам), однако учатся все дети, и большая часть народа, мужчины и женщины, всю жизнь – те часы, которые, как мы сказали, свободны от трудов, – тратят на учение. Науки они изучают на своем языке. Ибо он не скуден словами, и не без приятности для слуха и не лживей другого передает мысли. Почти тот же язык распространен в большей части того мира (разве только повсюду он более испорчен – где как). До нашего приезда туда не доходило даже никакого слуха обо всех тех философах, имена которых весьма знамениты в этом, известном нам, мире; и, однако, в музыке, диалектике, а также в науке счета и измерения утопийцы изобрели почти все то же самое, что и наши древние. Впрочем, насколько они во всем почти равны жившим в старину, настолько далеко не могут они сравниться с изобретениями новых диалектиков. Ибо не изобрели они ни одного-единственного, проницательнейшим образом продуманного правила об ограничениях, расширениях и подстановках, которые повсюду здесь учат дети в "Малой логике". Затем "Вторые интенции" так далеки они у них от достаточного исследования, что никто из них не мог увидать так называемого "самого человека вообще", хотя он, как вы знаете, столь велик, что больше любого гиганта, – мы можем на него даже пальцем указать. Однако утопийцы весьма сведующи в полете и движении небесных тел. Более того, они искусно придумали орудия разного вида, с помощью которых наилучшим образом улавливают они движение Солнца и Луны, а также и прочих светил, которые видны на их небосводе. Впрочем о дружбе и раздорах планет и, наконец, обо всем этом обмане лживых прорицаний по звездам они не помышляют и во сне. Дожди, ветры и прочие перемены погоды они предугадывают по некоторым приметам, хорошо известным из долгого опыта. Но о причинах всех этих вещей и о приливах моря, его солености, вообще о происхождении и природе неба и мироздания они отчасти рассуждают, как наши древние; они, как и те, расходятся друг с другом и, когда приводят новые доводы, не во всем соглашаются и не полностью сходятся.
В той части философии, в которой речь идет о нравственности, они судят подобно нам; они исследуют благо духовное, телесное, внешнее, потом приличествует ли наименование блага всему этому или только достоинствам духа. Они рассуждают о добродетели и удовольствии. Однако первый изо всех и главный у них спор о том, в чем состоит человеческое счастье – в чем-нибудь одном или же во многом. И в этом деле, кажется, более, чем надобно, склоняются они в сторону группы, защищающей удовольствие, в котором, считают они, заключено для людей все счастье или же его важнейшая доля.
Еще более тебя удивит, что они для этого приятного мнения ищут покровительства религии, которая сурова и строга и обыкновенно печальна и непоколебима. Ведь никогда они не говорят о счастье, чтобы не соединить с ним некоторые начала, взятые из религии, а также философии, использующей доводы разума, – без этого, они полагаю, само по себе исследование истинного счастья будет слабым и бессильным. Эти начала такого рода. Душа бессмертна и по благости Божией рождена для счастья, за добродетель и добрые дела назначена после этой жизни нам награда, а за гнустности – кара. Хотя это относится к религии, однако они считают, что к тому, чтобы поверить в это и признать, приведет разум.
Они безо всякого колебания провозглашают, что если устранить эти начала, то не сыскать такого глупца, который не понял бы, что всеми правдами и неправдами надобно стремиться к удовольствию; одного только следует ему опасаться: как бы меньшее удовольствие не помешало большему, и не стремился бы он к тому, за что расплачиваются страданиями. Ибо они говорят, что в высшей степени безумно стремиться к суровой, нелегкой добродетели и не только гнать от себя сладость жизни, но и по своей воле терпеть страдание, от которого не дождешься никакой пользы (ведь какая может быть польза, если после смерти ты ничего не получишь, а всю эту жизнь проведешь бессладостно, то есть несчастно).
Ныне же они полагают, что счастье заключается не во всяком удовольствии, но в честном и добропорядочном. Ибо к нему, как к высшему благу, влечет нашу природу сама добродетель, в которой одной только и полагает счастье противоположная группа. Ведь они определяют добродетель как жизнь в соответствии с природой, и к этому нас предназначил Бог. В том, к чему надлежит стремиться и чего избегать, надобно следовать тому влечению природы, которое повинуется разуму.
С другой стороны, разум возжигает у смертных, во-первых, любовь и почитание величия Божьего, которому мы обязаны и тем, что существуем, и тем, что способны обладать счастьем; во-вторых, он наставляет нас и побуждает, чтобы и сами мы жили в наименьшей тревоге и наибольшей радости, и прочим всем помогали по природному с ними братству достичь того же. Ведь никогда не было ни одного столь сурового и строгого поборника добродетели и ненавистника удовольствия, который указывал бы тебе на труды, бдения и скорбь и не повелевал бы также посильно облегчать бедность и тяготы других. И он считал бы достойным похвалы за человечность то, что человеку надлежит заботиться о благе и утешении человека, если человечнее всего смягчать горести других и, одолев печаль, возвращать их к приятности жизни, то есть к удовольствиям (нет никакой добродетели, свойственной человеку более этой). Если так, то почему природа не побуждает, чтобы каждый делал то же для себя самого? Ибо или же приятная жизнь дурна, то есть та, которая доставляет удовольствие; если так, то ты не только не должен никому помогать в ней, но изо всех сил должен отнимать ее у всех как вредную и смертоносную; или же тебе не только можно, но и должно склонять других к этой жизни как к хорошей; тогда почему бы не склонить тебе к этому прежде самого себя?
Тебе следует быть не менее милостивым к себе, чем к другим. Ведь когда природа внушает тебе быть добрым к другим, не велит она тебе, напротив, быть суровым и беспощадным к себе самому.
Следовательно, говорят они, приятную жизнь, то есть удовольствие как предел всех наших деяний, предписывает нам сама природа. Жить по ее предписанию – так определяют они добродетель.
И так как природа приглашает смертных помогать друг другу, чтобы жить веселее (это она делает совершенно справедливо, ибо никто не возвышается над участью рода человеческого настолько, чтобы природа пеклась лишь о нем одном; она равно благоволит ко всем, объединенным общим видом), она, разумеется, даже велит тебе следить, чтобы не пренебрегал ты своими выгодами, как не причиняешь ты невыгод другим.
Поэтому они считают, что надобно соблюдать не только договоры, заключенные между частными лицами, но и законы общества, которые опубликовал добрый правитель или же утвердил с общего согласия народ, не угнетенный тиранией и не обманутый хитростью законов о распределении жизненных удобств, то есть основы удовольствия. Соблюдать эти законы, заботясь о своей выгоде, – дело благоразумия; думать, кроме того, о выгоде общества – признак благочестия. Однако похищать чужое удовольствие, гоняясь за своим, – несправедливо. И, напротив, отнять что-нибудь у самого себя и отдать это другим – как раз долг человечности и доброты; этот долг никогда не забирает у нас столько, сколько возвращает нам назад. Ибо он вознаграждается обменом благодеяний, и само сознание благодеяния и воспоминание о любви и благорасположении тех, кому ты сделал добро, приносит душе более удовольствия, чем было бы то телесное удовольствие от которого ты удержался.
Наконец (в этом легко убеждает нас, охотно соглашающихся с этим, религия), за краткое и малое удовольствие Бог отплачивает огромной и никогда не преходящей радостью. Поэтому, тщательно это обдумав и взвесив, утопийцы считают, что все наши деяния, среди них даже и сами добродетели, предполагают, что в конце ожидает их удовольствие и счастье.
Удовольствием они называют всякое движение и состояние тела и души, пребывая в которых под водительством природы, человек наслаждается. Они не случайно добавляют о природной склонности. Ибо по природе принято все, к чему устремляется человек без посредства несправедливости, из-за чего не утрачивается иное, более приятное, то, за чем не следует страдание, чего домогается не только чувство, но и здравый смысл. Существует удовольствие наперекор природе; смертные в суетном единодушии своем воображают, что эти удовольствия сладостны (будто сами люди способны изменять предметы, равно как и их названия); утопийцы полагают, что все это нисколько не ведет к счастью и чаще всего даже препятствует ему. Оттого что, в ком эти удовольствия однажды укоренились, у того не остается никакого места для истинной и подлинной радости, а душа его целиком занята ложным пониманием удовольствия. Ведь существует очень много такого, что по собственной своей природе не содержит ничего сладостного, и, напротив, в значительной части чего есть много горечи, однако нечестивые желания соблазняют считать это не только наивысшим удовольствием, но даже числить среди наипервейших достоинств жизни.
Этот род подложных удовольствий испытывают, по мнению утопийцев, те, о ком я упомянул прежде: люди, которым кажется, что, чем лучше на них платье, тем лучше они сами. В этом одном они допускают две ошибки. Ибо не менее заблуждаются они, полагая, что их платье лучше, чем они сами. Если думать о полезности одежды, то почему шерсть из более тонкой пряжи превосходит более толстую? Однако же люди так вскидывают хохолок, будто они правы по природе, а не заблуждаются, и уверены, что их собственная цена от этого становится выше. Оттого они – словно более нарядное платье дает им правоту домогаются почета, на который, одетые хуже, они не дерзнули бы и надеяться; если же на них не обращают внимания, они негодуют.
И еще: не указывает ли на ту же глупость стремление к пустым и никчемным почестям? Ибо какое естественное и подлинное удовольствие доставит тебе кто-либо, если он обнажит голову или преклонит колени? Разве это излечит боль в твоих коленях? Или избавит твою голову от безумия? Понимая так поддельное удовольствие, на удивление сладостно сумасбродствуют те, кто похваляется и кичится сознанием своей знатности, оттого что выпало им на долю родиться от предков, длинный ряд которых считался богатым, особенно землей (ведь только в этом ныне и заключается знатность); и не кажется им, что они хоть на волос станут менее знатными, даже если предки ничего им не оставят или сами они растратят оставленное.
Сюда же утопийцы причисляют тех, которых, как я сказал, пленяют драгоценности и камушки, которым кажется, что они чуть ли не боги, если получат они какой-нибудь отменный камень, особенно такого рода, который в это время в этой стране больше всего стоит, ибо ведь не у всех и не во всякое время ценят одно и то же. Но они покупают его только вынутым из золота, без оправы, и не раньше, чем продавец поклянется и заверит, что жемчуг и камень настоящие: так они тревожатся, чтобы не обманули их зрение поддельными вместо настоящих. Но почему тебе будет меньше радости от поддельного камня, чем от настоящего, если твой глаз их не различает? Честное слово, оба они должны быть тебе так же дороги, как и слепцу.
И те, которые хранят излишние богатства, нисколько не пользуясь всей грудой, но только наслаждаясь созерцанием ее, – получают они настоящее удовольствие или скорее тешат себя ложным удовольствием? Или же те, кто, страдая противоположным пороком, прячет золото, которым никогда не воспользуется и которое, возможно, никогда более не увидит? Боясь, как бы не потерять, они его теряют. Ибо разве это не так, если, лишив себя, а может быть, и всех смертных пользования золотом, ты предаешь его земле? Однако, зарыв сокровище, ты, успокоившись, ликуешь от радости. Если же кто-нибудь украдет его, и ты, не зная о краже, через десять лет умрешь, то все это десятилетие, которое ты прожил после того, как деньги утащили, какое тебе было дело до того, своровали их или же они целы?
К этим столь нелепым утехам утопийцы добавляют игру в кости (об этом безумстве они знают по слуху, а не из опыта), кроме того, охоту и птицеловство. Они спрашивают, в чем заключается удовольствие бросать кости на доску. Ты делал это столько раз, что если и было в этом какое-нибудь удовольствие, то от частого повторения мог бы насытиться. Или какая может быть сладость в слушании того, как лают и воют собаки? Скорее уж отвращение. Или чувство удовольствия больше, когда собака гонится за зайцем, чем когда собака – за собакой? Ведь в обоих случаях происходит одно и то же – бегут, если радует тебя бег.
Если притягивает тебя надежда на убийство, ожидание травли, которая произойдет на твоих глазах, то вид того, как собака раздирает зайчонка, слабого – более сильный, трусливого и робкого – свирепый, наконец, невинного – жестокий, вид этого скорее должен вызывать сострадание. Поэтому все это занятие охотой как дело, не достойное свободных людей, утопийцы перебросили мясникам (выше мы уже сказали, что это ремесло возложено у них на рабов). Утопийцы полагают, что охота – это самая низкая часть дела мясников, прочие части этого занятия почетнее и полезнее, поскольку они гораздо более выгодны и губят животных только в силу необходимости; охотник же ищет в убийстве и травле несчастного зверька исключительно только удовольствие. Утопийцы считают, что неодолимое желание видеть смерть, хотя бы даже зверей, возникает от жестокости души или при постоянном испытывании этого свирепого удовольствия, что в конце концов приводит к ожесточению.
Несмотря на то что это и все такого рода вещи, а их неисчислимое множество, обычно люди считают удовольствием, утопийцы, однако, разумеется, полагают, что так как по природе в этом нет ничего приятного, то к истинному удовольствию это не имеет никакого отношения. Ибо то, что в общем это наполняет чувства приятностью (это люди и принимают за удовольствие), нисколько не понуждает утопийцев отступиться от своего мнения. Ибо причина этого не в природе самого дела, а в извращенной привычке людей. Из-за этого порока получается, что горькое люди принимают за сладкое. Подобно тому, как беременные женщины по испорченному своему вкусу полагают, что смола и сало слаще меда. Ничье, однако, суждение, искаженное болезнью или привычкой, не может изменить ни природу других вещей, ни природу удовольствия.
Утопийцы считают, что существуют различные виды удовольствий, которые они и признают истинными. Одними они наделяют дух, другими – тело. Духу они приписывают понимание и ту сладость, которую порождает созерцание истины. Сюда же относится приятная память о хорошо прожитой жизни и несомненная надежда на будущее благо.
Телесные удовольствия они делят на два рода, из которых первый тот, который наполняет чувство заметной приятностью, что бывает при восстановлении тех частей, которые исчерпал пребывающий внутри нас жар. И это возмещается едой и питьем; другой род удовольствия – в удалении того, чем тело переполнено в избытке. Это случается, когда мы очищаем утробу испражнениями, когда прилагаются усилия для рождения детей или когда, потирая и почесывая, мы успокаиваем зуд какой-нибудь части тела.
Иногда же удовольствие возникает, не давая того, что желают наши члены, не избавляет их от страдания; однако это удовольствие щекочет и трогает наши чувства, привлекает к себе какой-то скрытой силой, но заметным действием. Такое удовольствие люди получают от музыки.
Другой род телесного удовольствия, считают они, тот, который заключается в спокойном и безмятежном состоянии тела, то есть у каждого это, конечно, здоровье, не испорченное никакой болезнью. Действительно, если человека не одолевает никакое страдание, то здоровье радует само по себе, даже если и не присутствует здесь никакое удовольствие, полученное извне. Хотя это менее заметно и менее дает чувству, чем ненасытимое желание есть и пить, однако тем не менее многие считают, что здоровье – величайшее удовольствие; почти все утопийцы полагают, что это – великое удовольствие, а также как бы основание и опора всего, что только могут дать спокойные и желанные условия жизни; когда же нет здоровья, то не остается совсем никакого места для какого бы то ни было удовольствия. Ибо отсутствие боли, если при этом нет здоровья, они называют скорее оцепенением, а не удовольствием.
Уже давно утопийцы после усердного обсуждения отвергли мнение тех, кто не считал, что надобно видеть удовольствие в прочном и нерушимом здоровье; они говорили, что если это удовольствие существует, то его можно почувствовать только разве при каком-нибудь движении извне. Ныне же, напротив, почти все утопийцы сошлись на том, что здоровье для удовольствия важнее всего. Они говорят, что если болезни присуще страдание, которое столь же непримиримо враждебно удовольствию, сколь, наоборот, болезнь враждебна здоровью, то почему в свой черед нерушимое здоровье не может содержать в себе удовольствия? Они полагают, что здесь совсем не важно сказать, является ли болезнь страданием или страдание присуще болезни – в обоих случаях получается одно и то же. Ведь если здоровье и есть само удовольствие или если оно необходимым образом порождает удовольствие, как огонь создает жар, то, конечно, в обоих случаях получается, что удовольствие не может отсутствовать у тех, кто обладает крепким здоровьем.
Кроме того, утопийцы говорят: что иное происходит во время нашей еды, как не борьба здоровья, которое начинает ухудшаться, против голода? (При этом пища здесь – соратник по орудию.) Пока здоровье в этой борьбе понемногу становится крепче, этот успех доводит до обычной силы удовольствие, которое так нас ободряет. Неужели здоровье, которое веселит борьба, не станет радоваться, одержав победу? Разве оно оцепенеет, счастливо обретя прежнюю силу, которой одной только оно и домогалось на протяжении всей борьбы? Разве не познает оно своих благ, не оценит их? Ибо утопийцы думают, что высказывание, будто здоровье нельзя почувствовать, очень далеко от истины. Кто, спрашивают они, бодрствуя, не чувствует себя здоровым, если он и впрямь здоров? На кого оцепенение или летаргия действуют так, что он не признает, сколь сладостно и приятно ему здоровье? И что есть сладость, как не иное название удовольствия?
Духовные удовольствия утопийцы ценят более (они считают их первыми и самыми главными). Важнейшая часть их, полагают они, происходит из упражнений в добродетели и из сознания благой жизни. Из тех удовольствий, которые доставляет тело, пальму первенства они отдают здоровью. Ибо к радостям еды, питья – всего, что только может таким образом порадовать, полагают они, надобно стремиться, но только для здоровья. Ибо все это приятно не само по себе, но оттого, что оно противостоит тайком подкрадывающемуся недугу. Как мудрецу более приличествует избегать болезней, чем желать иметь от них снадобья, скорее надобно прогонять страдания, чем искать облегчения от них, так и утопийцы думают, что предпочтительнее не нуждаться в удовольствиях такого рода, чем утешаться ими.
Если кто-нибудь полагает, что он испытывает подобное блаженство, то ему необходимо признать, что он лишь тогда обретает наибольшее счастье, когда выпадает ему на долю проводить жизнь в постоянном голоде, жажде, зуде, еде, питии, чесании и потираний. Кто, однако, не видит, что такая жизнь не только отвратительна, но и жалка? Конечно, эти удовольствия, как наименее подлинные, изо всех самые низкие, и они никогда не появляются иначе, как вкупе с противоположными страданиями. Ибо с удовольствием от еды связан голод, да и не в равной мере. Ибо страдание как сильнее, так и продолжительнее. Возникает оно прежде удовольствия и не исчезает до той поры, пока не умрет вместе с ним и удовольствие.
Так вот утопийцы полагают, что подобного рода удовольствия не надобно высоко ставить, если только не вынудит к ним необходимость. Однако утопийцы радуются им и с благодарностью признают милость матери-природы, которая с наинежнейшей сладостью склоняет свое потомство даже к тому, что надобно делать по необходимости и постоянно. Ведь с каким отвращением пришлось бы жить, если как и прочие хвори, которые беспокоят нас реже, так и ежедневные недомогания из-за голода и жажды надобно было бы нам прогонять ядами и горькими снадобьями?
Утопийцы охотно сохраняют красоту, силу, проворство – эти особые и приятные дары природы. Более того, те удовольствия, которые воспринимаются с помощью ушей, глаз, носа, которые природа пожелала дать человеку как его свойства и особенности (ибо нет другого рода живых существ, которых трогает вид и красота мира или же волнуют запахи – у прочих это бывает только разве для того, чтобы распознать пищу; и не ведают они отличия созвучных друг с другом или разных звуков), – все это, говорю я, утопийцы признают за некую приятную приправу жизни. Во всем этом у них есть такое ограничение: меньшее удовольствие не должно мешать большему, а также порождать когда-нибудь страдание, которое – они считают – неизбежно наступит, если удовольствие бесчестно.
И они полагают, что презирать красоту, ослаблять силы, обращать проворство в лень, истощать тело постами, причинять вред здоровью и отвергать прочие благодеяния природы в высшей степени безумно, жестоко по отношению к себе и чрезвычайно неблагодарно по отношению к природе. Это значит отвергать свои обязательства перед ней, отклонять все ее дары. Разве только кто-нибудь, пренебрегая своими выгодами, станет более пылко печься о других людях и об обществе, ожидая взамен этого своего труда от Бога большего удовольствия. В ином случае это значит сокрушать самого себя из-за пустого призрака добродетели безо всякой пользы для кого-либо или для того, чтобы быть в силах менее тягостно переносить беды, которые, возможно, никогда не произойдут.
Таково их суждение о добродетели и удовольствии. Они верят, что если религия, ниспосланная с небес, не внушит человеку чего-либо более святого, то с помощью человеческого разума нельзя выискать ничего более верного. Разбирать, правильно они об этом думают или нет, нам не дозволяет время, да и нет в этом необходимости. Ведь мы взялись только рассказать об их устоях, а не защищать их.
Впрочем, я точно убежден, что какими бы ни были их уложения, нигде больше нет лучшего народа, нигде нет более счастливого государства. Телом они проворны и крепки, сил у них больше, чем можно ожидать, судя по их росту, хотя и он, однако же, не маленький. Несмотря на то что земля у них не везде плодородна и климат недостаточно здоров, против плохой погоды они укрепляют себя умеренностью в пище, поля же исцеляют трудолюбием. Так что ни у какого другого народа нет большего плодородия и приплода скота, нет людей, более сильных, подверженных меньшему числу болезней. Ты можешь там наблюдать не только то, что обычно тщательно выполняют земледельцы, когда земле, плохой от природы, помогают они своим искусством и трудом, но увидишь, что люди вручную выкорчевывают лес в одном месте и насаждают его в другом. При этом их заботит не плодородие, а удобство перевозки: чтобы дрова были ближе к морю, рекам или же к самим городам. Ведь по земле на большое расстояние проще доставлять хлеб, чем дрова. Народ легкий и веселый, затейливый, любящий досуг, а когда это необходимо, достаточно привычный к труду. Впрочем, в иных отношениях они не слишком стремительны. Зато в умственных занятиях неутомимы. <…>
О РЕЛИГИЯХ УТОПИЙЦЕВ
Религии отличаются друг от друга не только на всем острове, но и в каждом городе. Одни почитают как Бога Солнце, другие – Луну, третьи какое-нибудь из блуждающих светил. Есть такие, которые предполагают, что не просто бог, но даже величайший бог – это какой-то человек, некогда отличившийся своею доблестью или славой. Но гораздо большая часть утопийцев – она же и намного более разумная – полагает, что совсем не те боги, а некое единое божество, вечное, неизмеримое, неизъяснимое, которое выше понимания человеческого рассудка, разлито по всему этому миру силой своей, а не огромностью. Его они называют родителем. Только на его счет они относят начала, рост, увеличение, изменения и концы всех вещей, никому, кроме него, не воздают они божеских почестей.
Даже и все прочие утопийцы, хотя они и верят по-разному, однако согласны с этими в том, что считают, будто есть единое высшее существо, которому люди обязаны и сотворением всего мира, и провидением. Все утопийцы вместе называют его на своем родном языке Митрой, но расходятся в том, что этот один и тот же Бог у разных людей разный. Каждый признает, что, кем бы ни был тот, кого они считают высшим божеством, у него вообще одна и та же природа, и только его воле и величию по согласию всех народов приписывается верховная власть надо всем. Впрочем, понемногу у всех них это разнообразие в суевериях прекращается и появляется одна религия, которая, кажется, превосходит остальные своим смыслом. Несомненно, что прочие религии давно бы уже исчезли, если бы при неудаче, посланной судьбой кому-то в то время, когда он задумал переменить религию, его страх не истолковал бы ему все так, что вышло это не случайно, а ниспослано небом, будто божество, культ которого он оставляет, мстит за нечестивый умысел против него.
А после того как они услышали от нас об имени Христовом, Его учении, образе жизни и чудесах, о не менее достойном удивления упорстве стольких мучеников, добровольно пролитая кровь которых за долгий срок и на большом пространстве привела на их путь столь многочисленные народы, ты не поверишь, с какой готовностью и они Его признали; они сделали это то ли по какому-то тайному Божиему научению, то ли оттого, что эта религия оказалась ближе всего к той ереси, которая у них сильнее всего; хотя, я думаю, немаловажно было то, что они услыхали, что Христу нравилась общая жизнь Его учеников и что она до сих пор сохраняется в наиболее верных христианских общинах. И вот – по какой бы причине это ни случилось, немало утопийцев перешло в нашу религию и омылось святой водой.
Оттого, однако, что среди нас четверых, к сожалению, не было ни одного священника – ибо нас осталось всего столько, так как двое умерли, утопийцы, хотя и были они посвящены во все таинства, не обрели тех, которые у нас свершают только священники. Впрочем, утопийцы понимают эти таинства и чрезвычайно к ним стремятся. Они даже усердно обсуждают между собой, не может ли кто-нибудь, избранный из их числа, получить сан священника без назначения к ним христианского епископа. Кажется, они на самом деле собирались избрать такого, но, когда я уезжал, еще не избрали.
Даже те, которые не соглашаются с христианской религией, никого, однако, не отпугивают от нее и не нападают ни на кого из принявших ее. Только вот один из нас был наказан, когда я был там. Вскоре после обряда очищения он прилюдно рассуждал о христианской религии, хотя мы ему этого не советовали; в этом его рассуждении было больше рвения, чем рассудительности; по горячности своей он не только предпочитал наши святыни прочим, но и вообще осуждал все прочие. Он заявлял, что они – языческие, что поклоняются им нечестивцы и святотатцы, которых надобно покарать вечным огнем. Когда он долго так проповедовал, его схватили, судили, но не за презрение к религии, а за возбуждение смуты в народе. И осудили, приговорив к изгнанию. Действительно, среди древнейших установлений утопийцев числится и то, что никого нельзя наказывать за его религию.
Ибо Утоп с самого начала, когда узнал, что до его прибытия жители беспрестанно воевали из-за религии, заметив, что при общем несогласии разные секты сражаются за родину раздельно, воспользовался случаем и одолел их всех. Одержав победу, он прежде всего объявил нерушимым, что каждомудоз-воляется следовать какой угодно религии; если же кто-нибудь станет обращать в свою религию также и других, то он может это делать спокойно и рассудительно, с помощью доводов, не злобствуя при этом против прочих религий, если он не уговорит советами, то не смеет действовать силой и обязан воздерживаться от поношений. Того, кто об этом спорит чрезмерно дерзко, утопийцы наказывают изгнанием или же рабством.
Утоп учредил это, не только заботясь о мире, который, как он видел, полностью разрушается от постоянной борьбы и непримиримой ненависти, но, решая так, он полагал, что это важно для самой религии, о которой он не дерзнул сказать ничего определенного, как бы сомневаясь, не требует ли Бог разного и многообразного почитания и поэтому одним внушает одно, другим другое. Конечно, он думал, что странно и нелепо силой и угрозами принуждать к тому, чтобы всем казалось истинным то, во что веришь ты сам. Более того, если истинна одна религия, а все прочие суетны, то Утоп легко предвидел, что, наконец, истина когда-нибудь выплывает и обнаружится сама собой (если повести дело разумно и умеренно). Если же бороться за истину оружием и смутой, то наилучшая и святейшая религия погибнет из-за самих суетных суеверий, подобно тому, как гибнут хлеба в терновнике и кустах (оттого что наихудшие люди наиболее упорны).
Поэтому он оставил все это дело открытым и дозволил, чтобы каждый был волен веровать, во что пожелает, – за исключением того, что свято и нерушимо запретил кому бы то ни было до такой степени ронять достоинство человеческой природы, чтобы думать, будто души гибнут вместе с телом, что мир несется наудачу, не управляемый провидением. И поэтому утопийцы верят, что после земной жизни за пороки установлены наказания, за добродетель назначены награды. Того, кто думает по-иному, они даже не числят среди людей, оттого что он возвышенную природу своей души унизил до ничтожной скотской плоти; и не считают они его гражданином, оттого что, если бы не одолевал его страх, ему были бы безразличны все их установления и обычаи. Разве можно усомниться в том, что он, не страшась ничего, кроме законов, и не надеясь ни на что, кроме своего тела, угождая своим собственным желаниям, не постарается либо тайно, хитростью обмануть государственные законы своего отечества, либо нарушить их силой?








