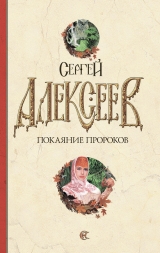
Текст книги "Покаяние пророков"
Автор книги: Сергей Алексеев
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Только через сутки, к вечеру следующего дня, и слова не сказав за все это время, Ириней переобулся из лаптей в бродни, котомку с братиной прихватил.
– Ну, паря, айда со мной. Бумаги&то есть, с печатями. Должно, и на детей тоже...
– Так чего же ты молчал?
Для странников пятнадцать верст туда-сюда за расстояние не считалось, скорым шагом через два часа прискочили в Полурады. Ириней оставил Космача на берегу, сам убежал в хоромину и через некоторое время вернулся довольный.
– Вот, принес бумаги...
И достал из-под рубахи вещи, поразившие еще больше, чем золотая братина с царского стола, – два пергаментных свитка с деревянными подпечатниками на оленьих жилках и даже с остатками вещества в углублениях, напоминающего черный сургуч.
В одном значилось, что ближний боярин и сродник князь Андрей Иванович Углицкий, привезший заморскую невесту государя Софью вкупе с веном на корабле и доставивший ее вместе с обозом в стольный град, отныне и до скончания жизни освобождается от всяческих повинностей перед казной, а малолетним детям его Дмитрию и Алексею сказывается введенное боярство, кои обязаны по достижении отцом преклонных лет принять от него в управление казну греческую харатейную.
Второй грамотой царь Иоанн Васильевич жаловал земли по Истре и пятьсот душ думному дьяку, боярину Нестору Углицкому, обязывая его обустроить сию вотчину храмами, мельницами, мостами и переправами.
– Ириней, так ты что, боярин? – искренне изумился Космач.
– Да какие мы бояре, – вздохнул тот. – Странники...
– Не боярин, так князь! А этот родовой титул навечно дан.
– Что ж ты потешаешься, Юрий Николаевич? Нам и места на земле нет...
– Как же нет? А вот земли по Истре и пятьсот душ крепостных!
Лесные скитальцы мирского юмора не понимали вообще, хотя свой, внутренний, у них существовал и, напротив, был непонятен мирским. Ириней взбагровел и набычился.
– Ты мне подскажи... Куда с бумагами идти? А не смейся.
– С этими никуда. Разве что в музей сдать, вместе с братиной.
– Нехорошо говоришь, паря...
– Ты же взрослый человек, боярин! Там же не написано, что ты родился! И кто родители.
– Дак чего писать, я так помню.
– Что ты помнишь?
– У Авксентия было четверо сыновей, мы пошли от Савватея Мокрого, а он как раз отец Нестора.
– Ну и что?
– Да как что? Люди же и подтвердить могут. У Нестора было девять детей мужского полу от двух жен, так мы пошли от первой, Ефросиньи. Потом был Иван Углицкий Рябой, а от него Ириней и Фома. Фома стал Рябой прозываться, а мы от Иринея, так Углицкие. На Кети есть Хотина Прорва, а там Селивестор Рябой. Однова сбежались на тропе да побаили о старом житье – сродник наш. От Иринея пошел Феодосии Углицкий, коего при Никоне на дыбу вешали, огнем жгли и потом плетями забили. Селивестор засвидетельствовать может, он записанный, документ имеет и живой пока. А в Воротилово я не пойду. Тамошний начальник хоть из кержаков, но худого рода, жидкий совсем. Он наших много под тюрьму подвел. Лет пять тому Никодим Голохвастов ему объявился...
– Погоди, Ириней Илиодорович, – остановил Космач. – А что, у кого&то еще есть такие грамоты?
– Есть, должно, и не токмо у наших. Кто не потерял... А ты это к чему?
– К тому, что среди ревнителей древнего благочестия оказались бояре.
– Да какие мы бояре? Уж не смейся-ка...
– Слушай, ты невест своим сыновьям искал среди странников? Или и в других толках?
– Везде искал, но все перестарки да худородные остались. Молодые&то уходят в мир, детей уводят...
– А худородных снох тебе не надо?
– Старики заповедали, из каких родов брать, из каких нет, – развел руками Ириней. – Не по достоинству нарушать&то... Старшему невеста есть, по давнишнему уговору. Адриана Засекина дочка. Всем хороша, да не желает в Полурады идти, мол, замуж за Арсения твоего пойду, а в курную избу нет. Лучше уж вековухой останусь... В Напасе она, с родителем...
– Адриан Засекин тоже из бояр. Были князья Засекины...
– Да полно тебе, Юрий Николаевич. Что с бумагами&то? – потряс свитками.
– Спрячь эти грамоты и больше никому не показывай, – посоветовал Космач. – Никогда и никому. И детям накажи.
– Как же паспорт выправить? Нету других бумажек.
– А уйти все равно хочется?
– Душа рвется!.. Да ведь посадят, коль так выйти. Я бы ладно, что мне тюрьма? Как подумаю, жене сидеть, сыновьям, дочери, – тошно делается... Вавилу&то видел, эвон какая. А куда я дену ее в Полурадах?
– Ладно, похлопотать попробую, – пообещал Космач, чувствуя, как его распирает от предощущений.
– Токмо уж не обмани! Ну что мне, к сонорецким старцам подаваться?
– А кто такие сонорецкие старцы? Не первый раз слышу...
Тот слегка встревожился – болтнул лишнего, – потому ответил уклончиво:
– На Сон-реке живут, люди. – Ириней уже спрятал глаза под валяной шапкой, как в раковине.
– Скажи-ка мне, какие фамилии еще есть в Полурадах? – Это был совсем легкий для него вопрос. – Кроме Углицких?
– Хворостинины есть. – Насторожился. – Нагие да Щенятевы... А боле нет никого.
– Память у тебя хорошая. А мог бы ты назвать странников, кто ходит или живет по Соляной Тропе? Роды назвать, по фамилиям и прозвищам?
Ириней враз сопливить и чихать перестал, передернуло его, будто от холода или омерзения.
– На что тебе роды наши?
Космач понял, что поспешил, все расспросы следовало оставить на будущее. Что касалось его лично, Ириней не таил, напротив, высказал самое сокровенное, однако на всем остальном лежало табу, срабатывал некий корпоративный интерес – ни при каких условиях не выдавать своих.
– Интересуюсь как ученый, не бойся, – попробовал успокоить, но было поздно.
Ириней спрятал свитки под рубаху и пошел, демонстрируя полное спокойствие, но вдруг вернулся неузнаваемым, лицо тяжелое, в глазах глубокая печаль, будто на похоронах. Выпрямился, вскинул свою широкую бороду, свысока глянул – вот откуда стать и горделивость Вавилы!
– Однако скажу тебе, Юрий Николаевич... Раз так, не надобно мне ни бумаги, ни документа. Уж лучше я в тюрьме посижу. И пусть женщины сидят...
– Не понял ты меня, Ириней Илиодорович, – разозлился Космач. – Это мне для науки надо – не для переписи. Сам говоришь, нет больше Соляной Тропы! Вы ведь скоро все из скитов поразбежитесь, а старики вымрут. Через двадцать лет даже памяти о вас не останется! Ты подумай! Я же хочу, чтоб люди знали о старообрядчестве и через сто, и через тысячу лет. Как вы жили, отчего раскол случился, почему в лесах скрывались, как веру свою берегли от анчихристовых властей. Да и кто вы на самом деле, никто толком не знает. И не узнает никогда.
Ириней выслушал все, но так и ушел с высоко поднятой головой.
А Космач расстроился и распалился еще больше, когда вечером узнал, что, ко всему прочему, куда&то ушли их лошади, пасшиеся вольно вместе с хозяйскими, и сыновья Иринея, несмотря на ночь, отправились на поиски.
Таким пришел к своей больной «жене» и обнаружил, что она в полном здравии, если не считать насморка и красного носа. Зимняя часть дома была срублена отдельно, стены из сосен в обхват, двери толстые да еще войлоком обшиты, говорить можно было в полный голос – не услышат.
Ассистентка лежала в постели, белое рубище, будто умирать собралась, и смотрела жалобно, прощально. Рядом на лавке пакет с лекарствами и деревянная кружка с каким&то настоем. Он, как доктор, потрогав лоб, заглянул в горло, велел показать язык.
– Как это понимать?
– Мне плохо. – В голосе слышался каприз. – Чувствую себя ужасно, все тело болит, морозит и голова раскалывается.
Он расценил это как истинно женский способ защиты, вытащил ее рюкзак, перерыл все, достал фотоаппарат с диктофоном.
– Что ты делаешь? Что? – спохватилась «жена».
– Я запретил тебе брать это с собой. В чем дело?
Вся хворь отлетела в один миг. Она порывисто села, натертый платком нос побелел.
– Знаю! С первых дней поняла: ты работаешь только на себя! Поэтому тебе не нужны записи! Ты все делаешь ради собственных целей! Тебе никто здесь не нужен!
– Не кричи, нас могут услышать. – Космач плотнее притворил дверь. – Говори спокойно, я все слышу.
– Чувствовала, еще по дороге хотел от меня отделаться. Я тебя раздражала! Ты меня ненавидел!.. – Перешла на шепот: – И сейчас вижу, как презираешь. Не только меня, но и Василия Васильевича... Мне говорили, ты гребешь под себя, не сдаешь полных отчетов Даниленко, скрываешь от него экспедиционные материалы. Говорили, ты женоненавистник, – я ничему не поверила! А ты ненавидишь всех вокруг! И любишь только себя!
У разгневанной ассистентки не хватило слов, сорвала очки, и слезы брызнули на пакет с лекарствами – будто дождь застучал.
– Ты еще не все сказала, – выдержав паузу, обронил Космач.
– Подлец, ты подлец!
– И еще не все...
– Ты развратник! Растлитель! Зачем ты девчонку с ума свел? – Утерла слезы. – Ты что сюда приехал? Любовь с подростками крутить? Головы девицам морочить?
– А если конкретнее?
– Я все вижу! Вавила глаз с тебя не сводит! И ревет по углам, и молится!.. Зачем ты дуришь голову молоденькой девчонке?! И какой – чистой, непорочной, открытой, как цветок!
Космач развернул свой спальник, бросил на пол дерюгу и лег. Наталья Сергеевна сначала тихо плакала, потом несколько раз всхлипнула и замерла. Прошло минут десять, прежде чем она пошевелилась, видимо, легла на бок, лицом к нему.
– О чем ты думаешь? – спросила шепотом.
– Кони потерялись, – пробубнил он. – Ребята искать ушли... Не знаю, найдут, нет...
– Прости меня... Пожалуйста. Ты же все понимаешь.
– Не все...
– Правда, о чем ты думаешь?
– Об открытых цветах...
Он вернулся от Коменданта в десятом часу утра, напоил коня, принес воды, затопил русскую печь и, отогрев руки перед пламенем, заглянул в горницу.
Вавила спала в том же положении, как оставил: голова чуть набок, безвольные руки брошены вдоль тела и дыхания совсем не слышно. Он прикрыл дверь и несколько минут бродил по избе, сдерживая мальчишескую радость, потом вспомнил о свитке, принесенном боярышней.
Бережно достал его из кожаного чехла, развернул на столе метровую полосу старинной плотной бумаги: уже знакомая тайнопись странников, мелкая и плотная вязь арамейского письма – не имея перед глазами азбуки, не прочесть ни слова, даже при соответствующей подготовке. По свидетельству самих старцев, подобных грамот всего было около двадцати, но сохранились лишь три. Некоторые из них разными путями и в разное время попадали властям и уничтожались непрочтенными, однако большую их часть сжигали в некоторых толках старообрядцев, не желавших признавать в сонорецких скитниках духовное лидерство. По счастливому стечению обстоятельств, уцелело самое главное Первое послание, документально подтвердившее вывод Космача: церковная никонианская реформа была всего лишь прикрытием другого, исторически более важного события – смены элиты государства и, как следствие, ценностной ориентации русской жизни.
Для того чтобы утвердиться на престоле, Романовым было необходимо избавиться от мощного влияния вольного, самодостаточного и независимого боярства, доставшегося в наследство от Рюриковичей. И, по сути, добровольно отказаться от исторической миссии – провозглашения и утверждения Третьего Рима на Руси.
Как известно, «четвертому не бывати».
Прямое и открытое притеснение особо ретивых бояр ничего не давало, ибо опальные тотчас становились мучениками. Так возник замысел провести церковную реформу, и принадлежал он не Алексею Михайловичу и даже не патриарху, а греческим попам, которые в поисках места службы толпами шли на Русь, и приближенному митрополиту Паисию Лигариду, известному на Руси тем, что задолго до Петра он завез и торговал табаком, уча не молитвам, а курению. Церковная реформа и расколола боярство.
Пожалуй, это была первая русская революция в верхах, и впервые ставка была сделана на боярских детей, отколотых за счет «конфликта поколений» от именитых элитных отцов. И только во вторую очередь – на худородных, обедневших, а то и вовсе нищих князей и дворян, которые поддержат все, что сулит выгоду.
Все последующие революции с поразительной точностью использовали этот прием, укладывающийся в короткую формулу «разделяй и властвуй».
Никон сделал свое дело и отправился в ссылку, консервативные родовитые бояре и купечество, не приняв новой обрядности, оказались вне двора, вне закона и без собственности, а скоро и вовсе без родины, вынужденные скрываться сначала на глухом Керженце, потом за Уральским камнем, на Балканах и берегах Босфора. Самые влиятельные и богатые, например боярыня Феодосья Морозова с родными сестрами, были попросту замучены и заморены голодом. Десятки строптивых князей, мужей боярых и сотни непокоренных священников и монахов сгноили в земляных тюрьмах и сожгли заживо, распустив молву, будто они фанатичные самосожженцы.
И потом, на протяжении веков, гнали и палили уже их потомков, ибо смена элиты непременно влечет за собой характерный признак – несоразмерность наказания, возведенную в неписаный закон.
Места знатных, высокородных заняли худородные, кое&что получившие за лояльность, однако деяния благочестивого Тишайшего отца довершил бритый, блядолюбивого образа сын, срезав с боярских подбородков последние остатки достоинства и заменив этих бояр еще более худородными.
А простому люду, недавно пережившему Смутное время, польские нашествия и войны с Лжедмитриями, тогда было все равно, сколькими перстами креститься и как ходить вокруг аналоя. Судя по «Житию» Аввакума, прихожане блудом занимались даже в храмах и, бывало, до смерти лупили своих попов. И если эта голь перекатная, но совестливая и оказывалась в таежных скитах, то обычно вкупе со своими господами: преданные холопы, челядь и дворня не желали расставаться с хозяевами и предпочли разделить их участь.
Один только Ириней Илиодорович на память назвал сто двенадцать боярских родовых фамилий старообрядцев, живших по Соляному Пути еще лет тридцать назад. Около полусотни Космач сам разыскал на Русском Севере от Сыктывкара до Мурманска, двадцать семь сохранившихся родов оказалось среди некрасовских казаков, вернувшихся в шестидесятых годах из Турции и ныне живущих в винсовхозе Краснодарского края.
Сонорецкие старцы, своеобразная боярская дума в изгнании, долгое время управляла духовной и экономической жизнью, рассылая по Соляному Пути вот такие послания, однако посеянные семена раскола прорастали уже без чьего-либо вмешательства. Каждый предводитель рода сам мыслил править, и спустя сто лет после смены элит старцы писали к внукам, древлее благочестие предержащим: «Ведаете ли, кто вы ныне? Изгнанники, страстотерпцы и великомученики во имя веры Христовой, неправедного гнева анчихристовых царей, а тако же огня, пыток и юзилищ не убоявшиеся? Иль по суду Божию и промыслу Его обречены на вечные скитания по горам, лесам и болотам, аки звери дикие, тропами ходящие? Отполыхало пламя, угас огонь очистительный, чрез который прошли деды ваши, и ныне токмо ветер гонит поземку, реет пепел подобно снегу да порошит память вашу. И века не минуло с той поры, а вот уж ходит меж нами распря и вражда, и молва дурная разносится в миру, де-мол, нет более предержащих веру благочестивую. Да нечего сетовать на мир, ибо достойны сей славы, и коли называют нас худым прозвищем – раскольники, так поделом. Нашими мерзкими стараниями и непотребными трудами раскололась древляя вера на многие толки. Сами свершили то, чего желали гонители наши. Позрите же, внуки мужей вельможных, как вы молитесь, чьему богу поклоны бьете? Да се есть ли вера Православная, егда, в скитах затворясь, всякий род свой суд и обряд чинит? Кто в кадке с водой крестит, кто песком, а кто и вовсе бесерменином живет и лишь пред кончиной принимает Святое крещение, яко младенец, дабы за грехи ответа не держать? Се есть ли Третий Рим, во имя славы коего деды ваши, иные по триста лет Господу нашему и русскому престолу верно служившие, огня и дыбы не убоялись, отринули власть государя-христопродавца, имения свои утратили и в пещеры ушли, яко первые христиане?..»
После такого послания старцев с таинственной Сон-реки в некоторых толках объявили отступниками и еретиками, дескать, бесермене и крамольники солнцу молятся, огню поклоняются, занимаются вражбой и колдовством и потому не едят, не пьют, будто бы святым духом питаются. Однако при такой крайней внешней нетерпимости их влияние и авторитет на Соляной Тропе ничуть не умалились, и долгое время это оставалось загадкой. Неведомых старцев поносили на чем свет стоит, детей пугали ими, однако же никто не хотел показывать к ним дороги. Многие на самом деле не знали, где такая река, поскольку доступ к старцам имели только странники, но и они не выказывали пути и упорно уходили даже от разговоров о старцах.
Словно табу наложено!
Причину однажды назвал плутоватый, но всезнающий неписаха Клавдий Сорока, бывавший на Сон-реке несколько раз – водил больных лечиться:
– Они царские книги держат. Либерея называется. Ты как ученый муж должен знать. Да если охота есть, сведу, сам поглядишь. Сбегаю токмо на Иртыш. Ты меня в Аргабаче подожди...
Второй раз Космач вошел в горницу около десяти утра – вспомнил о человеке, пришедшем в Полурады.
Сон у боярышни был уже чутким, открыла глаза, приподнялась.
– Ой, уснула вчера без молитвы – Боженька день отнимет, – пожаловалась. – И не помню как... Христос воскресе, Ярий Николаевич.
– Доброе утро!
Села, накрывшись одеялом, поозиралась, тронула цветы в изголовье.
– Радостные какие, веселые! – В голосе уже был восторг. – Да красивые! А вчера погибали... Ну, какое слово сегодня скажешь? Власяницу снял, а в жены возьмешь?
Во всех старообрядцах и особенно в странниках кротость, богобоязненность и крайняя застенчивость невероятным, потрясающим образом уживались с откровенной прямотой, если речь шла о таких важных моментах, как женитьба или замужество. Здесь не подходил ни один привычный, мирской стандарт отношений – когда долго ухаживают, говорят о любви, клянутся в верности и засылают сватов; здесь требовалось один раз и на всю жизнь сказать свое твердое слово, и дело сделано.
От этого веяло древностью, рыцарскими временами. И к этому надо было привыкнуть...
– Беру тебя в жены, – просто сказал Космач.
Вавила никак не проявила своих чувств, разве что чуть приподняла и расправила плечи.
– Коль берешь – пойду.
У нее и спокойствие было необыкновенным – лучистым и заразительным.
Она сбросила с плеч одеяло, оставшись в льняной рубахе, стянутой у горла шнурком. Медленно развязала его и слегка растянула, почти открыв грудь, но опомнилась, заслонилась руками.
– А ты поди, Ярий Николаевич. Не смотри на мои язвы. Позову, как наряжусь. Да зерцало мне принеси!
Через четверть часа сама распахнула дверь, поманила рукой.
Можно было не спрашивать, зачем она бежала Соляным Путем через три области и лыжи изнашивала, как железные башмаки. Вероятно, это был подвенечный наряд, переходящий у старообрядцев от бабушки к внучке: подпоясанный шелковой шалью темно-зеленый широкий кафтан с длинными рукавами, расшитый серебристыми узорами и множеством пуговиц – крупных, голубоватых жемчужин. Волосы опутаны сверкающим позументом, на голове уже другой кокошник, шитый золотом и с жемчужным очельем, прикрывающим лоб и уши. Но более всего бросалось в глаза оплечье: по малиновому тонкому сукну были нашиты старинные золотые монеты, по нижнему краю – в рядок, выше – змейкой, а у горла – рыбьей чешуей. И каждая монетка держится за счет маленькой жемчужины.
Да еще насурьмилась! Брови подвела, веки оттенила синевой и щеки припудрила розовой цветочной пыльцой.
Она высвободила руки из прорезей в рукавах, неловко покрутилась:
– А какова я? Ты все меня зовешь боярышней, вот тебе и боярышня!
Обряди сейчас хоть кого в такие одежды, будет полное ощущение театральности, фольклорного представления, демонстрации музейных экспонатов. А на Вавиле все это было настолько гармонично, будто и впрямь явилась из семнадцатого века.
– Хороша! Не боярышня – царевна, да и только!
– Захотелось покрасоваться перед тобой, – шепотом призналась она. – В серебре да золоте показаться. Монисто сама сшила, видишь, под каждой жемчужиной на монетке дырочка, а ничего не видать!
– Я догадался! Это твое подвенечное платье!
– Нет! – засмеялась счастливо. – Подвенечный наряд весь белый-белый! И легкий, из камки, токмо бармы тяжелые, с образками и самоцветами...
– Тогда зачем же все это несла в такую даль? Неужели чтоб мне показать?
Она взмахнула длинными рукавами, будто крылья сложила.
– Да нет, Ярий Николаевич... Это уж я не стерпела и обрядилась, чтоб показать. А несла по другой нужде. Тут не все, самое тяжкое в Северном оставила, у Савелия Мефодьевича... Не помню, сказала вчера или нет. К нам чужой человек пришел, сказался от тебя, ученый...
Она еще говорила легко, весело, но тускнела на глазах.
– Я никого не посылал!
– Да весточку принес! Рукой твоей писано, мол, кланяюсь, примите товарища моего, Михаила Павловича. Сам-де прийти не могу... А вот, почитай. – Подтянула котомку, достала и подала бумажку, сложенную вчетверо.
Почерк был действительно его, и адресовано Углицкому Иринею Илиодоровичу, а написано обыкновенной шариковой ручкой, но что сразу бросилось в глаза – текст явно ксерокопирован, нет нажима, да и буквы очень уж четкие: скорее всего, добыли его настоящую рукопись и обработали на компьютере...
– Меня сразу сомнение взяло, – наблюдая за ним, проговорила боярышня. – Раз Клестя-малой был у тебя, выходит, знал ты, что батюшка в Напасе живет. Не стал бы ему писать. Да бабушка говорит, мол, вдруг он давно к нам вышел и заплутал, вот и шел долго.
– Добрая стала бабушка...
Вавила на реплику не обратила внимания.
– Сказал, от Воротилова на лыжах шел, это, как ни говори, по прямой токмо четыреста с лишним верст считается. Я посмотрела голицы его – и сотни не пройдено. А перед Введением ростепели дважды были, дождик принимался – зимы&то совсем худые стали. Наст в иных местах коня держал, за дровами как раз ездила. Батюшки нет, братьев нет, самим уголь жечь тяжко, так мы трубу наладили да дровами топим. Открыли дымы... По насту он бы в лохмотья свои голицы распустил – ан целехоньки. А бабушка говорит, давай присмотримся, пусть себя покажет.
– Меня так не признавала, – заметил Космач. – Все гнала из скита...
– Не сердись на нее, Ярий Николаевич, – заступилась Вавила. – Ложь на крыльях летит – правда ноги бьет. Да и человек&то от тебя с весточкой.
– А, ну да... И как показал себя этот человек?
– Неделю в избушке ночевал. Помнишь, на смолокурне?.. Бабушка носила еду, а он неразговорчивый, зачем пришел – молчит. Попросился дров попилить, я сухостоя навозила... Два дня пилил. Затопит камелек, чтоб к вечеру не выстыло, и идет пилить. От нас&то не видать, мы и не ведали, что бедокурит. Избушка возьми и вспыхни – дым столбом встал, мороз... Пока бежали, уж и тушить нечего.
– Умышленно спалил.
– Кто знает?.. Тогда еще невдомек было. Пришлось его пустить в баньку. Она же старая совсем, продувает, и, видно, ночью каменку затопил и уснул – загорелась и банька.
– Ну, это уж слишком!
Боярышня лишь плечами пожала.
– Михаил Павлович в исподнем&то и выскочил. Что делать? Не пускать же в новую баню... К Елизарию жить просился – тот не берет, мол, и у меня все попалит. А потом, как отдавать, раз от тебя человек? Вдруг да и в самом деле ты прислал непутевого?.. Одели его, обули, иконы из летовки убрали да поселили. А топить уж не давали ему – сами все, и трубу закрывали. Тут он немного отошел, разговаривать стал. Мне, говорит, Юрий Николаевич велел все ваши рассказы про старую жизнь описать на бумагу, для науки ему надо. Бабушка и сказала, мол, старая, памяти нет, и про свою&то жизнь все забыла. Тогда он ко мне, дескать, ты&то должна помнить, что старики рассказывали. А я ему, чего же Юрий&то Николаевич послал тебя записывать, когда сам все записал? Он тогда и говорит, будто ты бумаги свои всегда с собой держал, а тебя в милицию забрали, хотели в тюрьму посадить, но отпустили, и бумаги потерялись, милиция отобрала...
– Интересно. – Космач сел на табурет. – А ведь так и было. Только не бумаги – диссертацию потеряли в милиции.
– Значит, он про то знает. – Она тоже опустилась на край постели, положив руки в перстнях на колени.
– Выходит, что знает... А дальше что?
– А видит, толку нет, так стал Елизария обхаживать. Елизарий ему свои мараки дал. Помнишь, он все на бересте писал?.. Этот Михаил&то Павлович сидит да читает с утра до ночи, а то и свечечку затеплит и ночью сидит. На лыжи встанет, в лес сходит и опять в хоромину. И вот в канун Рождества мы к Маркуше на всенощную пошли и токмо встали пред образа, бабушка говорит, ступай-ка и позри, что там гость наш делает, кабы хоромину не сжег. Я не в дверь, через подклет вошла, а он не читает, с палкой ходит по двору, как слепой...
– С какой палкой?
– Светлая такая, с круглым решетом на конце. Знаешь, на котором орехи просеивают?.. На другом конце палки коробочка, и на ней сурики горят.
– А что такое – сурики?
– Да ты видел на болоте, ночью идешь – светятся, зеленые, розовые...
– Это был прибор? Аппарат?
– Кто знает? По-нашему, так палка анчихристова. – Вавила усмехнулась: все&таки ее возвышенное, блаженное спокойствие не могли испортить даже воспоминания об опасности. – Небось из огня&то голый выскочил, а откуда палка взялась?.. Посмотрела за ним, и как только он к бабушкиной светелке подобрался, я ногами как затопаю – ты что тут делаешь, бесерменин эдакий?! Ты что своим жезлом сатанинским нашу хоромину крестишь? А он и не испугался, разве что вздрогнул и говорит спокойно: «Я, Вавила Иринеевна, по заданию Юрия Николаевича дом ваш исследую, крепкий ли, нет. Вот здесь у вас венцы погнили, вот здесь так скоро бревна вывалятся... Но вы не печальтесь, весной мастерить буду. Ведь вы не в состоянии, женщины...» Ишь благодетельный какой! Но верно все указал, хоромина и правда обветшала. Сам же быстренько решето свернул, палку смял и в коробочку засунул. Ох, говорю, бес попутал, Михаил Павлович, ты уж прости меня. Мы ж люди лесные, темные, науки не понимаем, и все по-старому: топором постукаешь, и видно, где сгнило. Коль возьмешься мастерить, так молиться за тебя будем. Прибегаю к бабушке, все как есть рассказала, она и говорит, ну, осталось узнать, куда он в лес ходит, за какой надобностью. Утром еще затемно, когда Михаил Павлович спал, встала на лыжи и давай его следы пытать. А он навертел, накрутил меж озер, да токмо я лыжницу и под снегом чую, даже если замело. Размотала, развязала узлы, нашла куда ходит – к Запорному озеру все следы сбегаются. Когда&то наши запор ставили, рыбу ловили, и землянка есть. И свежий ход к ней, голицы&то его! Заглянула, а там винтовка, котомка припрятана, большая, с карманами, и в ней провиант всякий, лодка из резины, как ты батюшке подарил, и приемник стоит. Должно, слушать ходит.
– Может, не приемник? – насторожился Космач. – Знаешь, что такое радиостанция? Ну, по которой говоришь и тебя далеко слышно?
– Нет, похоже на то, что ты мне дарил, радио. Я включила – музыка играет, песни поют. Не знаю... Зачем прятать от нас? Ты сколько раз приходил к нам, и один, и с женой, и ничего не прятал, все на виду.
Упоминание о жене он оставил без внимания, поторопил:
– Что дальше&то было? Где этот человек?
– А в срубе сидит, – просто сказала Вавила. – В коптилке. С солью у нас опять худо стало, некому носить, так покойный Амвросий коптилку срубил, высокую, да ведь зимой так стоит, без дела. Туда на веревке и спустили. Что делать – не знаем. Сколь держать и кормить?.. Все на своем стоит, дескать, Юрий Николаевич прислал. Отпускать нельзя, дорогу знает, не сам, так других нашлет. А может, не один пришел, товарищ по землянкам где прячется. Нагрянет да вызволит. Бабушка говорит, беги к Юрию Николаевичу и золото с каменьями унеси, дабы пришлых людей в искус не вводить. Вот я собрала все и понесла...
В другое время разбойных людей кержаки в срубы не сажали, а кликали заложных. Заживо отпетые странники, если дело было зимой, отводили подальше от скита, отбирали лыжи и просто отпускали на волю, а летом, аки Моисея-младенца, пеленали веревкой и клали в верткий облас – плыви по реке, куда она вынесет.
Но на Соляной Тропе поблизости от Полурад нет заложных, а в скиту сейчас одни старики и старухи, некому отвадить чужака, никто не возьмется казнить, ибо до смерти близко, не замолить греха...
– Как сам сделаешь, так и ладно будет, – заключила она и несколько смутилась. – Мало покрасовалась, разоболокаться надобно. А неловко... Прости ради Христа и поди за дверь, Ярий Николаевич.
Космач ушел на кухню, уселся на лавку перед топящейся печью. Боярышня появилась через несколько минут, без нарядов, в синем платье с серебряными дутыми пуговичками и девичьем платочке, села рядом.
– Картошку бы приставить, покуда не жарко.
– Если сюда двадцать девять дней шла, на обратный путь еще больше уйдет. Так что не поспеем мы до оттепелей.
– Не поспеем, – согласилась она. – Ныне весна будет ранняя, Овидий Стрешнев сказал. По утрам насты, да ведь надежда плохая и лыжи ест. И много ли за утро пробежишь? Застрянем где&нибудь на Ергаче...
– Потом снеготаяние, речки разольются, болота затопит...
– Тогда скорого пути нет до лета, Ярий Николаевич...
– До лета никак нельзя ждать.
– Нельзя, так и не станем.
– Остается самолет до Напаса, с пересадками. Оттуда бы успели и на лыжах... Но у тебя паспорта нет, боярышня.
– Нету паспорта...
– И что же будем делать?
Она положила головку на его плечо, засмотрелась в огонь.
– А теперь ты думай, Ярий Николаевич. Без власяницы я подневольная, слабая. Токмо и могу что за тобой идти. На лыжах – так пойду на лыжах, а коли на самолете, так на самолете...
– Ладно, боярышня, вари картошку, завтракай. В холодильнике фрукты, торт, пирожные и твои любимые маслины. Вчера даже не притронулась...
– Освободил от вериг, да сморило после баньки твоей...
– Я поеду в город. – Космач стал одеваться. – Коня напоил, сена дал, воды принес...
И был уже на пороге, когда Вавила опомнилась:
– Как же одну оставишь? А ежели кто нагрянет?
– Будь хозяйкой, как у себя дома!
– Боязно мне, Ярий Николаевич, несвычно... А она не придет?
– Кого ты боишься теперь? – Космач снял платочек с ее головы и погладил волосы. – Она не придет, ноги заболели, с палочкой ходит.
Ему хотелось обнять ее, да не позволял обычай: такая ласка могла быть лишь при встрече, но никак не при расставании – не поймет и напугается...
Поклонились друг другу в пояс.
– Ангела в дорогу.
– Оставайся с Богом.
Целый месяц Ириней Илиодорович ходил с гордо поднятой головой, потеряв к ученому всякий интерес, поэтому другие скитники беседовали неохотно, однако Космач считал ту экспедицию самой удачной из всех. Мысль, на которую натолкнул его потомок древнего княжеского рода, вызревала так стремительно, что он и сам был готов бежать из Полурад по всему Соляному Пути, чтоб найти подтверждение своим догадкам.








