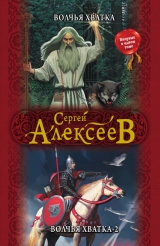
Текст книги "Волчья хватка. Волчья хватка‑2 (сборник)"
Автор книги: Сергей Алексеев
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
6
Дедовскую вотчину, наследную рощу Ражное Урочище, выпилили почти подчистую перед войной, когда по округе начали открываться лесоучастки. Она не значилась ни на одной карте, была известна лишь редким местным жителям, кто любил лесные глубины и часто в них забирался, а официально на земле, где стояла мощная трехсотлетняя дубрава, числился старый заболоченный осинник. Когда же приехали таксаторы леса и пошли нарезать деляны для вальщиков, рощу обнаружили, внесли поправки на картах и выпластали чуть ли не в первую очередь для районного промкомбината, столярный цех которого выпускал тяжеленные, грубоватые стулья и столы для заседаний в стиле советского модерна. Тогда ещё живший на свете дед Ражного, Ерофей, в миру известный правдивец, пришёл к местному начальству и уговаривать не рубить лес в Урочище не стал, ибо бесполезно тратить слова не любил, но предупредил, мол, смотрите, товарищи, не будет добра советской власти от дубовой древесины и мебели, а беды она принесёт немало.
За авторитет среди населения, за кулацкий характер, а более всего из-за жены его – красивой, царственной и обворожительной Екатерины – деда пытались несколько раз отправить в лагеря. Пока очередной следователь таскал и допрашивал самого – все обходилось, и он всякий раз с блеском выворачивался из-под любого обвинения и оставался неуязвимым, но когда вызывали его жену, тут все и начиналось. Деда арестовывали, а следователь начинал откровенно ухаживать за Екатериной. Так повторялось пять раз и совершенно с одинаковым исходом: Ерофея выпускали, иногда по причинам странным и непривычным – то следователь вдруг запьёт, оправдает деда, а сам потом или застрелится, или будто бы случайно вывалится из кошевы и замёрзнет на дороге зимой, или утонет в реке. А то, бывало, сверху придёт указ отпустить без объяснения каких-либо причин.
Так что любовью начальства он обласкан не был, но и трогать его материалисты до мозга костей опасались из-за славы, которая вилась за Ражными с давних времён – колдовства. Если было засушливое лето, во все времена к ним приходили, чаще всего украдкой, и просили дождя.
– Добро, идите, – выслушав, отвечал старший в этом роду. – Да поторопитесь, у вас все окна и двери нараспашку, а сейчас гроза будет.
И верно, не успевали просители добежать до своей деревни, а в небе уже висит чёрная туча, ветер завивает дорожную пыль, куры бегут прятаться, муравьи суетятся. Ещё мгновение, и ливень как из ведра – откуда что и взялось! Точно так же просили снега, если земля оставалась голой до декабря и вымерзали посевы, бывало, просили мороза, чтобы сковало реку, по которой гоняли ямщину – основной вид дохода в прошлые времена; просили тепла, урожая, здоровья, детей и получали, однако все равно в миру за спиной шептали:
– Колдуны! Истинные колдуны!..
На то он и есть мир…
И вот когда Ерофей пришёл и предупредил по поводу мебели, люди в галифе и скрипучих сапогах завели на него очередное дело и начали подводить под статью. А поскольку это ещё никому не удавалось, то материал собирали тайно, по крупице и скоро выяснилось, что дед говорил правду. Колдовским ли образом или ещё каким вражеским, но будто в воду смотрел! Только за один год стульями из дубовой древесины, изготовленной в промкомбинате, было убито по всей стране девять человек и около двадцати получили увечья. За столами же по самым разным причинам погибло около полутора десятков начальников самых разных рангов. Это не считая того, что ещё столько же сошли с ума, причём все душевно заболевшие чиновники отличались невероятной буйностью, крайней и внезапной агрессией, и, случалось, сами убивали посетителей стульями.
Никто бы о таких фактах никогда не узнал, поскольку подобной статистики не вели, если бы не попался дотошный следователь, решивший развенчать авторитетного Ерофея Ражного и показать народу, чего стоит его колдовская сила и мракобесие. Но развенчался сам и сначала пришёл к нему уже почти безумный, упрашивая открыть секреты колдовства или передать их для борьбы с врагами советской власти, затем принародно пытался убить деда, стрелял почти в упор, да промахнулся и ранил двух ни в чем не повинных людей.
Когда же милиционеры скручивали его, он только молился Богу и слал анафему чародею.
Деда ещё потаскали немного и отпустили, теперь уже насовсем: никто больше не хотел заниматься его делом, а жены Екатерины боялись как огня. В сорок первом году, когда сына Сергея призвали на фронт, исчез куда-то и сам Ерофей. На войну взять не могли – за восемьдесят лет было, в трудармию тоже, и тогда неведомо откуда и как побежал слушок, будто Ражный-старший подался в какой-то монастырь, замаливать прежние грехи. Вернулся он в сорок третьем совершенно другим человеком – будто прежний огонь из него вылетел. Ходил с палочкой, тихий, слабый, опустошённый и, если шли к нему с просьбами, всем отказывал.
– Не могу я, – говорил. – Силы нет. Потерпите, вот отдохну лет двадцать, может, и помогу.
Поэтому Ражное Урочище восстанавливал отец в пятидесятых годах, когда вернулся с войны и пошёл работать в лесничество. После порубки на месте рощи остался редкий, убогий самосев, да и то объеденный лосями, кустообразный и убогий, ибо освобождённое от дубов место тотчас же затянул осинник и за пятнадцать лет вымахал высоко и густо, как стена. Отцу пришлось начинать все сначала: постепенно вырубать горькую осину и взращивать новый лес. Неподалёку от Урочища он сделал скрытый от посторонних глаз дубовый питомник, где проращивал жёлуди, откуда-то лично им привезённые, после чего нёс на себе и рассаживал трехлетние саженцы с ему одному понятной закономерностью, огораживая их остро заточенными кольями от лосей.
Он спешил, потому что в год, когда посадил последнее дерево, у Сергея Ражного родился сын Вячеслав.
Восстанавливал питомник по своей воле и тайно от своего лесного начальства, в свободное время, и никто так и не узнал, какими чарами и колдовством снова возникла роща.
За сорок лет дубы в Урочище выросли толщиной в обхват одной руки, но ухоженные, поднялись стройными и высокими, с правильными и хорошо развитыми кронами и уже давно обсыпали землю дождём желудей. Размерами роща была не велика – чуть больше трех гектаров, и имела правильную, округлую форму. Ражный приходил в свою вотчину редко и в основном по нужде: в летнюю пору в дубраву лезли кабаны и подрывали деревья, так что приходилось и в самом деле сметать жёлуди с ристалища, где земля была слишком мягкая и слабозадернованная, а в зимнюю бескормицу устраивать отвлекающие кормушки и вывозить туда мёрзлую картошку.
По смерти отца Ражный стал хозяином Урочища, и охотничья база, клуб, аренда угодий, суета и маета с иностранными охотниками, своими отдыхающими, егерями и просто несчастными типа Героя Соцтруда – все было ради этой рощи. Надо было как-то оправдывать перед миром своё присутствие в глухих, малолюдных местах…
Он пришёл сюда в тот же день, как выследил и отстрелил матёрого волка, за бессонные сутки проделав путь в шестьдесят километров: сразу же с охоты в Красном Береге побежал на место встречи с поедин-щиком – поджимало условленное время – и как хозяин назначил время поединка и указал наконец-то месторасположение Урочища. После этого вернулся назад, снял шкуру с волка и двинул в рощу напрямую, по лесам и болотам, мимо дорог и брошенных деревень. Состояние «полёта нетопыря», наследственный приём, так необходимый в поединка и составляющий родовую тайну, выхолостил его, и он рассчитывал хотя бы частично восстановить силу и энергию в наследной дубраве, иначе не одолеть противника.
Начало поединка он назначил через сутки, то есть послезавтра на восходе солнца. Хватило бы времени и на отдых, и на то, чтобы подготовить ристалище – срубить траву, вымести метлой поляну в центре рощи и взрыхлить её верхний слой, как контрольно-следовую полосу на границе. Однако первое, что он заметил, перешагнув «порог» Урочища, – знак на Поклонном дубе, оставленный вольным поединщиком, – железный кованый гвоздь, вбитый по шляпку. Коле-ватый не скрывал теперь своего происхождения и рода, впрочем, здесь, в роще, уже было бесполезно и бессмысленно что-либо таить от соперника, тем паче, возле Поклонного дуба. Гвоздь этот был документом, более красноречивым, чем любая грамота: противником Ражного оказался араке из рода кузнецов, в схватках отличающихся огненной яростью, сильнейшим кулачным ударом и клещевым мёртвым захватом.
Стало ясно, что Колеватый времени зря не терял и в городской гостинице не жил, да и на лабазе не сидел возле порезанных волком коров; он рыскал по лесам и искал рощу, дабы освоить ристалище, ощутить энергию пространства и сориентироваться в его магнитных свойствах. Правилами это не запрещалось, Другое дело, не все засадники решались на поиски места схватки, ибо чаще всего это грозило физической усталостью и напрасной потерей времени, особенно если рощи были сосновыми – там, где по климатическому поясу не росли дубы. Потому хозяин, принимающий соперника, старался не слишком-то оттягивать срок схватки и не давать ему возможности до поединка освоиться в дубраве.
Колеватый рискнул – очень хотел победы! – и нашёл Урочище. И вбил свой знак в Поклонный дуб.
А заодно засадил гвоздь в сознание…
Ражный коснулся рукой этой визитной карточки и ощутил тепло, исходящее от шляпки гвоздя, словно его недавно вынули из горна. Предки Колеватого не единожды вступали в поединки в этой роще, правда, ещё старой: когда начали распиливать дубовые бревна в промкомбинате, угробили не одно полотно на пилораме. В кряжах, на разной глубине, давно вросшие и почти слившиеся с древесиной, попались несколько таких гвоздей. А также лезвий старинных засапожных ножей, стальных скребков, копейных навершений, сошников, литых и кованых медных блях – короче, множество металлических предметов, веками скоплённых дубравой и никак не объяснимых с точки зрения пром-комбинатовских и прочих начальников.
И не один пилорамщик пошёл по статье за вредительство…
Он прекрасно понимал, что хотел сказать своим знаком Колеватый, и старался не сосредоточивать на этом внимания, но заноза прочно сидела в уставшем сознании. Следовало бы отыскать место, лечь и прежде всего выспаться, благо что начало смеркаться, но вместо этого Ражный отправился к ристалищу и по дороге на свежеразрытой кабанами земле увидел отпечаток подошвы кроссовки: гость бродил здесь всюду, осваивая пространство. А опытному поединщику, бывавшему на земляных коврах в таких вот рощах, совсем не трудно разобраться и в характере наследного владельца дубравы, хотя одна не походила на другую и каждая построена по родовой индивидуальности.
Двигаясь так от дерева к дереву и придирчиво осматривая землю, словно увлечённый грибник, он внезапно наткнулся на чёткие отпечатки конских копыт – две некованых лошади пронеслись лёгким галопом, разрезав Урочище чуть ли не надвое. Следы были совсем свежие и насторожили Ражного: раскатывать здесь на конях могли только сыновья Трапезникова. Причём проскакали в одну сторону, обратного следа нет, и кто их знает, когда поедут назад и каким путём? И вообще, почему их понесло в этот край?..
Этих парней бы в гвардию, в кремлёвскую охрану или роту почётного караула, а братьев даже в стройбат не взяли. Они же рвались в армию всеми правдами и не правдами, каждый раз при встрече молчаливыми вопросительными взглядами напоминая Ражному об обещании раздобыть пару настоящих школьных свидетельств о неполном среднем образовании. Ни сами бы они, ни отец их сроду бы не попросили о такой услуге; Ражный вызвался помочь по своей охоте, когда увидел этих молодцев, вскормленных на воле и в трудах праведных, да ещё и убедил, мол-де, в такой нечестности нет ничего зазорного и дурного, ибо добывание свидетельств не им принесёт благо, но Родине. К тому же, братья умели читать, писать и считать, так что совсем безграмотными их назвать нельзя. Да ещё черт дёрнул за язык, рассказал о пограничной службе, о своей особой бригаде спецназа, куда подбирали людей с волчьим чутьём и способностями ходить по следу нарушителей – у этих природных охотников и следопытов огонь загорелся в глазах. А когда больше для собственной забавы начал учить их рукопашному бою и вольной борьбе, они увлеклись армейской службой и приезжали на базу чуть ли не каждый день.
После того как Ражный взял матёрого, все-таки выбрал время, съездил в райцентр и купил у директора вечерней школы два свидетельства о неполном среднем образовании. Думал хоть как-то утешить бедолаг хуторян, а может, и обрадовать, но братья на заветные документы даже не взглянули.
– Это нехорошо, дядя Слава. Мы же не учились, – сказал старший Макс. – А если спросят? Ну, что-нибудь по алгебре или физике? Вот будет стыда…
– Тогда сидите в своём Красном Береге! И никакой вам армии! – рассердился он.
Смущённые и растерянные, они позвали отца, и тот, со знанием дела осмотрев свидетельства, отдал назад.
– Не задаром же взял? Нынче за это деньги платят. У нас с тобой рассчитаться нечем, так что забирай.
Ражный плюнул на это дело, вернулся обратно в район и передал документы военкому, чтобы вложили в личные дела призывников. Военком побоялся сразу же призвать парней, мол, случись проверка – и раскроется, что свидетельства купленные, посоветовал обождать ещё годик и поклялся на следующую осень непременно забрать Трапезниковых в армию. И когда призвал, те не явились на сборный пункт, и розыски их ничего не дали.
Великовозрастные неучи, выросшие в тайге, не знающие, что такое радио и телевизор, не имеющие представления о цивилизации, отличались потрясающим благородным воспитанием. Ражный считал, что таких людей давно уже на свете нет, а в будущем и быть не может, но когда в первый раз столкнулся с образом мыслей и поведения братьев Трапезниковых, долго не мог сообразить, как к ним относиться. Однажды после охоты с группой бельгийцев из загона прорвались сквозь номера и ушли неуязвимыми четыре лося, и лишь один бык оказался пораненным, но добивать его уже не оставалось времени. Скисшие иностранцы готовились к отъезду без трофеев и с солидным штрафом. Наутро им заказали машину, а среди ночи к базе, запряжённые в волокушу, вышли тогда ещё семнадцатилетние сыновья Трапезникова. За шесть часов они умудрились прийти к месту загонной охоты – а это километров десять от Красного Берега, – вытропить подранка, добрать его, в темноте, но аккуратно, без единого пореза снять шкуру, выпотрошить лося и притащить на волокуше вместе с рогатой головой и копытами на базу за двенадцать километров. Не то что платы за такую услугу – они и чаю не попили, тотчас встали на лыжи и как ни в чем не бывало ушли к себе на хутор.
И им было все равно, кто охотился и кому предназначен трофей; они знали древнее как мир таёжное правило – раненный кем бы то ни было зверь непременно должен быть дострелен и безвозмездно отдан охотнику.
Президент клуба давно бы разогнал всех егерей и взял вместо пяти двоих – братьев, однако они совершенно не годились для такой работы, ибо не умели прислуживать и прогибаться, а егерский труд по большей части в этом и заключался. Скоробогатые отечественные или состоятельные заморские клиенты отличались удивительной привередливостью, прежде всего требовали высокий сервис и, имея охотничий характер, по праву сильного любили подчинять себе, а подчинив, унижать.
Когда у старшего Трапезникова начался конезаводской период, его сыновья перестали ходить пешими и теперь не вылезали из сёдел, научившись скакать по густым лесам, буреломникам и завалеженным вырубкам. Выносливые и мобильные, они теперь знали все, что творится вокруг на добрых сорок вёрст, неведомым образом поспевая всюду и особенно там, где стреляют. После волчьего набега и гибели четырех товарных голов пегашей им бы вместе со своим родителем горе горевать, а они ничуть не изменили своего образа жизни. И продолжали жить, как будто ничего не случилось! Единственные, кто не грозил подать в суд и никому даже не пожаловался, были Трапезниковы, и только поэтому Ражный решил в первую очередь им возместить ущерб, но не деньгами – заказанными в Вологодскую область пегими матками. Яростные, непокорные хуторяне и от этого отказывались, просили только шкуру разбойного волка, для дела, не каждому понятного: чтобы, глядя на неё, наполняться ещё большим упорством.
Знали, что просили…
Наследный владелец рощи был обязан обеспечить полную негласность поединка: ни одна живая душа не могла видеть, что происходит в дубраве, иначе результаты схватки признавались ложными, засадники на пятилетний срок лишались права борьбы и начинали все сначала. Хозяин Урочища был обязан сначала дезавуировать событие, гарантированно убедить самого подозрительного очевидца – оглашённого – например, в том, что он видел просто пьяную драку или разборки «крутых», после этого на его рощу накладывалось табу сроком в десять лет, а сам он лишался права состязаний и попадал под личный надзор старца Ослаба и его опричных людей. В особых случаях вотчинник мог предстать перед его судом, по приговору лишиться рощи и до смертного часа своего уйти из мира в калики перехожие – своеобразный монастырь, где нельзя было быть одним целым, где личность и воля делились в равных долях на количество душ, в нем проживающих.
Было где-то на свете Сирое Урочище, и там сейчас находились три десятка вольных поединщиков и один вотчинник – калик верижный, носящий на себе цепи денно и нощно. Опальные араксы не просто жили – существовали общинно, то есть никто из них не мог быть отдельной самостоятельной личностью: одно «я» как бы раскладывалось на количество насельников. И это было самым тяжким приговором суда Ослаба. Чем больше было наказанных засадников в общине, тем мельче становился каждый её член и тем страшнее приговор. Прибыло их в Сиром Урочище за это время или убыло, но делить себя с этой братией по крайней мере на тридцать частей, да ещё не испытав ни одной схватки, Ражный не собирался.
Он прошёл конским следом через всю дубраву, спустился в лог к пересыхающему ручью и понял, что молодцы с Красного Берега не на прогулку выехали – кого-то искали, проверяя места, где можно укрыться. Судя по направлению, ехали они в сторону давно заброшенного смолзавода, причём на ночь глядя, и вряд ли станут возвращаться той же прямицей, через леса; скорее, поскачут старой дорогой – более длинной, но безопасной в темноте.
И все-таки Ражный подстраховался, сделал затвор на пути конников, чтоб не возвращались своим следом, благо что свежая волчья шкура была с собой. Ставил он звериные меты по рубежам своей вотчины и жалел парней: понесут лошади густым лесом – глаза выстегнет седокам, или вовсе поломаются, выбитые из сёдел…
Несведущие братья Трапезниковы проскакали ристалищем по незнанию и недомыслию, а Колеватый наследил умышленно. Ходил чистыми от травы местами по самой поляне, и мягкий грунт легко продавливался под статридцатикилограммовой тушей. Это уже был явный вызов и даже пренебрежение к вотчиннику: ступать по ристалищу до начала схватки не позволялось правилами, за исключением случаев, когда Ослабом назначался Судный Пир. Ражный мог бы сейчас по одной этой причине засчитать себе победу, даже не начав поединка, а с Колеватым можно было и не встречаться, выдернуть из тела Поклонного дуба гвоздь и бросить на след поединщика, презревшего обычаи.
И тот оспорить не сможет своего поражения, ибо за двойную ложь ему светит Сирое Урочище. Поднимет свой родовой знак и тихо, молча уйдёт, словно и не бывало никогда. Уйдёт и унесёт с собой Поруку-весть, где, когда и с кем состоится следующий поединок. Согласно исконному правилу, вотчинник этого никогда не знал и знать не мог, покуда не одолеет на ристалище своего противника – пришедшего вольного поединщика. А уложив на спину, подаст ему руку, чтобы помочь встать на ноги. И вот в момент, когда побеждённый примет эту помощь, он должен отдать полную Поруку. Но если гость победит, то сам пойдёт на новое ристалище, а вотчиннику будет пустая Порука – кто и когда к нему придёт.
Первая лестница вела вверх, вторая – вниз…
Поэтому Ражный скрутил, сдавил себя и вытерпел. Не гоже было без схватки, не испытав вкуса борьбы в первом поединке, силы своей не ведая, забирать победу. Стиснув зубы, он принёс отцовский инструмент, хранящийся поблизости от рощи, в дуплистой колодине, разгрёб, растёр и заровнял следы Колевато-го, а вместе с ними и конские.
Он не участвовал в настоящих поединках, кроме потешных, учебных, однако несколько раз видел ристалища на Валдае и в Ражном Урочище сразу же после схватки: накренённые к земле молодые дубы, сбитые лохмотья коры и древесины на ближних к поляне деревьях, кругом свежие сучья, зелёная листва и.взрытая на полуметровую глубину земля, будто стадо секачей кормилось или ураган промчался. Он не знал исхода борьбы, не видел, да и не мог видеть участников, однако хорошо представлял, что здесь происходило, ибо не только следы на земле – и в самой Роще, в воздухе и пространстве ещё кипела Яростная, пузырящаяся энергия поединка. Если отец сам не участвовал в состязании, то как хозяин Урочища приходил сюда уже после схватки, чтобы в буквальном смысле замести следы, и брал с собой Вячеслава.
Но когда боролся здесь сам, все оставалось в тайне даже от сына.
До глубокой ночи Ражный рыхлил ристалище, выскребая, выбирая из него камешки, лесной сор, жёлуди и старые корневища. Готовил круглый, упругий борцовский ковёр, площадью в тридцать шесть квадратных сажен. С момента, как он дотронулся до этой земли, пошёл особый отсчёт времени: теперь он всецело принадлежал поединку, не мог ни на минуту оторваться, уйти куда-то и был готов в любой миг отвести какую-либо угрозу схватке, не допустить срыва, устранить из Урочища кого бы то ни было. Вероятно, кому-то и когда-то удавалось все-таки тайком, издалека подсмотреть за предками Ражного, среди ночи в глухом лесу возделывающими пашню. И ничего, кроме недоумения и страха, эта потаённая работа не вызывала, отсюда и брала начало колдовская слава…
А что ещё мог подумать оглашённый – несведущий и любопытный человек?
После смерти отца в роще не было состязаний, поскольку Вячеслав не вступил в совершеннолетие, а значит, и в права наследства вотчины. Ристалище, как всякая отдохнувшая земля, могло быть особенно плодоносным, и на это обстоятельство более всего полагался Ражный, и сейчас, обласкивая свою ниву, он, как дерево, тянул из неё силу и сок энергии. Но этого было слишком мало, чтобы восстановиться после охоты на матёрого; обычно вотчинники, возделывая борцовский круг, получали от него некий десерт, после того, как основательно насытились, добавляли последние штрихи упорства и воли: земля впитывала и хранила силу, оставленную здесь поединщиками…
Он же был голоден и страдал от волчьего аппетита…
Перед рассветом, не завершив своего земледельческого труда как бы хотелось, как учил отец, он установил столб солнечных часов и почувствовал, что может внезапно сломаться и заснуть прямо на ристалище, и тогда бы земля отняла даже то, что дала. Убрав инструмент, Ражный взял волчью шкуру и ушёл под дуб Сновидений. Если Колеватый раскрыл тайну деревьев Урочища, то непременно хоть пару часов, но поспал здесь и видел вещий сон, растолковав который можно узнать исход поединка. В это верил каждый засадник, а хозяин Урочища норовил хоть на часик вздремнуть под вещим древом…
Прежде чем лечь самому, вотчинник обследовал всю северную сторону подножия дуба, в основном наощупь, но явных следов поединщика не обнаружил, поскольку земля оказалась выкатанной кабанами, устроившими тут лёжку.
Может, во сне увидел себя победителем и потому презрел законы, протопал по ристалищу? Или вообще не искал этого места, будучи уверенным в своих силах?
Так и не разобравшись, он расстелил шкуру мездрой кверху, затем достал фляжку с волчьей кровью, разделся и стал натираться.
Когда его предки ходили на поединки по чужим вотчинным рощам, то вбивали в Поклонный дуб медвежьи клыки.
Ражный вёл свой род от охотников.
Наливая кровь в ладонь, он старался не обронить ни одной капли и так же бережно втирал её в плечи, руки, грудь, ноги, оставляя чистыми лицо, голову, пятна в области сердца, солнечного сплетения и зарубцевавшейся раны на боку, где отсутствовали ребра. Серая в предутренних сумерках жидкость впитывалась почти сразу, и вместе с ней входила в его тело тончайшая сакральная энергия, существующая только в крови и нигде больше. Она несла в себе огромную по объёму информацию, в том числе способную изменять генетический код. Человеческая и звериная кровь были несовместимы, и потому организм забирал из неё лишь то, чего недоставало – волчью ярость выносливость и отвагу, – но во время переливания от человека человеку происходили непредсказуемые, стихийные изменения, и потому, когда в полевом госпитале Ражн ому попытались влить консервированную кровь, неведомо у кого взятую, он встал с койки и ушёл в свою бригаду.
Натеревшись, он лёг на шкуру, прижал к ней позвоночник, нашёл место у бёдер, чтобы положить на мездру ладони, сделал глубокий вздох и мгновенно уснул.
Через три недели ему уже не хватало молока Гейши; волчонок сосал один за четверых, вскоре отлучив родных щенят от материнских сосцов, поскольку рос быстрее, чем её дети. Точнее сказать, отлучили вдвоём с человеком, с которым свела его судьба, поскольку догадливый и сообразительный, он приносил зверёныша в кочегарку ко времени, когда вымя наливалось молоком. Родные полуторамесячные щенки уже лакали коровье молоко, ели творог, отварное мясо и бульон, однако же тянулись к вымени, а оно всегда было пустым. И гончая уже привыкла к чужаку, приноровилась к устрашающему запаху и, чувствуя в зверёныше природную, ярко отличимую от своих щенят силу жизни и мощь рода, с удовольствием питала его своим молоком, словно отдавая дань далёкому прошлому, своему изначальному корню, дикой, но прекрасной стихии. Скрытая до поры до времени страсть и стремление омолодить, взбодрить собачью кровь помимо воли возбудили в ней материнскую любовь к зверёнышу; и это чувство потрясающим образом уживалось с чувством иным – извечным страхом и ненавистью.
Самоуверенный и спесивый человек наивно полагал, что нет ничего в мире основательнее и вернее, чем собачья преданность; он с гордостью принимал эти знаки, когда пёс лизал ему руки, исполнял команды и был готов повиноваться. И невдомёк ему было, какие природные силы таятся в приручённом ласковом существе. Впрочем, и сами собаки того не.ведали, и когда блуждающие токи, вызванные средой, достигали от рода заложенные, но спящие инстинкты, происходил взрыв, от которого сотрясались все приобретённые за тысячелетия жизни с человеком привычки и обычаи.
Гейша кормила волчонка, и чем он больше высасывал из неё жизненного сока в виде молока, тем с большей страстью она вылизывала его, подчиняясь зову смутного чувства. Человеку, наблюдавшему сие действо, казалось, что происходит это от материнского желания вычистить, обеззаразить детёныша, обласкать его, возможно, утешить боли в животе, случающиеся от щенячьей жадности.
Собака же интуитивно совершала ритуал, говоря человеческим языком, производила коррекцию своей генетической природы, вбирала в себя волчий энергетический потенциал, который всасывался в её существо через самый нежный орган – язык.
Сытого волчонка тянуло на игры и ласки, и это особенно нравилось человеку, которого зверёныш просто терпел, как человек терпит временное неудобство, но вынужден жить, поскольку ничего больше не остаётся делать. Он считал вожаком стаи. того, кто спас его, и ни время, ни обстоятельства не могли поколебать его приверженности. А этот кормящий человек по недоразумению считал, что он – хозяин, всесильный господин, перед которым трепещет и пресмыкается настоящий волк – виляет хвостом, лижет руки и от грозного окрика забивается в угол и трясётся, поджавши тот же самый хвост. Человеку было приятно повелевать зверем, и часто без всякой на то причины он проявлял власть, сердился, топал ногами или вообще пинал, таким образом заставляя уступать дорогу в тесной каморке. Когда же находился в добром расположении духа, то принимался натаскивать, как собаку, – приказывал исполнять команды и нарочито строжился. Зверёныш терпеливо все это сносил, ибо от природы имел представление о стае и иерархии, существующее В нем на уровне волчьего закона. Кроме вожака, были и другие волки, ниже рангом, однако имеющие власть над ним, пока он ребёнок. И они обладали правом давать пищу и лишать её, оставлять в стае либо изгонять, казнить и миловать. И потому ничего не было зазорного, противоречащего волчьему естеству в том, что он покорялся старшему и сильному, доставлял приятные минуты самоутверждения. Тем более, зверёныш был сбит с толку образом человека, исполнявшего роль не только кормильца, но и таинственного существа, излучающего страх, поскольку смириться и привыкнуть к его пугающему, ненавистному запаху он не мог ни при каких обстоятельствах.
Волчью душу раздирало противоречие, в общем-то, естественное для его возраста и разрешимое со временем, когда окрепнут мышцы и воля и когда он сойдётся с этим диктатором в поединке.
Через месяц волчонок вытянулся, догнал и почти вдвое обогнал собачьих щенков и стал тиранить их, загоняя в угол, чтобы одному и безраздельно владеть источником живительной силы. У Гейши тогда начал резко портиться характер. Портиться с точки зрения человека: в повадках все чаще обнаруживалось презрение или нелюбовь к людям, она с угрожающим ворчанием отгоняла от себя родных детей и крысилась, отнимая у них пищу, а в полнолуние неожиданно завыла, не давая спать всем обитателям охотничьей базы. И наконец, она восстала против зверёныша, однажды трепанув его жёстко и определённо, когда, принесённый в кочегарку, он сунулся к сосцам. Для него это было сигналом взросления, и волчонок прочитал его, но человеку такой поворот не понравился. Он пристегнул Гейшу на поводок, подтянул накоротко к трубе и снова подпустил зверёныша.
– Жри давай, стервец!
Волчонок тогда ещё не понимал человеческую речь, но точно определял по интонации, что от него хотят, однако язык собаки, вернее, её зубы, оказались красноречивее. Он тотчас же отпрянул от вскормившей его суки и, подойдя к её миске, стал нюхать пищу. Варёная крупа с мясными отходами ему не понравилась; он отфыркал запах и покосолапил к двери.
Человек тоже начинал кое-что понимать в поведении зверёныша и расстроился.








