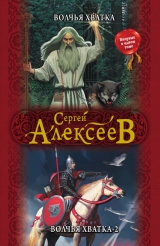
Текст книги "Волчья хватка. Волчья хватка‑2 (сборник)"
Автор книги: Сергей Алексеев
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Человеческий свет оказался огненным и свирепым: не имея клыков, он трепанул так, что волчонок свалился на бетон бездыханным. Лампочка с громким хлопком взорвалась у него в пасти, осколки изранили десна и язык, поскольку неведомая сила свела, сомкнула челюсти, и больше минуты он корчился на полу и вместо желанной темноты стояло перед глазами ярко-красное, в чёрных зигзагах, пятно. И когда вздыбленная шерсть перестала искриться, обвяла и улеглась, пасть сама собой разжалась, и он сделал первый, конвульсивный, как в момент рождения, вздох.
А отдышавшись, чувствуя боль во всем теле, он отполз к стене, с трудом встал на ноги и исторг стеклянные осколки из пасти вместе с накопившейся кровью. Его качало, подгибались лапы, и красная муть стояла везде, куда бы он ни смотрел, однако не собственная слабость заботила сейчас, и даже не поражение в схватке со светом; он чуял, что в его существе от удара коварного и жестокого противника произошло какое-то возгорание и теперь голову обжигала саднящая, сладковатая боль. Зверёныш мучался и одновременно жаждал её, ибо вдруг начал понимать, что она обязательно пройдёт, как прошла та, родовая, и после испытанных страданий откроется мир, недоступный другим его сородичам.
Стоя на широко расставленных лапах, он гнул голову к полу, тяжело и редко дышал и словно погружался в красно-чёрную пучину, висящую перед взором. Цвет боли не изменялся, но на его фоне начала проноситься диковинная череда чувств, никак не связанных с образом жизни зверя, ибо он воспринимал мир, как ^еду обитания, и не более того: земля с лесами, полями и водоёмами существовала лишь для того, чтобы на ней жить, охотиться и воспроизводить потомство. Ни один волк не вглядывался в суть иной жизни, и ощущал её, лишь когда нарушалась целостность мира – не хватало корма, начинался мощный лесной или степной пожар или появлялся другой сильный хищник, непримиримый и вечный враг – человек, и борьба с ним грозила катастрофой.
Сейчас же, сквозь изматывающую боль он испытывал гнетущее состояние от замкнутого пространства, хотя ещё недавно спокойно сидел в тесном бельевом ящике дивана; или внезапно тяготился тем, чего так жаждал – кромешной тьмой вокруг, и невыносимо хотел света, пусть не яркого, призрачного, как лунный…
Повинуясь такому желанию, волчонок доковылял до ямы, откуда тянуло свежим воздухом, и вслепую выбрался на улицу. Сразу же легче задышалось, боль отступила, потускнел красный туман, и проявились очертания предметов. Все было знакомо, привычно: огороженная сетчатым забором база, дома, дорожки, сосны и берёзы, но это уже воспринималось иначе: все обрело самостоятельную форму и существовало отдельно друг от друга, являя собой законченность и целостность. Знакомый мир, словно электрическая лампочка, взорвался, разбился на тысячи мелких частиц, невероятно усложнился, но в своём многообразии стал прекрасен. И при этом все волчье осталось с ним…
Потрясённый и придавленный этим миром, он выслушал все звуки – от шороха мышей до ночных птиц и человеческих голосов, и вместо того, чтобы удалиться от последних, как сделал бы это раньше, потрусил к реке.
Люди сидели и лежали возле костра и ничего далее, чем он освещал, не видели, поэтому он смело подошёл к границе света и лёг. Было совсем тихо, если не считать треска дров, далёких сигнальных воплей машины и заунывного крика дергача на другой стороне, так что негромкие голоса доносились отчётливо, и если раньше волчонок слышал в человеческой речи только яркие интонации, то сейчас начал различать отдельные слова и оттенки чувств.
Над сидящими у огня по-прежнему довлел страх. Все – мужчины и женщины, собравшись в плотную стаю, жались к костру, хотя многие страдали от жара, дыма и острого, болезненного неприятия друг друга. Так бывает, когда звери бегут от пожара, когда, забывшись от ужаса, сбиваются в одну лавину лисы и зайцы, волки и козы. Только в мире людей все было наоборот: они тянулись к огню, тщательно прятали искреннее и естественное чувство страха и подчёркивали взаимообразную неприязнь. Не окажись рядом очистительного пламени, в котором сгорали всякие излучаемые энергии, над этой стаей стоял бы бурый столб ненависти. Люди тут были каждый сам по себе, но все совершенно беззащитны перед непривычно глухим местом, тёмной, беззвёздной ночью, перед открытым, незнакомым пространством, чужой средой обитания, которая воспринималась ими сейчас так же, как воспринимают её травоядные, оказавшись на территории хищника.
Вслушиваясь в завораживающую речь, волчонок одновременно всматривался в каждого из стаи и начинал отличать одного человека от другого, видеть их цельность и понимать, что руки – это не отдельные существа, живущие самостоятельно. Наверное, он бы познал многое из жизни людей в ту ночь, однако это пристальное наблюдение за их поведением было внезапно прервано далёким одиночным выстрелом. И тотчас все вскочили, завертели головами, а там, откуда прилетел звучный хлопок, застучало часто и гулко, словно на волчьей облаве. В мгновение ока мужчины бросились к машинам, достали оружие и заспешили к воде, на катер; женщины не захотели оставаться у костра и скрылись в гостинице. Не прошло и минуты, как волчонок остался на берегу один, сделав ещё одно, парадоксальное с точки зрения зверя, открытие…
Как только началась стрельба, у людей пропал страх.
Всадник взлетел на холм, ничуть не замедлив аллюра, помчался прямо в дубраву и ещё миг – был бы выбит из седла низкими толстыми сучьями, однако невероятным образом спешился на полном скаку, точнее, оставил коня, как пилот подбитую машину, и мягко приземлился перед вотчинником и Ражным, идущим чуть позади.
Изумил не этот головоломный прыжок, а возраст Скифа: было ему далеко за сотню лет, значит, и имя он носил не то, что дали родители при рождении, другое – Ослаб. Если совершеннолетие наступало в сорок, то пора зрелости в сто двадцать, и лишь в этом случае начиналась иная жизнь, почему старые засадники уже не именовались араксами, а получали чин инока. Для того чтобы не вызывать повышенного интереса окружающих и скрыть возраст, с благословления старейшины меняли имена, местожительство и являлись миру в другой ипостаси. Все: дети, друзья, знакомые, привычки и привязанности, имя и родовая фамилия – оставалось в прошлой жизни. Если араксов часто называли по имени-отчеству, то иноков звали коротко и просто, как этого – Скиф…
Молодые араксы вольны были избирать на вече из своих рядов главу братства поединщиков, первого из первых – Пересвета, боярого мужа; иноки обладали привилегией назначать судного боярина, духовного старейшину – Ослаба, избираемого, как патриарха, пожизненно.
Они были давно знакомы с вотчинником, но ни тот, ни другой не выдали своих чувств, раскланялись по обряду, пожали руки, после чего инок свистнул, и его буланый, золотистый от заходящего солнца конь тотчас же вылетел из дубравы и затанцевал подле хозяина.
– Прими в дар, вотчинник! – Скиф снял с шеи лошади повод и подал Головану. – Прости, немного передержал. Третий год пошёл жеребчику. Да ведь ждал, когда Пересвет сподобится да сыщет мне соперника. Все отбояривался, даже смеялся, мол, нет тебе равных среди всего Засадного Полка.
Говоря это, он даже не глянул в сторону Ражного. В его движениях, затаённой или невзрачной улыбке, повышенной возбудимости и многословии скрывались признаки старчества. И румянец на щеках тоже был не от здоровой молодой энергии. Инок хорохорился, пытался произвести впечатление на противника, и прыжок с лошади был исполнен только с этой целью.
Хозяин Урочища слушал, а сам не мог оторвать взгляда от танцующей перед ним лошади.
– Сколько мы не виделись, отец Николай? А поди, лет пять! Да… Кажется, в Белореченском Урочище встречались?
Упоминание об этом несколько сбило радость Голована. Он разнуздал коня, ослабил седельные подпруги.
– Пусть покормится… Травка ещё зелёная.
– Давненько не бывал в твоей вотчине, – балагурил Скиф. – Пожалуй, лет пятьдесят, а? Ты не помнишь точно? Когда я на твоей клумбе Весну уложил? До войны или после?.. Постой-ка, да в тридцать девятом! Я же в тот год женился во второй раз, да… А вот уж недавно одиннадцатую жену взял.
Несмотря на проступающее старчество, инок был здоров и, при невысоком росте, имел квадратную, чисто борцовскую фигуру на мощных, столбообразных, но невероятно подвижных ногах. Однако при этом Ражный почувствовал, что сила Скифа кроется в чем-то ином, неуловимом, ускользающем пока от сознания.
– Ты так и живёшь вдовцом? – продолжал он, тоже подтанцовывая от какого-то внутреннего нетерпения. – Да, я помню твою матушку, зашивала мне ухо. Весна же тогда мне чуть только ухо не оторвал!.. Прекрасная была женщина! Но ведь давно умерла, взял бы и женился?
– Нельзя мне во второй…
– Это почему ещё?
– Я священник, Скиф. Даже пословица есть-последняя у попа жена…
– Ах, ты!.. Из головы вылетело! Мне все кажется, холостые люди – несчастливые. Вот придёт зима, заметёт тебя тут с головой – до весны не выйдешь из логова. Тоскливо станет, поговорить не с кем. А с женой, скажу я тебе, особенно с молоденькой, так и хочется, чтоб все дороги перемело, реки разлились, мосты сгорели…
– Я одиночества не боюсь, – смиренно и стойко ответил вотчинник. – А говорю с Богом…
– Постой, постой! – внезапно спохватился инок, на сей раз уже откровенно играя склеротика. – Зачем я сюда приехал? Ты не помнишь ли. Голован?
Тот лишь ухмыльнулся в бороду, коротко глянув на Ражного, дескать, полюбуйся, каков хитрец! Не слушай, что он тут мелет, все пустое, все, чтоб молодую доверчивую душу заболтать, а тело потом положить на лопатки…
Наконец, Скиф «заметил» своего соперника, раскинул руки, будто обнять хотел.
– Здравствуй, Ражный! Здравствуй, аракс!.. Как ты на отца похож! Нет, вернее будет, на деда! – однако же по правилам только руку пожал, по-старчески слабо и долго. – И хорошо долго жить, и плохо. С Ерофеем бывал на ристалище, более суток возились, кое-как одолел. Теперь вот с его внуком судьба сводит… Да по правде сказать, и не судьба! Поединок с тобой мне ведь не по Поруке достался – Пересвет назначил. Полтора года дома сидел, в Урочищах не бывал, так Ослабу жаловаться пришлось. Так-то… А Поручный твой соперник вон под камнем лежит. Да… Может, сразу и начнём, благословясь? Что нам время-то терять? С вечерней зари и до утренней?
Отказываться от предложения соперника-инока было неловко, но в тот миг Ражный вспомнил слова отца, сказанные однажды походя и невесть по какому случаю: «Никогда не допускай двух вещей: не спи и не начинай никакого нового дела на закате. Наше время – восход».
– Я бы не прочь, Скиф. – отозвался Ражный будто бы нехотя. – Да ты на дарёном коне как ветер примчался, а я свой дар вотчиннику едва живой привёз. Боюсь, сейчас к ветеринару везти придётся.
– Начинайте, как принято, на утренней заре, – поддержал его вотчинник. – Успеете ещё намять бока друг другу…
Инок недоуменно взглянул на Голована – его советы не входили в расчёты старого поединщика, избравшего тактику мгновенного ошеломляющего натиска и жёсткого диктата. Он думал, что молодой араке сейчас хватит шапкой об землю и скажет – а давай! Тогда и вотчинник не удержит…
Но спросил совершенно о другом:
– Что это за дар такой, если на ладан дышит?
– Аракс мне волка подарил, – признался хозяин дубравы. – Но по пути сюда его подстрелили. В хлеву лежит…
– Волка? – инок глянул на своего противника с интересом и сразу переменился, вместо старчества выказывая жёсткость. – Редкостный дар… Я сам вотчинник, много всяких приношений видывал, но чтоб живого волка – даже не слыхал… А можно посмотреть, отец Николай?
Наверняка за свою жизнь он перевидал диких зверей, и его ребячье любопытство сейчас было по другой причине – хотел по дару, как по плодам, судить о древе…
– Почему бы и не посмотреть? – обрадовался Голован. – Ради Бога! Я даров не таю, у меня тут все открыто!
Молчуну действительно было худо, лежал пластом, не касаясь раны, дышал, как загнанный. При появлении Ражного чуть приподнял голову и заскулил едва слышно – никого больше не замечал.
– К тебе льнёт, – заметил инок. – Ещё не понял, что хозяин теперь другой…
– У волков нет хозяев, – Ражный пощупал нос зверя – на удивление холодный. – Они живут с человеком только при условии, если принимают его как вожака стаи.
Скиф прикинулся старчески рассеянным, покряхтел в ответ на информацию и сказал определённо:
– Да… Плохи дела. Придётся тебе, араке, ночку рядом с ним посидеть, пока кризис. Видишь, как тянется к тебе… Живая душа! Как ты считаешь, отец Николай, у зверей есть душа? Или нет?
– Господь вложит, так и в дереве душа будет, – уклонился от прямого ответа Голован, – А не вложит, так и в человеке её не будет… Ты иди отдыхать, Ражный, теперь ведь я вожак стаи…
С сумерками инок окатился ведром холодной воды, растёрся осокой и, обрядившись в штопаное холщовое рубище, расположился на голом полу в доме хозяина, подложив под голову скрученный в рулон широкий пояс поединщика. А Ражный взял у Голована кусок войлока, ушёл под дуб Сновидений и лёг там, укрывшись сухими листьями.
На заре он проснулся сам – накрапывал мелкий осенний дождик, небо затянуло, и лишь на востоке слабо пробивался дымчатый свет. Вид с холма открывался на несколько километров, и он знал, что огромное, сумеречное пространство сейчас пустынно, что нет на этих просторах ни одной живой души, однако то ли почудилось наяву, то ли это было продолжением сна или игрой воображения, но вместо лесов по обе стороны огромного поля он отчётливо увидел две стоящих друг против друга пеших рати: матово отсвечивали доспехи, поблёскивали навершия копий, и тяжело развевались на сыром ветру намокшие, огрузшие стяги.
Видение было настолько реальным, что он мог разглядывать детали одежд и вооружения близко стоящих воинов: у одного поверх кольчуги кожаное оплечье с бляшками, у другого – стальные наручи, у третьего за поясом шестопёр…
Пора было самому переодеваться в бойцовские одежды и выходить к ристалищу, а он стоял на опушке дубравы и смотрел на изготовившееся к битве воинство, пока серый рассвет не приподнял мглистое, дождевое небо и не осветил землю, обратив рати в леса с пиками елей и стягами ветвей плакучих берёз.
И все-таки к ристалищу он пришёл первым, и первым же коснулся его ладонями, стараясь не давить цветы. Нежный, чувствительный к погоде портулак не распускался и вряд ли теперь распустится: дождь усилился, и рубаха уже липла к плечам. Это считалось хорошей приметой – начинать схватку на влажной, окроплённой земле…
Она и завязалась в тот же миг, причём внезапно и сразу яростно. Скиф, будто свирепый секач, вылетел из дубравы и, не давая время на проверку и испытание соперника, навязал стремительный, боксёрский темп. Вероятно, старец долго разогревал себя перед этим и, набрав нужную температуру, как в паровозном котле, снялся с тормозов и вылетел на круг.
Надолго ли пару хватит?..
Боевая стойка у инока была странная, танцующая и открытая; он выкатывал грудь вперёд, при этом держа руки по сторонам и чуть назад, словно подставлялся, мол, на, бей, и одновременно с этим наступал, приплясывая широко расставленными ногами. Он то вызывал таким образом нападение, и Ражный проводил серию ударов, то наносил их сам, причём не сильные, молотящие – так, словно работал с оглядкой на судью, дескать, считай!
Боксёрский зачин не понравился Ражному, и он начал предлагать настоящий, кулачный, стал водить соперника по кругу, резко меняя направление. Скиф откликнулся своеобразно – заплясал, как медведь, закачался и, точно рассчитав момент, вдруг оказался с правого бока и нанёс короткий, сильный удар.
Ражный посчитал это за случайность: не мог он знать уязвимого места! Даже если встречался с Колеватьш, который видел провал напротив печени – ни один араке никогда не выдаст тайн своего бывшего соперника.
Спас от стариковского кулака неожиданный волчок – полный оборот через левое плечо и ответный удар наугад, пришедшийся вскользь по горлу. Инок не увернулся, отскочил и резко, гулко выдохнул, словно выплюнул из гортани боль, и тут же опять разразился дробью пустых, лишь щекочущих ударов. Рукавицы у него были старые, сшитые из кабаньего панциря, но обмятые в доброй сотне поединков и не наносили вреда, не драли кожу и не пускали хоть и малую, но кровь, которая действует психологически. Ражный уже стал думать, что Скиф, наверное, много лет занимался боксом и заразился его кроличьей торопливостью и бестолковщиной, но тут внезапно разгадал замысел этой казалось бы бесполезной молотьбы.
Он не давал войти в состояние «полёта нетопыря»! В Урочище, где Ражный весьма легко отрывался чувствами от земли и парил, с начала поединка он ни разу не мог глянуть на Скифа иным взором. Вчера он отвлекал бесконечной болтовнёй, сегодня – мельтешением кулаков перед носом. Вот об этой родовой, наследственной тайне Ражных он прекрасно знал, ибо когда-то боролся с дедом Ерофеем! И сейчас помнил об одном – не дать внуку воспользоваться шестым чувством и увидеть истинное состояние инока.
Он был опытный поединщик, но кулачник несильный – укладывал противника в третьей стадии, в сече, и хоть не принято верить каликам, но на сей раз не соврал сирый, когда рассказывал, как Скиф пахал Голованом ристалище в Белореченском Урочище. Да и сам отец Николай вчера это подтвердил и намекнул Ражному, чего следует опасаться, хотя как вотчинник не имел на то права. А значит, надо все время ломать его тактику, расстраивать замыслы, чтобы в зачине измотать максимально, выстоять в братании. Ну а в сече держись, инок! Если не знавал волчьей хватки – узнаешь!
Эх, если бы на несколько секунд взлететь и глянуть на него взором летучей мыши…
А инок, между тем плясал все азартнее и казалось, вот-вот вприсядку пустится. Защищаясь от его многочисленных мелких тычков, Ражный ещё раз сделал левый волчок, однако кулак, словно камень из пращи, просвистел над головой противника, но сразу же последовал очень опасный правый.
Скиф его не ожидал – не ушёл и, сам завертевшись от удара в висок, забурился лицом в клумбу. Однако, будто гимнаст, сделал воздушный кувырок и вновь был на ногах. Только желтоватые от седины волосы, охваченные кожаным главотяжцем, стали зелёными от цветочного ковра.
Противоядие он вырабатывал мгновенно, и теперь вертушки не годились. Отец всегда повторял, что в поединках с иноками нельзя более чем дважды повторять один и тот же приём, и то с разбежкой во времени. И бит будешь непременно, если не хватит багажа знаний, арсенала и хитрости.
Зелень на голове – пятно от ристалища, вдохновило Ражного. И хоть соперник в общей сложности лет двадцать провисел на Правиле и обладал способностью преодолевать земное тяготение, однако же коснулся её и покрасил соком свои седины. Машинально прикрывая правый бок, он поводил Скифа по кругу, будто цыган пляшущего медведя, резко покачался перед ним на расстоянии прямого удара, последил за глазами и только сейчас обнаружил, что противник находится в неком особом состоянии, которое вызывалось танцем.
Он включился в определённый ритм обязательных движений, выученных до последнего штриха, и нет ни одного случайного выпада или удара. Скорее всего, существовал какой-то рисунок этого танца, известный только ему, и пока он оставался тайной, нельзя было ни свалить его, ни нанести ощутимого, шокирующего удара. Все эти качания, подёргивания руками и ногами, притопывания и приседания чем-то отдалённо напоминали казачий спас, но лишь внешне, ибо движения повторялись в непредсказуемой последовательности. И плясал он самозабвенно, будто бы даже не заботясь о течении кулачного боя, всецело положившись только на технику, которая автоматически вывезет его из любого положения. Он пропустил удар в висок, однако при этом сработал защитный механизм – элемент танца, не позволивший ему упасть. А ведь казалось, сейчас обвалится мешком и хоть на мгновение, да ляжет на землю.
Он же лишь волосы вымарал…
В подтверждение своего открытия Ражный трижды попытался пробить его эту странную «открытую» защиту, и всякий раз кулак инока в кабаньей рукавице оказывался в нужном месте, или – лёгкий доворот тела, и удар улетал мимо.
Но поразительно! Отчего же дед Ерофей, сходившийся со Скифом на ристалище, ничего не сказал своему сыну о пляске? А тот в свою очередь ему, Вячеславу?!
Наверное, опыты соперника веселили старика, почудилось, он плясал и улыбался, как актёр на сцене. Выходило, не он его, а инок выматывает Ражного, вводит в замешательство, заставляя искать способы и приёмы противостоять столь редкому способу кулачного боя и не давая воспользоваться главным оружием – воспарить нетопырём и почувствовать энергетическую структуру противника.
Между тем, Скиф в очередной раз чуть изменил ритм, старчески попихал кулаками, словно притомившийся боксёр, и внезапно ещё раз пробил в правый бок. Тяжёлый, каменный кулак угодил в локтевой сгиб, так что удар был косвенным, опосредованным, но и этого хватило, чтобы печень словно ножом прокололо.
Он знал уязвимое место…
Боль наконец-то взорвала состояние пытливого, статичного замешательства. Вначале он ощутил прилив ярости, однако благоразумно ушёл в защиту и непроизвольно сам запрыгал по-боксерски. И на какое-то мгновение, совершенно случайно попал в ритм танца инока. Попытался считать, узнать, определить, что это за балет – ничего подобного! Вроде бы знакомо, нечто среднее между гопаком, русской пляской, однако тут и испанские мотивы, и восток, и Африка, и даже Кавказ!
Тем часом Скиф что-то почуял и пошёл в атаку. Дождь смыл зеленое пятно с волос, мокрая рубаха облепила его мощный торс, и сам он будто помолодел лет на полёта. Серии пустых молниеносных ударов изменились по темпу, и среди каждой теперь обязательно был один сильнейший, как бы отбивающий такт неизвестной музыки.
– Та-та, та-та, та-та, та! Та, та, та-та, та!
И по этим ударам, то и дело пропуская их, как по камертону, Ражный наконец попал в ритм и сам заплясал, практически точно копируя пляску инока. А тот ещё не узрел этого, увлечённый охотой за правым боком, и спохватился, когда сам получил ещё раз по горлу и следом справа – по челюсти.
Остальные части тела у Скифа попросту не пробивались и можно было стучать кулаками, как по бесчувственной груше. Он отпрянул, не прекращая танца, передёрнулся от внутренней судороги и снова выдохнул, выплюнул боль из себя. И будто лишь сейчас увидел пляшущего соперника, резко поменял ритм, стал злее, короче в движениях, однако Ражный, уже интуитивно угадывая рисунок танца, как песню подхватил, но пошёл дальше, добавил силы и азарта. Защита инока вдруг рассеялась как дым, осыпалась пылью на мятые цветы ристалища. Он был опасен ещё, ибо по-прежнему так и висел у правого бока, но теперь один за одним пропускал удары и все чаще хукал, исторгая боль.
Через полчаса такого боя, наконец-то боя на равных, инок должен был бы вымотаться, поскольку Ражный не давал ему опомниться и теперь полностью владел инициативой. Он ждал, когда старец сдёрнет рукавицы и бросит их под ноги противнику, тем самым признавая себя побеждённым в кулачном зачине (но не в поединке!), дабы сохранить силы для братания и сечи.
Время шло, удары Ражного становились точнее, и каждый почти был вальным, но Скиф стоял на ногах и более кульбитов не делал! Устоял даже после того как Ражный вплёл в «чужой» танец своё коленце – ещё раз повторил левого волчка и угодил иноку чуть ниже уха.
Вообще-то от такого попадания свалился бы всякий. Волчок был его собственным защитным изобретением, чтобы вывести уязвимое место из-под удара. И лишь впоследствии Ражный раскусил, что мгновенный сверхскоростной оборот с последующим, правда, слепым ударом (глаз не успевает отслеживать движение) может стать оружием нападения, ибо центробежная сила при этом вливается в кулак и удар получается хлёсткий, как щелчок пастушьего бича. И противник практически не видит этого вращения и не ведает, откуда сейчас прилетит.
Инок же устоял!
Он был насыщен какой-то особой, неиссякаемой энергией. Такую не получишь от самой изощрённой пищи. Она не даётся за счёт «чародейства» с землёй, деревьями, водой, огнём и звёздами, ибо получаемая от всего этого энергия – тонкая и относится к области чувственных, духовных. Её даже не обрести на Правиле: там достигается состояние, способное длиться считанные секунды, очень сходное по природе с оргазмом, и воспользоваться этим приёмом можно лишь в самой критической ситуации, о чем знают все засадники.
Состояние Правила или, как это называют индийские араксы, состояние Париништы, незаменимо, когда нужно дожать, додавить соперника, когда до победы остаётся так мало, а силы на исходе, особенно если схватка длится вторые или третьи сутки.
И это была ещё одна загадка Скифа – источник его силы и выдержки. Маленькие, пугливые люди назвали бы её сатанинской, но увы, в человеке все только от Бога и от самого человека, и если поискать, присмотреться, заглянуть вглубь, непременно найдётся природа такой силы и будет она обязательно божественной, коль скоро создан человек по образу и подобию. Иное дело, высвободить её, научиться пользоваться дано не каждому, поскольку эта сила и есть талант.
В ненастье солнечные часы не работали, и портулак, побитый, изжёванный ногами, так и не распустился в тот день, хотя дождь порой прекращался и холодный север приятно обдувал спины. У каждого аракса, тем более у иноков, были свои внутренние часы, отбивающие время с точностью до минуты, и оба они знали, что период кулачного зачина кончился, однако никто не решался сказать об этом. Ражный, словно каменотёс, стремился как можно больше отсечь от этой глыбы, чтоб потом, в братании, было полегче, и орудовал кулаками уже со вкусом, нанося выверенные, точечные удары. Случись такой бой на ринге, судья бы давно остановил поединок ввиду явного преимущества.
Скиф же молчал по той причине, что не хотел сдаваться, ибо сними он первым рукавицы, противник может посчитать себя победителем в зачине. По-прежнему танцуя по ристалищу, он то и дело менял ритмы, отчаянно защищался и показывал Ражному потрясающее умение держать удар и бросаться в атаки, на ходу выплёвывая боль. Поэтому, несмотря на преимущество, все-таки продолжался бой, а не избиение старика.
Между тем в очередной перерыв дождя вдруг сильно потемнело, и внезапно на дубраву обрушился снежный заряд. В мгновение ока цветной ковёр стал белым, и Ражный стал белым, словно вдруг выседел; только инок никак не изменился…
Снег унялся так же, как и начался, будто занавес подняли. И на несколько минут проглянувшее солнце наконец-то уронило тень от часового столба на ристалище.
Кулачный зачин съел чуть ли не половину времени братания!
Ражный сдёрнул рукавицы, поправил пояс, раздергал рубаху и уже был готов к следующему этапу, но увидел, точнее, почувствовал, что Скиф жаждет хотя бы минутной передышки. Он не спеша стянул размокшую сыромятину с рук, зачерпнул снега, умыл лицо, вроде бы благодушно воззрился на солнце, да сказал язвительно, будто боль отхаркивал:
– Неплохо пляшешь… А польку-бабочку умеешь?.. Ничего, добрый ученик, на ходу подмётки режешь… Только широко не шагай, штаны порвёшь.
Метнул снежок в Ражного, пригнулся, выставив руку стальным крюком, и пошёл брататься…
Внимание Ражного в тот миг отвлекло какое-то движение, выхваченное краем глаза в белой дубраве.
Он встал в стойку и все-таки на миг отвёл взгляд от соперника.
Из-за ближнего к ристалищу дуба с изуродованной кроной, сторожко вскинув уши, смотрел Молчун…
Спешившиеся братья Трапезниковы подошли, вежливо, с достоинством поздоровались, и Ражный по глазам их понял – хотят сказать что-то важное, но чужак мешает: Поджаров так и стриг глазами, ожидая подвоха. Пришлось отвести Максов подальше в сторону…
С тех пор, как навёл на них страху в Урочище, больше не видел. Сами ездить перестали, а наведаться в Зелёный Берег с пустыми руками неловко…
– Мы человека ищем, – сообщил старший. – Сегодня утром все на покосе были, Фелиция домовничала. Пришёл, забрал ружьё, еду и кое-какую одежду, Сестру сильно напугал.
– Два дня вокруг Красного Берега бродил, высматривал, – добавил младший. – Два дня по ночам собаки лаяли, мы думали, зверь ходит…
– Фелиция прибежала вся зарёванная… Настращал ещё девчонку!
– Мол, если скажешь своим – приду, возьму заложницей, и вы все на меня работать будете. Или опозорю – никто замуж не возьмёт.
Шестнадцатилетняя Фелиция в этом мужественном и несгибаемом семействе была самой странной, однако же и естественной; в ней ещё в раннем детстве проснулся необычный и необъяснимый талант. И если картины отца ещё можно было назвать самодеятельностью и при этом все-таки живописью, то творчеству двенадцатилетней девочки вообще не было названия.
Сначала она рисовала угольком на берёзах, потом цветными карандашами, а в последнее время – художественными мелками (отец из города привёз), но по-прежнему не на бумаге или картоне – только на белых от корня берёзах, которых вокруг Красного Берега были целые рощи. И только орнаменты.
Впервые увидев расписные деревья, Ражный ощутил знобящий холодок и сильное волнение, будто прикасался к чему-то неведомому и запредельному. Рисунки по бересте были настолько естественны и органичны, что чудилось, выросли вместе с деревом, проявились из его толщи, как внутренняя суть. Вначале ему и в голову не пришло отнести это к творению рук человеческих, и потому он содрал их с берёз, принёс бересту на базу и заключил в рамки. И только здесь, в новом, «оформленном» состоянии узрел природу росписи, отчего зазнобило ещё больше: растительные и животные орнаменты были потрясающей сложности, гармонии и красоты. Решётка Летнего сада – детские каракули по сравнению с этой удивительной вязью, но самое главное, Ражному показалось, что он «читает» эти орнаменты, и оттого буря стихийных, неосознанных чувств охватывает морозом по коже.
И долго бы не знал, кто их пишет, если бы однажды на базу не заехал старший Трапезников. Увидел художества в рамках, вскинул на президента клуба недовольный взгляд.
– Это ты зря сделал. Больше не сдирай берест. Но орнаменты смывал дождь, чем бы ни были нарисованы – углём, мелком и даже карандашами!
Тогда Ражный впервые и услышал о Фелиции, а спустя некоторое время увидел её – серенькую, невзрачную девочку-подростка, полную копию своей матери – тихой и вечно смущённой женщины.
– Она не испугалась и все рассказала, – продолжал старший Макс. – Мы сразу же поехали искать этого человека. Но видно, давно в лесу живёт, следы прячет…








