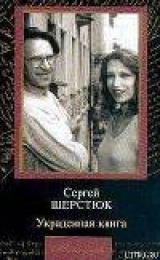
Текст книги "Украденная книга"
Автор книги: Сергей Шерстюк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
А теперь не помню, у кого волосы, и никто не звонит. Спрашивал у
Казариновой, та ничего не знает. Шима? Яся? Догилева? Говорил только что с Аней Гуляренко, она тоже не знает и даже не помнит такого разговора.
Где ж твои волосы, Леночка?
13 ноября, 12.16 ночи
Это уже смешно: я брожу по нашей комнате и с ужасом обнаруживаю исчезновение твоих вещей – даже твои туфли куда-то пропали, ни одного флакончика с твоими духами. Я тебе подарил, тебе, а кто-то сейчас, забыв, может быть, чье это, пользуется как обычной вещью.
Да за твою жизнь мне ничего не надо – Господи, все заберите. Но сейчас, сейчас все твое принадлежит только мне. Мне что, сойти с ума, и забить трельяж новыми духами? Впрочем, почему сойти с ума? Нормально. Плохая память на названия? Повыспрошу у твоих подруг. Открою выставку и сяду за архивы, все перепишу и никому больше ничего не дам.
Леночка, вот я на кухне, без двадцати три ночи. Я часто пишу здесь чепуху. Мы ведь с тобой ссорились, я тебя обижал, не понимая, что этого нельзя было делать вовсе. Нельзя.
Заслуженно, незаслуженно. Ты была живая рана, девочка без кожи, чище тебя я не знаю. Ты была взрывная, вспыльчивая, я такой же.
Как мы были похожи, но как же следовало мне тебя заласкать! Ты любила мои ласки, я любил тебя ласкать, но надо было тебя заласкать до заласканности ребенка, пропавшего и вдруг найденного. Не хочу никаких вдруг точных слов. Этот домашний дневник очень трудно дается. Мама спит, я брожу по комнате, в которую Дуська перетащила котят. Те забиваются в какие-то дыры и дрыхнут. Боюсь наступить или что-то передвинуть. Слава Богу, нашлись слайды, которые мы сделали специально перед моей поездкой в Чикаго. Положил их в трельяж, к которому запретил кому-либо прикасаться.
16 ноября, 2.20 ночи
Ничего записать не могу. С утра мы будем вешать твои фотографии в “ Табакерке ”, а потом мне надо быть в Доме кино на
Олимпийском, сегодня Володе Ильину 50 лет. Юбилей. Подарю ему картину “Завтрак ”. Ну тот, ты сама знаешь какой.
23 ноября
Вот и три месяца. Двух кошек Дуськиных отвезли с Владиком
Шиманцом на Птичий рынок, отдали Зое Петровне; там же на месте и познакомились. А сейчас вот позвонил Сергей Шеховцов, просил кота, а мне его пока жалко отдавать. Он совершенно почему-то коричневый и трус, живет под диваном. Сказал, чтоб пару дней подождал.
Сделал тебе подарок, купил на птичке “Ornitoptera priamus” из
Новой Гвинеи, очень красивую зелено-черную бабочку с желтым туловищем, или как там это называется.
Я очень тебя люблю.
Свеча у портрета твоего трещит, а вот лампадка наша почему-то быстро гаснет. По-моему, фитиль не тот.
29 ноября, 3.05 ночи
Леночка, я так ничего и не понял, что произошло с моей жизнью.
Про твою я понял: со мной она закончилась. Со мной, который на этой земле.
1 декабря
Два мира – две Лены Майоровой. Одна – в мастерской, другая – дома. Сейчас я дома. А три мира – три Леночки. Лена, Леночка,
Ленка, Майорова, Майориха. Иногда, когда ты делала уборку, я называл тебя Мойдодырова, да нет, чаще это было ласкательно.
Дома – тревожней. В мастерской я знаю, что в конце концов – судьба. А здесь, – ну вот, к примеру: приехал с Сахалина Вася, сказал, что твой папа уже ходит, ему сказали, что ты уехала на длительные гастроли за границу.
Ты ведь едва отдохнула на даче, но отдохнула, посмотри на свои фотографии, и пожертвовала августом на даче, поскольку Таня
Догилева “ продала ” тебя Трушкину на какую-то “ репризу ”, которую непременно надо репетировать в августе. Начинаются репетиции, всем всё нравится, но… по телефончику из МХАТа диктуют телеграмму о том, что папу с мая разбил паралич, и вообще хана, ты не можешь дозвониться ни до кого на Сахалине – стресс, депрессия, улет, ты катаешься по полу, выпиваешь;
Шиманская и Догилева плюс эта гостья из Минска ничего не могут поделать, не ходишь на репетиции, а когда приходишь, Трушкин воспитывает, как бы временно отстраняет от репетиций, ты обманываешь меня, когда я звоню по телефону с дачи, что всё хорошо; наконец-то я приезжаю (тоже мудак, долго тебя не мог раскусить), в доме чистота, ты в полном порядке, но подавлена, я говорю: звони соседке, ты звонишь, она что-то ужасное рассказывает; я: пусть маму позовет; она зовет мать, которая говорит, что отца через два дня выписывают. Всё. Ты улыбаешься, говоришь; вот приехал муж, и все встало на свои места. И рассказываешь, что с тобой творилось, но всё-всё позади. Эта ваша соседка, говорю я, “ Санты-Барбары ” насмотрелась и, зная, что ты нервная, представила: вот отправлю телеграмму,
Майорова-актриса сюда приедет и устроит “Санту-Барбару ” в натуре. Ты смеешься, я смеюсь (мудак) и верю, что всё-всё позади. И вот что я себе говорю три месяца (это я себе дома говорю, не в мастерской): в августе тебе не надо было быть в
Москве. На даче ты была спокойна и часто-часто счастлива. О, счастье: грибы и велосипед, ужин за твоим красным столом, наши потрепанные, старые карты для непременного “ козла ” (с кем я еще буду играть в “ козла ” так?). А как нас в грозу чуть не убила молния, с каким визгом мы мчались на велосипедах в непроглядной воде, переодевались, сушились, валялись на нашей кровати, читали, обнимались, выползали в мокрый сад, уходили в резиновых сапогах в лес – грибы, грибы. Я могу вспомнить и дурное: как Дуся поймала птичку и садистски мучила, пока ты не вырвала ее, еще живую, и мы не знали, что с ней делать, как лечить, и я, взяв ее в ладошку, под дождем отнес в лес и долго-долго (и тревожно-тревожно) искал дупло или пень, чтобы дождь не мочил и кто-то не сожрал, и нашел-таки пень, и посадил ее в щель, и пошел домой, и нашел вдруг совсем подходящий, как домик, пень, и полчаса, не меньше, искал предыдущий пень, и нашел его, и взял птичку в ладошку (а вот не помню породу, щегол, что ли?), а потом искал домик-пень, нашел, завалил вход листвой, потом нашел в куртке семечки, положил их рядом, и опять завалил вход листвой, и пошел домой. Дома ты сказала: “Ты знаешь, она все равно умрет. В ранке заведутся черви, я еще в детстве видела, как они заводятся в ранках у птиц, потом они умирают ”. “Ну а вдруг выживет? ” – сказал я. “Нет, Сережа, не обманывай себя. Лучше б ее Дуська сожрала ”. – “Так она б ее завтра сожрала ”.
Не знаю, что случилось с птичкой, но Лена вот умерла. Очень вскоре. Надо бы поточнее вспомнить, спросить, что ли, у мамы.
Через несколько дней или недель? Дождя не было, когда Лена приехала на дачу 16 августа, и не было позже, стало быть, птичка была раньше, за несколько недель. О, Господи, подумал бы я своей головой. У Жолобова перед смертью мамы тоже на дачу залетела какая-то птица. А тут Дуся принесла.
Всё, остановись, Шерстюк.
2 декабря, 5.01 утра
Бессонница. Главное, что уже ничего с собой не поделаешь.
5 декабря
Ну вот, родная моя, сегодня открывается Арт-Манеж. Ровно год назад ты была на открытии, у меня была выставка фотографий “Я это всё ел ”. Была недолго, потому что спешила или на репетицию, или на спектакль, жаль, что сейчас не помню. Я помню, что была какая-то неловкость, по-моему, из-за того, что с тобой была гостья из Минска, ох, как мне не нравились ее глаза. Но мы как-то справились, и всё прошло хорошо.
8 декабря, 1.10 ночи
Родная моя, поздравляю, мы знакомы двенадцать лет и шесть месяцев. В пять часов откроется моя выставка “Ты и я ”. Наша. Я очень болею. Господи, помоги мне прийти хотя бы на открытие. Я очень тебя люблю. Ты жива, Леночка, это я умер.
10 декабря
Совсем ослаб, все плывет, соображаю по полфразы. Описать свое бессознательное состояние на открытии, а также происходящее вокруг – не в состоянии. Скажу больше; для того чтобы описать, необходимо порасспросить. Я не знаю, не потому, что не помню, а потому, что меня как бы и не было. Кто-то недавно позвонил и сказал, что меня скоро поведут делать кардиограмму. Поразительно то, что, когда я разговариваю с кем-нибудь, мне самому кажется, что я очень разумен. И в разумности собеседника я тоже уверен вполне. Может быть, это и есть паранойя, или там шизофрения, или как там еще? Оказывается, ты сам и окружающий мир – ну всё вместе: человечество, общественность, социум, люди – всё это может существовать автоматически. Только у двоих может быть не автоматическое сосуществование. Когда не молишься, Господь так далеко, кажется, что Его и нет вовсе. Любовь – та же молитва. И вот здесь я ничего не понимаю: я ведь тебя люблю, Леночка, и так… но так… что сердце улетает или в прошлое, или на небо, а здесь оно как бы и не нужно, но почему ж оно так болит?
От тех, кто тебя как бы любил, мало кто остается. Александр
Сергеевич Орлов на выставке мне сказал: “Боже, как мы осиротели!
– И испугался того, что сказал. – Нет, Сергей, я не то сказал, я ничего вразумительного сказать не могу ”. Боже, как трудно быть настоящим: я смотрю сейчас на людей и вижу, как те, кто вроде положил жизнь за настоящее, прости меня, родная, ну просто дерьмо, положившие жизнь за дерьмо.
Ты – театральная актриса, мхатовская, а из всего театрального мира помнят тебя и любят Табаков и Фокин, ну еще Женя Миронов, ну еще кто-то, испуганный и спрятавшийся,– не то киношники, ну стало быть, они и есть, кто лучше и кто не как бы. И при этом, чуть кто на МХАТ вдруг при мне покатит, наедет, презрительно усмехнется, особенно если сам мхатовец, то я – МХАТа главный защитник. Смешно даже. У меня ведь если кисть на пол упадет или тюбик, я прошу у них прощения, а во МХАТе, ты ведь сама знаешь, кому подножку ставят, – споткнувшемуся, потому и на сцене такое нечеловеческое, как будто только вчера Ницше прочитали.
Ладно. Может быть, я такую дрянь о МХАТе пишу, что – я сейчас, кстати, смеюсь – на открытии моем из всего МХАТа один только
Давыдов был. А ведь я весь театр пригласил. Заняты? Тяжело?
Больно? Я – не ты? Людей было – не протолкнуться, да всё лучшие, а из МХАТа – Давыдов. А ведь такие штучки – не простые. Точные.
Киношники, кто действительно не смог, весь день вчера звонили, просили прощения, из МХАТа – ноль. Какая-то душевная небрежность и именно по системе Станиславского. Вспоминаю кадры с самим
Константином Сергеевичем, особенно как он репетировал с какой-то актрисою (забыл, какой) и учил вранью (38-й год) – и никакой трагедии: просто врун учит вранью бедную женщину. Ладно, сейчас меня повезут делать кардиограмму в космическую больницу.
10 декабря
Да, вспомнил, Орлов сказал, что ты сейчас с Лесковым.
1998 год
2 января
Ну вот, Леночка, я и дома. 17 декабря меня, тихо подыхающего, отвезли в больницу, 30-го выписали. А дневник, чтобы записать “ ну вот, Леночка, я и дома ” нашел только что, да и то предполагаю, что случайно. Мог бы еще три дня искать. Теперь, когда тебя в доме нет, ничего найти нельзя, поскольку наша комната стала частью жилой площади. Всего лишь.
Хожу я, хоть меня и выписали, едва-едва, в основном лежу.
3 января
Оперировали меня 23 декабря. В коридоре, возле операционной, надо мной склонился Гетон, спросил: “Тебя куда? ” Он пришел выспросить, где у меня дома лежит техпаспорт от машины, а тут такая картина, наверное, ужасная, поскольку в член мне вставили катетер. Когда меня повезли в операционную, я услышал: “Шерстюк, держись, мы ведь с тобой солдаты! ” А в операционной подо мной развалилось кресло. Тетушки принялись его чинить, а оно не чинится. Голова и ноги провалились вниз. Меня давай привязывать, втыкать капельницы, а я в позе радуги. Говорю злобно: “Вы вообще-то готовитесь к операции? ” – “Готовимся!” -
“Историю болезни читаете? ” – “Читаем-читаем. А у вас что, на работе такое не случается?” – “Никогда! ” – “Не может быть ”. “Может. Когда у вас кресло последний раз развалилось? ” – “Лет двадцать назад ”.– “Надо не историю болезни читать, а историю человека ”.
Тут меня вкололи, и пришел я в себя уже в палате. Теперь,
Леночка, если меня на улице возьмут, то посадят как наркомана: руки от капельницы все исколоты. Однако гемоглобин и давление подняли, кровотечение остановили. Теперь я другой человек: язва желудка, цирроз печени. Диета, режим, сон, спокойствие.
Мне, чтоб выздороветь, я так понял, тебя нужно забыть. Или – захотеть жить, чтобы… Чтобы что? Не знаю. Леночка, Ирка, твоя поклонница, принесла журналы с твоими фотографиями. Потом пришел
Юрка Мочалов, мы пообедали, а чай пошли пить в нашу комнату. Я пощелкал дистанционным управлением, а по телику… ну это все, эти все персонажи. Я говорю: “Юрка, знаешь, я не могу сейчас смотреть на всех наших актрис, даже на тех, что раньше казались вроде бы ничего. Всё вдруг стало видно, всю подноготную: и про три рубля, и просто про гнусь изнутри, а если не гнусь, то пустоту или дурной вкус, а что еще хуже, видно, как день ото дня бездарнеют ”. “Да, с женщинами актрисами, – сказал Юрка, – у нас все хуже и хуже. Мужики еще есть, а женщин совсем нет. Эх,
Ленка, как ты нас всех подвела! Такой, как ты, эх, – он вздохнул, – нет ”. “Ленка была последняя актриса ”,– сказал я.
Вот так мы поговорили. Потом пришел Юрка Проскуряков и прочитал лекцию, как мне выжить. По его словам, я должен сдохнуть, но стоит мне только расхотеть – все это он говорил медицинскими терминами, – то не только поправлюсь, но еще и стану амбалом.
Только обязательно надо есть пикногенол. Все, кто его ест, – амбалы, которые живут до 144-х лет.
4 января
Проснулся в кошмаре. Леночка, ты мне снилась. Я к тебе приставал, а ты мне со смехом отказывала. Сейчас плохо помню, говорила что-то вроде: “Ну это совсем порнуха ”. Настроение мрачнейшее.
Если я соберусь написать историю нашей любви, то боюсь, что дам тебе много поводов смеяться надо мной или огорчаться. Ты знаешь, какая у меня память. Вовсе не твоя. Потому, если я все же соберусь, буду просить у Богородицы, чтобы Она разрешила тебе мне помогать. Ты знаешь мою склонность забывать все дурное и глупое, говорят, присущую вспыльчивым людям. Я думаю, это не совсем так, ведь и ты была вспыльчива. О чем я сейчас? Я вспомнил, как попросил тебя выйти за меня замуж. Мы сидели за столом на нашей кухне. Ты строгала капусту, я смотрел на тебя и вдруг, неожиданно для себя, сказал:
– Выходи за меня замуж.
– Что?
Я помню, как засияли твои глаза.
– Выходи за меня замуж.
Ты опустила глаза к капусте и, улыбаясь едва-едва, тихо сказала:
– Хорошо.
31 января 1987 года мы поженились. У таксиста, который нас вез в загс, звучали “Две звезды ” в исполнении Пугачевой и Кузьмина. У таксиста, который вез нас из загса, звучало то же самое. “ Нет,
– говорила ты, когда мы вспоминали об этом, “Две звезды ” и еще… ” Что еще? Видишь, какая у меня память? Но то, что
Пугачева, – это точно. А вот когда я попросил тебя выйти за меня замуж, точно не помню. Может быть, в сентябре 86-го?
7 января
Поздравляю, родная, с Рождеством Христовым. Врачи прописали мне иногда гулять обязательно с сопровождением. Если придет Виолетта
Борисовна, то постараюсь добраться до мастерской и прихватить там одну черно-белую пленку, старую-старую, еще до отъезда Чучи в Германию, может быть, мы там есть. Пусть Ирка напечатает.
10 января
Сбылась твоя мечта, родная, квартиру освятили. В связи с тем, что я не могу дойти до церкви, а если и дойду, то вряд ли выстою хотя бы полчаса, отец Сергий, с которым мы, помнишь, познакомились на премьере “ Мусульманина ”, пришел к нам домой.
Сперва освятил квартиру, потом соборовал меня, а потом, уже после исповеди, причастил. Мама очень довольна. Базиль сказал, что, несмотря на то, что и так любит наш дом, теперь значительно лучше и легче. После больницы он боялся, что я в нем сойду с ума и врежу дуба. Теперь он спокоен.
11 января
Как-то, когда я учился в Университете, на ул. Горького, недалеко от Пушкинской, я остановил девушку – это был один из тех случаев, когда я мог пристать даже на улице, в метро, в библиотеке – да где угодно. Главное – пристать, а там как получится. Семидесятые годы в конце концов. Уже не хиппи, еще не дядя. Которым так и не успел стать. Как я остановил, не помню, помню, что она не очень-то хотела. На улице она не знакомилась. Давай не на улице. “ Я спешу на репетицию ”.– “
Куда? ” – “ В учебный театр ”. Мы свернули к учебному театру в
Гнездниковский переулок. “ Во сколько кончится репетиция?” -
“Точно не знаю. Может быть… ” – Она назвала время. Не помню, во что она была одета. Во что-то светлое, во что-то приличествующее концу семидесятых. Светлые волосы, светлые глаза. “ Я буду ждать ”.– “ Зачем? Может, не стоит? ” Разумеется , я не помню деталей. Но помню ощущения: она была очень сильной, сильнее меня… как личность. Вот запомнил же я это ощущение. Я бесцельно слонялся по улицам, а у нее была цель жизни. Она скрылась в дверях театра. Я забыл спросить ее имя. Вернулся на
Горького. Послонялся. С кем-то встретился. Дошел до кафе
“Север ”. Все наши места: мои, твои, всех нас. ВТО напротив.
Вернулся к театру, почитал репертуар, помялся и зашел. Вахтерша на входе спросила: “Куда? ” – “На репетицию ”. Зашел в зал: сцена пуста, наверное, не начинали. Я никогда не был в учебном театре, но знал, что могли репетировать и не на сцене, а в каком-то маленьком помещении. Влез на сцену, крикнул: “А-у!.. ”
А могли репетицию отменить. “А-у!.. ” Ушел из театра и никогда больше в нем не был. К предполагаемому концу репетиции не пришел.
– Ты говоришь, это была я?
– Мне кажется, ты. А ты не помнишь?
– На улице часто приставали.
– Но вспомни: или май, или июнь, учебный театр, репетиция.
– Я или другая могли ведь так отделаться: зайти в театр, подождать и смыться. Слушай, а на тебе были такие драные джинсы и рубашка незаправленная, тоже голубая с какими-то пятнами краски?
– Запросто. Вспоминаешь теперь?
– Вспоминаю. Очки как у Джона Леннона? Я шла в учебный театр, опаздывала, а тут какой-то хиппарь пристал, что-то бубнил. Ты мороженое предлагал поесть?
– Может быть.
– Волосы длинные и лохматые?
– Скорее всего.
– Немытый, грязный?
– Как это?
– Ты ведь грязнуля. А тогда, наверное, был прегрязный, если некому было ругать.
– Мне никто не говорил, что я был грязнуля.
– Вы все были грязные, вот никто и не говорил.
– Ну хорошо, пусть я был грязный, хотя краска – никакая не грязь. И джинсы не могли быть драные, мне мама зашивала.
Заношенные, застиранные, но не драные и не грязные. Я в грязных не хожу.
– Да ты посмотри, а это что? Вот это вот на коленях, вот это на карманах, ты на задницу посмотри!..
Так мы с тобой и не выяснили. Чаще всего ты говорила: “Нет,
Сережа, ничего подобного не было ”. Или: “Нет, Сережа, это был не ты ”. “Да нет, – говорил я,– все дело в глазах ”.
Я ничего особенного и не помню, только эти глаза твои светлые.
Других таких глаз нет. Может быть, мне только хочется, чтобы это была ты.
16 января
Я говорю себе: не думай, не думай. Неужели, Леночка, ты решила в ту субботу? проделать тот же путь, что и в ночь с четверга на пятницу, за два дня до того? А ведь какой я дурак был, когда, выбежав в ту ночь за тобой, свернул налево, а не направо – к
Театру Моссовета. Ведь театр – это свои, Театр ли это Моссовета или какой другой, недаром все машины на съемки ждали тебя у служебного входа Моссовета, там ты назначала встречи, туда тебе приносили сценарии и пьесы. Я побежал налево, описал круг, но нашел-то тебя справа от театра, на лавочке. Я нашел тебя, и ты покорно пошла домой, легла спать и утром сказала: “Как же мы все же любим друг друга ”. Мы завтракали и радовались, что завтра, в субботу, едем на дачу. В субботу.
Но ты не поехала.
Всё. Я помню всё. Как я мог уехать без тебя? А вот смог же. И
– всё.
17 января
Могила твоя вся в снегу, белом и пушистом. Я положил шесть красных гвоздик. Феклистов сказал: “Как же гвоздики красивы на снегу, никогда не знал ”. Он воткнул в снег какие-то фиолетовые горные цветы с тонкими и колючими листьями. Два мандарина, зеленое яблоко, иерусалимская свеча. Твой покрытый инеем портрет. У папы никак не хотела гореть свеча, оставшаяся от моего соборования, а твоя, иерусалимская, горела. От нашего большого пучка, который ты зажгла в Храме Гроба Господня, остались три свечи. Три последние свечи, которые ты держала в руках.
18 января, 1.23, день
И все-таки жаль, что нельзя вспомнить поминутно и посекундно хотя бы наши двенадцать лет и семьдесят пять дней.
За окном белым-бело, лежит снег. Очень хочется погулять. Как,
Леночка, ты любила снег! А какой снег на Сахалине! Я никогда его не видал, но знаю… Ты так любила сахалинскую зиму.
19 января
Крещение Господне
Теперь мне предстоит жизнь, существующая только в моем воображении. Я хочу читать книжки, написанные тобой. Из всего, что ты сделала, мне ничего не надо, кроме твоих книжек. Ну хотя бы одну книжку… Читать, отрываясь, смотреть в окно, пить чай, читать. Листать ее за нашим столом, выбирать страницу наугад, читать главу, смотреть в окно, есть гранат. Конечно, я хочу пойти на твою премьеру, конечно, я хочу всего, что было, хочу невозможного, но более всего я хочу читать твою книгу. Я знаю, что найду ее.
– Ты врожденная писательница, – однажды сказал я,– пиши книги.
– О чем?
– Обо всем, что ты мне рассказываешь. Никто лучше тебя не рассказывает о счастье и боли.
– Но разве это интересно? Даже тебе это иногда неинтересно.
– Леночка, мне часто не по себе, это правда, мне так больно иногда и страшно за тебя, что я пытаюсь не слушать, и, несмотря на то, что твой мир трудно вынести, я знаю, что ты рассказываешь о счастье. Если ты все это напишешь, я буду читать не отрываясь.
– А кроме тебя, кто еще?
– Ну кто-нибудь, какая разница, но главное – я. Разве мало?
– Мало.
– В конце концов мы издадим, и это будут бестселлеры. Я знаю, тебе нужен полон зал зрителей, но, уверяю тебя, читателей будет не меньше.
Ты улыбнулась.
– Если я когда-нибудь не смогу играть… заболею или меня вдруг парализует, я, может быть, и начну писать. Ты ведь знаешь, как долго я собираюсь написать письмо, собираюсь неделями, а потом пишу с утра до вечера и, пока не напишу, ничем не могу заниматься. А так – когда мне писать? Между репетициями? В понедельник?
21 января
Кажется, что я попал в какое-то кино. Еще на кладбище промелькнуло, когда клал гвоздики на снег, что все это кино, и
Феклистов Сашка, расчищающий снег рядом с могилкой, как бы намеком: видишь меня, Шерстюк, это ты меня в кино видишь, вот съемки закончатся, вернемся домой, а там Ленка пельмени нам приготовила.
Руки у тебя в муке, ты коснешься моих щек кончиками ладошек и поцелуешь в губы. Налетишь, как бабочка, и упорхнешь. Стук – и улыбнешься. Искорки из глаз попадут в сердце, ты тихо спросишь:
“Любишь, Шерстюк? ” – “Люблю ”.
– Не верю, – сказал я Сашке. – Понимаешь, я все знаю, но не верю. Я не сумасшедший.
– Конечно, нет. Понимаешь, она там, в театре: или на репетиции, или в кафе с кем-нибудь. Да мало ли где!
24 января
Красная свеча у твоего портрета трещит, мама принесла кисель из вишен. Вишни с косточками. Пропали часы, которые мама подарила мне на День рождения, говорила: лечебные. Пропал черный шарф, подаренный тобой. А кем же еще, если я шарфы не покупаю? Еще в больнице № 24 пропал мой черный швейцарский нож, который я купил весной 91-го на Лексингтон-авеню в магазине “ Хоффритц ”. Ножей
“ Хоффритц ” в Москве нет.
Пошел на кухню, покурил, поискал уже не помню что, не нашел…
Ты стоишь у нашей лужи по дороге в Михнево и ждешь меня. Мы идем пешком на электричку. 19 августа 95-го года.
19 августа 97-го года мы шли пешком на электричку. Ты шла последний раз. Сегодня я раскрутил пленку, отрезал два кадра, вставил в рамки, опустил в окошко, увидел, что ты меня ждешь у лужи, и прочитал в левом углу “95 8 19”. На следующем слайде ты идешь мне навстречу в любимой нами березовой роще, за моей спиной поле, за которым Михнево. Вставляю в окошко неразрезанную пленку: “95 8 22”, дача, Евгения Андреевна, Лелька, Никита, тебя нет, ты в Москве, а может, на съемках. В кадре “95 8 23” большая, еще зеленая тыква. Тень, кусты. Потом дача со стороны сада, потом три яблока на красном столе, потом пруд, тот, рядом с нашей лужей. Пруд, где мы любили делать привал и собирать вдоль берега грибы. Мы называли его “ озерцо ”.
Леночка, ну вот почему я тебя всегда ждал, я любил тебя ждать, да? Вечером я свешивался с балкона в Нью-Йорке, курил, проходил час, и вдруг ты появлялась – какое счастье! – с пакетами в обеих руках. Сейчас будем ужинать, примерять покупки и смотреть, что же я за это время нарисовал. А сколько часов я провел на нашем балконе, в доме, где я сейчас пишу! Я любил тебя ждать? И даже последний год, глотая валерьянку? Господи, да все просто – я и сейчас тебя жду.
25 января
Татьянин день, за окном солнце. Надо позвонить хоть одной
Татьяне. Разговаривал по телефону с Ириной Гординой, говорит, что она лежит на кровати, залитой солнцем. Я сказал, что “ залитая солнцем кровать ” – это лучшее, что я слышал за последнее время. Неприхотливо – и всё же лучшее.
Холопову вчера исполнилось пятьдесят лет. Я ему сказал:
– Тебе на самом деле девяносто, телу пятьдесят, а душе двадцать.
– Шерстюк, всё наоборот, всё наоборот.
Я ему пожаловался, как я рассвирепел в художественной лавке в
Петровском пассаже. Английские, голландские и итальянские товары не приспособлены к употреблению, всё дерьмо, это ж надо – гуашь в тюбиках! Да какой художник завинчивает тюбик до конца! Холопов ржет: “Бедный, Шерстюк, завинчивает ”.
26 января
Ну вот, Леночка, я в онкологическом центре – помнишь? – в том небоскребе, который я называл городской дачей Брынцалова?
Академия медицинских наук. Двадцать второй этаж. Гаже места я не видел. А ведь по блату. От персонала тошнит. Это тебе не больница № 24 с бабулями, сестрами, медбратьями и чумными хирургами. Это гадость и пир жлобов.
И не потому, родная, что, судя по всему, у меня оказался, ну в самой ранней стадии, рак, о чем я узнал сегодня, а потому, что тут, где я нахожусь, точно и ненавязчиво сработал метафизический закон: мерзость собирается в кучу, а я, на ж тебе, появился, когда она уже вся собралась и слиплась до безупречной мерзейшей мощи. Если выживу, не знаю, как я по Каширке буду ездить, надеюсь, со смехом и дулей. Я даже здесь побуйствовал, поорал и поломал кое-чего, в меру, конечно. А жаль. А то бы уж свалил отсюда.
27 января
Ума не приложу, Леночка, как я буду жить без тебя, если даже сейчас, когда неведомо, помру я или нет, ничего не понимаю. Я, кажется, еще меньше понимаю, чем в конце августа, сентябре, октябре, – этом земном Страшном Суде. Как же так: так трудно полюбить, а мы полюбили, трудно любить, а мы любили, трудно любить свое дело, а мы любили. Красивы, талантливы, остроумны, веселы да и как похожи при всей непохожести – и вот тебе. Было все… кроме детей.
Пишу наивно и глупо. Ох, не прыгнешь в прошлое – потому не понимаю ни прошлого, ни тем более настоящего. Будущее же… Вот уж чего, наверное, никогда не бывает.
Узнал вчера, что такая болезнь, как у меня, быстро не появляется, скорей всего ей год-полтора, но и так быстро не проявляется, а лишь при соответствующих и сильно выраженных обстоятельствах. Этим обстоятельством являешься ты. А для тебя соответствующим и сильно выраженным обстоятельством являюсь я.
Вся наша жизнь – твоя и моя – плюс ты и я…
Игорь Сергеевич, лечащий врач, сказал Вете, что у меня, верующего и православного, глубоко в подсознухе может быть запрятана надежда на свою болезнь как скорую смерть без всякого самоубийства. Да я и отцу Сергию говорил, что помолюсь, почитаю, преисполнюсь покоя и вдруг – хлоп! – а побыстрей бы дуба врезать, и без всякой подсознухи. Помолюсь и устыжусь. И прежде всего устыжусь, потому что у нас, Шерстюков, подобное – трусость, я имею в виду подобное в том приблизительно положении, в котором я нахожусь. В других обстоятельствах, я думаю,
Шерстюки преотлично могли бы и застрелиться, несмотря на православие, по причинам, скажем, чести или гордости, а скорей всего по каким-нибудь боевым соображениям, скажем, для укрепления войсковой доблести или просто из государственных соображений. Есть обстоятельства, в которых русский офицер не может не застрелиться, да простит меня Бог. У меня же получается, что я Шерстюк наизнанку, как вывернутые штаны, – вроде не штаны, носить нельзя, но и не пиджак. Потому я думаю: а не оказался ли я столь хитрым запорожцем, что загнал мысль о самоубийстве в подсознание, объявив само подсознание не то что чушью, а именно чушью недостойной – мол, пусть про подсознуху обезьяны пишут диссертации? Сознание мое хоть и туманно, зато с подсознанием ясно – я его в гробу вижу.
Но… тихонечко листал на больничной койке газету, натыкаюсь…
МХАТ им. Чехова
(Камергерский пер., 3, тел. 229 87 60)
23 – “Женитьба ” Н. Гоголя. Премьера. Заняты лучшие артисты театра.
24 (18.00) – “ Тойбеле и ее демон ” И. Зингера. Вместо Елены
Майоровой, трагически ушедшей из жизни, эту ее звездную роль превосходно играет Оксана Мысина. Малая сцена (18.00) – “
Татуированная роза ” Т. Уильямса. Ирина Мирошниченко вот уже много лет блистает в главной роли в этом спектакле, до сих пор собирающем аншлаги.
ТЕАТР им. МОССОВЕТА (тел. 299 20 35)
25 – “Милый друг ” Ги де Мопассана. Премьера. Постановка Андрея
Житинкина – как всегда у этого режиссера, яркая, зрелищная.
Играют Маргарита Терехова, Александр Домогаров.
Я понимаю, что хочу или другое читать: “Идите на звезду Елену
Майорову ”,– или ничего не читать, ну чтоб газеты об этих двух театрах вообще никогда не упоминали. Я когда по двору своему иду, так вроде и не знаю, что вот он, Театр им. Моссовета.
Театры – убийцы? Не-е-ет. Это уж я скорее. А могу ведь и так: я . А театры – скорее врачи: могут залечить, зарезать, но и вылечить, надежду дать; я не знаю, кому так было больно в театре, но кто еще так по-детски любил театр, как Леночка?
А я – что я вообще в настоящем люблю? Леночкины вещи. Фетишист?
Красота и смерть? Вот закладка у меня в дневнике с изображением гейши. Читаю: “Израиль ”. Чайничек маленький стоит на окне – как мы ему обрадовались, увидев в аэропорту Израиля,– теперь не надо таскать на гастроли и съемки кипятильник; я нашел его в гастрольном чемоданчике. В чемоданчике есть всё – хватай и гони на гастроли. Карманная пепельница “Davidoff”, я ее подарил
Леночке, теперь она моя.
У нас всегда было много общих вещей, потому что мы одинаковые, только штаны мои были Леночке коротковаты. А теперь почему я их ношу с таким удовольствием? Мне хочется быть Леночкой?
Или, может быть, я хочу того самого, что в подсознухе?
29 января
Слава Богу, меня здесь навещают и отвлекают – не пойму какими: смешными, трогательными, драматическими, страшными? – историями.








