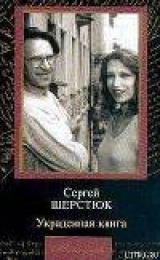
Текст книги "Украденная книга"
Автор книги: Сергей Шерстюк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Сергей Шерстюк
Украденная книга
Это история, которую надо рассказывать с конца. И хотя всем известно, чем заканчивается всякая доведенная до конца история, предлагаемая читателю публикация не предисловие к смерти или гибели, но история жизни, сплетшейся с любовью, – теперь уже навсегда.
В общих чертах финал таков: в генеральской семье, жившей в Москве на улице Горького, в 1994 году умер генерал; через три года погибает в огне его невестка, Елена Майорова, прима ефремовского МХАТа, а еще девять месяцев спустя умирает ее муж, известный художник Сергей Шерстюк.
Следует объяснить, почему это все зовется “ историей ”, а подготовленная к изданию книга, состоящая из хронологически упорядоченных дневниковых записей, будет называться “Украденной книгой ” (с подзаголовком “Документальный роман ”).
Ответ прост: потому что, собравшись под одну обложку, все эти уцелевшие в разных тетрадях записи складываются во внятную историю, проступающую со страниц вырванной из рук Безносой
Украденной книги, адресованной живым и являющейся, по существу, романом в жанре no n-fiction. Но начать придется издалека.
Нет на свете ничего интереснее загадки и тайны личности, живой и непоследовательной, даже не снившейся бедному воображению беллетристов, этих каторжников “ реализма ”, наловчившихся для пропитания “ тискать роЂманы ”. Дневник – жанр в высшей степени литературный, в том смысле, что всегда адресован не современникам, а некой “ понимающей субстанции ” – персональной, но при этом лишенной определенности очертаний и реагирующей на фиктивность и фальшь, как лакмусовая бумажка: моментально приобретают трупную синюшность или краснеют от стыда целые страницы.
Все, к чему ни прикасался Сергей Шерстюк, либо превращалось в дневник, либо неудержимо стремилось к этому – чтобы внутри продолжить мутацию. Будучи офицером запаса, историком искусства по образованию, автором нескольких нетрадиционных романов, лидером московской школы художников-гиперреалистов, драматургом и постановщиком своеобразного созданного им “ театра жизни ”,
Артистом в широком смысле и весьма нетривиальным интеллектуалом, он все же в первую голову являлся многоликим автором собственных дневников. Его ранний роман, “Джазовые импровизации на тему смерти ”, был написан в форме дневника – точнее, дневник описываемых лет совпал по мерке с романом и сделался его формой.
Жизнь как бы поставляла зерна событий, а автор дневника перемалывал их в муку: на выходе это были уже другие события и совсем другой “ мельник ”. Получив освобожденную от природных форм “ муку ”, можно было начинать что-то с ней делать.
Последовательно пройдя путь от реализма до абстракционизма, почти одновременно потеряв владевшую его сердцем Жрицетку, завершив роман и окончив высшую школу, киевский “ хипстер ”
Шерстюк превратился по закону метаморфоза в русского монархиста и гиперреалиста, сколотившего собственную если не “ школу ”, то группу и художественное направление. Похожая история повторялась и в дальнейшем. Шерстюк пережил еще ряд превращений. Хотя возможность всех их была заложена в нем изначально, как в куколке (и как в каждом, кто не боится самостоятельно проживать свою жизнь).
Полярность всякий раз лишь являла то или иное положение его пребывания in betweeness, в промежутке, между. Между словом-краской-мыслью-и-сценой в первую очередь; между магией и православием; психоделикой и монархизмом; свободолюбием и империализмом; Кремлем и андеграундом; кастовостью и открытостью; западничеством и славянофильством; Киевом и
Москвой; украинской козаччиной и русским офицерством; интеллектом мужчины и “ сердцем женщины ” (как он догадался о себе в “Джазовых импровизациях… ”); между борющимися вкусом к жизни, на грани сластолюбия, и страстным саморазрушительным стремлением к погибели (запись после баррикад
91-го года: “Первый симптом в день победы был: жаль, что мы не погибли ”). Это был все тот же человек, взятый в разных возрастах и отношениях с миром, до конца не отрекшийся бесповоротно ни от чего из приведенного выше. Понятно, что его бы очень скоро разнесло на куски, если бы он не нашел в себе искусства бежать так быстро, чтобы даже дьявол не мог угнаться за ним (по выражению из его дневника).
И все же “ Украденная книга ” – это не интеллектуальная биография, тем более не дневник эклектика или оппортуниста.
Шерстюк был человеком чести (не путать с расхожим и доступным пониманию черни “ чувством собственного достоинства ”) – на большом дневниковом пространстве он старался достичь в своих построениях предельной интеллектуальной честности и открытости.
Он знал, что позволительно морочить неумных современников, но нельзя морочить язык. Как писатель и художник, он знал, что книга, как и картина, – это не “ зеркало ” для кривляний и поз, а попытка смастерить или обнаружить “ окно ”, с помощью которого только и можно, будучи увиденным “ оттуда ”, найти и узнать себя настоящего (поэтому это вынесенное им из иконологии правило в равной степени распространяется на читателя книг и зрителя картин). Неприятно и страшно узнать себя настоящего, но без этого невозможно очнуться от морока того, что зовется у людей “ реальной действительностью ”, позволяя манипулировать их сознанием не хуже какой-нибудь магии. К тому же, как известно, “ боящийся несовершенен в любви ”. Так получилось, что главная книга, не дававшаяся автору при жизни, украденная смертью, была дописана любовью – и осталось только вернуть ее тому, для кого она писалась. Читателем ее может стать каждый
(недвусмысленное указание на этот счет есть в дневниках).
Почему дневники, а не романы? Не выставка картин? Потому что главное здесь – санкция, все остальное потом, и на фоне главного оно представляется второстепенным. Как составитель книги, я убежден, что полное издание дневников Шерстюка – находка для будущих историков, праздник для парадоксалистов и аналитиков всех мастей и хорошая встряска для всякого нормального и вдумчивого читателя.
Вообще все обстоит несколько сложнее.
Будучи разнообразно одарен, образован, наделен амбициями и задатками достичь положения не ниже тогдашнего кумира Энди
Уорхола (а может, и вообще Нерона в смушковой шапке на
Мавзолее), Сергей в разные периоды испытывал тяжелые сомнения в собственных способностях и разочаровывался в достигнутом.
Действительно, его живопись походила на раскрашенную скульптуру или обездвиженный театр; на полях одного из его дневников вписана реплика жены: “Меня не интересует театр жизни, меня интересует написанная пьеса ”; друзья-писатели не принимали его за “ своего ”, романы его не получили признания в “ перестройку
” и печатались в отрывках малотиражными элитарными журналами; интеллектуальные построения не сложились в систему или доктрину и заполняли страницы дневников на правах разрозненных эссе; журналисты летели на него, как мухи, но к этому времени от журналистики его уже воротило; реально существовавший миф южнорусской “ киевской школы ” и почти эзотерического учения
Ёмасалы (“ наш миф ”, как гордо говорили его адепты), придясь не ко времени, к началу 90-х рассосался… как настроение
(словечко из культурологии Шерстюка), а деньги на жизнь приходилось теперь зарабатывать за океаном, приспосабливаясь к уровню запросов и эстетическим критериям заказчиков и покупателей. Было отчего впадать в отчаяние. Не говоря о том, что рухнула советская империя, чему он по неразумию своему не противился, не сразу разобравшись в собственных классовых интересах (привилегированной советской фронды) и идейных пристрастиях, предпочтениях, вкусах.
Единственное его счастье состояло в том, что в 85-м году, считая себя к этому моменту в очередной раз полным неудачником, он повстречал женщину, с которой ему захотелось умереть, прожив с ней долгую и счастливую жизнь. С той поры дезориентация и отклонение инстинктов (и в первую очередь жизненного инстинкта), через которые он прошел, все более утрачивали над ним свою власть. Природа его все более осветлялась, переходя от смертолюбия к жизнеутверждению. Со своим прошлым он научился жить, как с хорошо изученными за долгие годы минными полями, постепенно их разминируя. С разливанным морем агрессии в его картинах начинает спорить тема прелести жизни – покоя, флоры, радостей консьюмеризма (серия и выставка “Все это я ел ”). Его перестает терзать бешеное честолюбие (зачем власть тому, кто любит и любим?!), своим демонам он указывает их место (к этому времени он уже верующий, церковный человек). Вся его жизнь была вереницей блужданий и странствий в поисках “Золотой книги ” (на его жаргоне; я бы сказал – “ плана Рая”), и никогда он не был еще так близок к тому, чтоб подержать ее в руках (и я уверен, что в снах, где это только и возможно, это иногда ему удавалось).
Но так получилось, что и эта женщина оставила его после 12 лет совместной жизни по любви. Вольно или невольно, сознательно или бессознательно – здесь совершенно не место гадать и предлагать однозначную версию. Но сам способ – самосожжение – (женщины и актрисы!) говорит о том, что в этом поступке присутствовал момент очистительной жертвы (не дара, но мены и выкупа).
Последние дневниковые записи Сергея о жизни без Елены Прекрасной
– тяжело, но надо читать. Потому что это последняя в ХХ веке трагическая история любви (забытый жанр – казалось, что такого уже не может быть в обмельчавшем современном мире). Он умер ровно через девять месяцев после ее ухода, день в день, выносив свой земной срок, как ребенка от нее, соединившего их теперь уже бесповоротно не рождением, а смертью. Тридцать девять лет и сорок семь. 23 августа и 23 мая – август и май всегда были его критическими месяцами.
Смерть придает особую гулкость прожитой жизни, как звуку струны пустой деревянный резонатор. Сейчас уже невозможно отделаться от впечатления, что поставил эту пьесу Рок – так эту имперсональную силу звали древние. Сквозь дымовую завесу собственного эстетизма
Сергей Шерстюк еще в минувшую эпоху догадался, что существует закон, по которому люди покидают сцену вместе со своим временем.
Как люди чести, в наступившие времена бесчестия генерал, актриса и художник не пожелали пережить надолго ту страну, которую полагали своей и последние остатки которой стремительно растворялись в мутной и едкой среде 90-х. В посткоммунистической
России они не признали того отечества, в котором им хотелось бы жить. Все трое похоронены на воинском Троекуровском кладбище в
Москве. Служили панихиду по ним и отпевали – в порядке убывания
– в Большой Вознесенской церкви у Никитских ворот, где венчался некогда Пушкин.
Одна из последних записей в дневнике художника:
“ P. S. 26 октября 1997 года, 2.25 ночи.
Пролистал сейчас дневник и поразился тому, что в нем так мало о
Леночке, любимой и единственной, умершей два месяца и три дня назад. Иногда она читала мой дневник и говорила: “Разве это дневник? А где же мы с тобой? Ведь, кроме нас с тобой, тебя ничего не интересует. А-а, ты, наверное, пишешь не для себя, а для других ”. Вообще-то я собирался вдруг сесть и написать для нее пьесу, все придумывал и, сколько хорошего ни придумал, не придумал главного – о чем? Теперь я точно знаю, что пьесу для
Леночки не напишу, хотя знаю – о чем, но… И вот тут-то я замолчу, потому что, как сказала одна девочка, “ счастье не знает, что оно счастье, а вот горе знает, что оно горе ”. Я хотел бы, чтобы Леночка сидела рядом, а я писал свою галиматью.
Отныне это невозможно ”.
В журнале публикуется в несколько сокращенном виде дневник
Шерстюка последнего года жизни. Упоминаемые в нем лица входили в ближний круг художника – это члены семьи, друзья-художники, люди театра и кино, литераторы. Харак-тер текста, на мой взгляд, не требует комментариев.
Игорь КЛЕХ
ДНЕВНИК ПОСЛЕДНЕГО ГОДА
1997 год
9 апреля
Если постоянно из-за – нет, за любимого человека испытываешь страх, то интуиции больше никогда не будет. В страхе сгорит, и ветер страх раздует.
Не сдал сегодня вождение: заглох мотор. Такого со мной никогда не было. Или уже пора? Пишу с ошибками. Ошибки – слабость. Я всегда делаю ошибки, когда слаб. Вполне возможно, что слаб давно, только механически полагал, что не слаб. А ведь давно уже, наверное, представляю из себя потерянного героя. У нас был герой, да мы потеряли, ау! Да и хрен с ним. Где же Лена? Почему не дал ей вчера пейджер? Она не звонит. Господи, не изменяет ведь, а больно. Эта ‹N.› со своим кино чумовым – чума. Я ведь почувствовал, что в это дерьмо Лене нельзя, но нет, говорю, давай… Лишь бы снималась, думал. Лишь бы. Вот где мохнатый.
Скучно? Разумеется, постыло? Хрен вам. Скучен страх, а постылое
– энергия и сила, ежедневная и созидательная. “Уйди, постылый!
” – сказала умирающая новорожденному. Главное – сделать из гения обывателя и тут же заклеймить гениев за презрение к обывателям.
Маневры на уровне 15-го аркана Таро. Почему дерьмо (зло – по-старорежимному) так успешно именно в 15-м аркане? Если бы я вдруг жил до Христа, я бы застрелился. Во-первых, я бы эти арканы придумал, во-вторых, всех орлов сделал бы рабами, в-третьих, гнал бы водку из египетских пирамид – и результат: до
Христа бы никто не дожил.
Не собираюсь поколебать никаких своих устоев. Никто так не страдал, как Он, поскольку самый большой герой, даже если в нем
Дух Святой, все же человек, а не Бог. И даже если Бог его просто ласкает и омывает слезами в миг страданий, и даже если от страданий Бога рвутся вселенные, и даже если он это знает, и даже чует сердцем, и все и все… – он страдает меньше, чем Бог, и больше, чем человек. Но не поровну, как Христос.
Разве я страдаю? Мне просто страшно. Я не герой – стало быть,
Дух Святой только искоса поглядывает. Что я пишу? Господь страдает за тебя больше, чем ты. Это очевидно. Что со мной? Я не хочу знать никакой новой правды, не хочу писать, я боюсь страха, я слабый, мне просто плохо и мне нет покоя. Я верю в Господа нашего Иисуса Христа – и мне плохо? Ничего глупее не бывает. Или я не верю – во что я никогда не поверю. Да просто вере моей место, наверное, в пыли.
Плохо: был бы наркоман, ничего бы не придумал, кроме как занаркоманить. Ленка не звонит не потому, что она от меня уходит или, скажем, я от нее, а потому, что – страх. Милая, любимая, родная. Что толку сейчас тебя понимать? Ты придешь, я знаю.
Тебе, я знаю, хуже, чем мне, даже если ты сейчас улыбаешься и принимаешь почести. Ты не звонишь из страха, а я тебе этого не обещал. Ты – такая как есть – такая, как ты не есть. Нам повезло или не повезло. Все это я пережил чуть раньше, да и сейчас переживаю – чуть позже – и не по-разному, а так, как ты. Только ослабеть духом в тридцать девять или в сорок шесть – очень разная расслабуха. Пройдет, но… хе – но ведь можно по-разному преодолеть сие дело. Ты будешь бояться скуки, я – страха. Одно и то же.
И вдруг – бах! – по голове. А чего ты хотел?
Скуки. Это ответ. Если уж совсем брак по расчету, то скучно не будет с помощью Агаты Кристи никогда.
11 мая
Ехал на родину подгулявшим, но ребенком, стало быть, здоровым. А у Ленки сегодня съемка – у ‹N.›, а я только заснул: тетя Люба позвонила с дачи, а потом названивал Дмитрию Сергеевичу, чтобы срочно оплатить его работу над моей машиной, а потом ждал Макса, потом мама уехала на дачу, пришел Макс, Лена уехала, Макс начал рассказывать фильм про Сервантеса, я ему про гуанчей, пришел
Никита, я делал Максу обед, пили вино, Никита рассказывал про бомбочки и нелюбовь к бюрократам, и вдруг выясняется, что он не знает, что такое нигилист (чувствую: мне плохо), звонила Евгения
Андреевна с длинными рассуждениями о будущем Никиты, начал сходить с ума и даже кричать, что будущее в том прошлом, когда
Лёлька меня бросила, потому пороть я его не смог, и вот теперь надо платить тысячи каким-то химикам, что учили меня неизвестной науке, – в общем, кричал; начали показывать “Кошмар на улице
Вязов ” – все, впрочем, могло быть и в другой последовательности
– да! А почему я пишу дневник – потому что Макс начал его читать
(это его как бы естественное право), Никита ушел домой, Макс читал, ставил кассету с Павичем, рассказывал фильм, а я хотел только спать… спать, Макс уехал, а я ждал Лену, ждал, чтобы заснуть, когда она придет; позвонила, что придет в полночь; позвонила в полпервого, что поедет к ‹N.›, а ты спи, люблю тебя очень, у нас праздник – последний съемочный день; я выпил, валокордин, валерьянку, колдрекс, и – бац! – пусто… даже спать не могу. На Тенерифе спал, как кот; на родине за полдня опустошился до бессонницы.
Эх, Канары!
Родина, дай поспать! Тебя не выбирают, какая есть, такую люблю.
Чтобы поспать, надо уезжать за пределы? От бодрствования ведь проку никакого – ни мне, ни родине. Когда не спишь, стало быть, о чем-то думаешь, а когда думаешь, обязательно ухудшится что-то и в так плохом. От моей бессонницы один разор и войны, потому что я, когда не сплю, то вижу, что – труба… бесконечная и выход на помойку вечную, а в голове, разумеется, как выбраться на свет, то есть наперекор самой судьбе, а это страшно. Потому что вылезти из дерьма (а когда не спишь, то соврать самому себе невозможно) можно только очень страшным способом. И вот все-таки вылазишь и, может быть, засыпаешь. А утром – прямо в телеке или в газете – те же методы, но только, чтобы уж точно не вылезти.
Как будто кто-то в голове моей читает, однако совсем не тот, кому нужно.
Но стоит мне с родины свалить и просто жить, ничем не интересуясь, и спать, когда хочется спать, возвращаешься хоть через два месяца – а ничего и не произошло. Если когда-то не поленюсь и опишу парочку моих рецептов и припомню время их появления, то окажется, что почти безошибочно посылал их тем, кто врожденно воспринимает мою родину как объект, подлежащий полному уничтожению. Поездив по свету, знаю сейчас наверняка и без лапши, что народы друг друга не любят, как бы чего ни брехали, и лучшее – даже не безразличие, а незнание, но также знаю, что везде есть некая кучка, которая полагает, что нелюбовь к России – чуть ли не главный смысл жизни, и если ты вдруг просто безразличен, то мудак и в жизни кайфа не будет. Нелюбовь к России – это очень и очень большие деньги, безразличие – иди и покушай, незнание – покушай, как человек будущего, впрочем, можешь и сдохнуть, как, впрочем, человек будущего.
Фиг с ним. Сейчас вспоминаю, что лет пятнадцать назад мне снились какие-то дурацкие события, но что важно – не события, наверное, а пейзажи и среда, в которых они происходили: странно, что не вспомнил на Тенерифе, но до чего ж похоже. Особенно там, где Los Abrigos. Абрикос, как говорят русские.
30 июля, дача
Я на даче. Вчера была гроза. Убегали от нее с Леной на велосипедах – не убежали. Сушеные грибы намокли, я сегодня их опять высушил – стали черные. Сегодня впервые посадил Никиту за руль своей машины. Когда возвращались на дачу, подумал – вот кому будет особенно приятно похвалить Никиту за его успехи:
“Евгения Андреевна, а Никита неплохо водит ”.
Евгения Андреевна, Никитина бабушка, моя бывшая теща, умерла сегодня утром.
Я вас люблю, Евгения Андреевна, мы никогда больше не поговорим.
Не попьем чаю, вы не нальете мне водочки, не похвастаетесь бывшим зятем перед своими подружками, я не скажу вам в очередной раз: “Бывших тещ не бывает ”. Я знаю, что вы меня любили.
10 августа
Странно: привез на дачу дневник и ничего не записываю. Обычно сижу в “ штабе ” под яблоней и что-то пишу, не важно, хоть то, что писать нечего. Кот Толя умер год назад, по-моему, шестого августа.
Сегодня, правда, узнал, вполне неожиданно, когда сидел в тени дома рядом с жимолостью, про что все-таки можно написать рассказ с таким названием: “ Где воду мерит водомер и по ночам кричит кукушка ”. Хотел поставить запятую после “ водомер ”, потому что есть вариант: не “ и ”, а “ там ”.
27 сентября, дом
Леночка, месяц назад тебя похоронили. А вчера был наш “ Праздник
Хамелеонов ”. Сегодня Воздвижение Животворящего Креста Господня . Во МХАТе нет ни одной твоей фотографии. 1 октября, на сорок твоих дней, Олегу Николаевичу Ефремову будет семьдесят лет. По телику не покажут ни одного твоего фильма, ну ты понимаешь. Я помню, как он уговаривал тебя бросить “ Современник ” и перейти во МХАТ, как не отпускал в театр Табакова. Скажу тебе: знаешь, кто тебя любит? Валера Фокин. Мы ведь недавно смотрели “ Доживем до понедельника ”: “Счастье – когда тебя понимают ”. Валера тебя понимал. Понимает, возьми меня в дуст.
Леночка, родная, я без тебя не могу. Но для тебя – должен. Я ищу тебя в комнатах. Стучу в стену: ну иди сюда. Иди ко мне. Как нам было хорошо – и будет – так не бывает.
28 сентября
Во всей Москве нет ни одной машины, которая отвезла бы меня на кладбище. Ну и друзья у меня! Я могу, конечно, и сам добраться, хоть и сойду с ума, но ты ведь знаешь, что я сам ничего не могу.
Без тебя не могу. Жолобов – пьян, Гетон – едет на дачу, Савичевы
– только вот уехали на дачу, у Людмилы – машина без аккумулятора, Базиль, как всегда, обещал – пропал, я – без руля , Дима, починщик, больной, только вчера вернулся из деревни.
10.23 утра. Мы с тобой одни. Ты – одна, я – один. Мы вместе.
Таких, как ты, не бывает. Откуда ты? Куда ты? Все так просто.
Любимая моя. Все будет хорошо. Мы никогда не расстанемся. Ты будешь счастлива. Я обещал.
12.28. Сейчас приедет Базиль. И Потапов. Машин будет больше, чем нужно.
30 сентября, 0.50 ночи
Любимая, слушаю ноктюрны Шопена и смотрю на фотографию: ты держишь в правой руке два белых гриба, на пальце обручальное колечко, в левой – подосиновики. За твоей спиной наша летняя кухня, нежная и зеленая тень, солнце на диком винограде, грибах, плечах и волосах, ты безо всякой косметики, такая простая и необыкновенно любишь жизнь, которой тебе осталось немногим больше месяца. Не знаю, сколько точно, но на этой же пленке день рождения Светы, а было оно 25 июля, какая же ты была красивая в стальном костюме! Кстати, часто на последних фотографиях ты сбоку или едва в кадре и так печально и таинственно заглядываешь в мои глаза. Что же такое ты знала, если так любила жизнь?
А вчера на кладбище случилось именно то, чего я так долго ждал.
Вчера… Я был, конечно, хоть водка меня и не берет, все же пьян. Когда мы подошли к твоей могиле, выглянуло солнце, Вета
Седова высыпала на могилу твои любимые семечки для птичек, я отломил кусок свежайшего батона и положил рядом, взял твою рюмку, а в ту, точно такую же, которую привез с собой, налил смирновку “Сухарничек ” и поставил на могилу. Конечно же, выпил,
Вета тоже. Юрка Мочалов бродил с камерой, а Базиль еще не знал, что болен желтухой. Не знаю, что было вкусней; водка, хлеб или семечки. Было покойно, вкусно и радостно. Мы были рядом, нас согревало одно солнце. И вдруг из левого уголка твоих губ потекла слюна. Господи, я пишу то, о чем ты знаешь. Мы бросились рассматривать фотографию, может быть, образовалась складка или откуда-то свалилась капля дождя,– нет, слюна была под стеклом, а с обратной стороны фотография закупорена двойным черным целлофаном. Мы вертели фотографию и не могли поверить, а Юрка снимал все это на камеру. Мы верили, но не могли поверить, что ты вот так запросто показала нам, что слюнки текут, – так вкусно. Ты была с нами. Чудо.
Потом мы пошли к могиле Ирины Метлицкой. Поехали. Я не туда повез. Ты знаешь, она рядом, на машине всегда проезжаешь. Солнце скрылось. Очень долго мы бродили, пошли на другой участок.
Нашли. Посидели, постояли, пошли к Наде Кожушаной, опять заблудились. Нашли могилу Жоры Епифанцева. Мочалов нашел. Это был уже шок, я даже и не знал, на каком он кладбище. Постояли. О чем мы говорили – не помню. Всякий раз вспоминали какие-то байки, смеялись почти плача. “ Угрюм-река ”, торговля часами, коньячку по пятьдесят. И совсем рядом нашли Надю Кожушаную. У
Нади, я помню, что уже сидел. Вета говорила: “Девочки мои любимые, все разом в один год ”.
Темнело. Не вечерело, но темнело. Когда мы уезжали, Вета сказала
Базилю: “Остановись у Лены. Пусть Сережа попрощается”. Я подошел к тебе и не увидел никаких следов слюны.
Местечко мое рядом, Леночка. Там, где букеты цветов и твоя фотография.
16 октября
Сейчас по телику идет “Скорый поезд ”*. Я зашел к маме в комнату что-то спросить и едва не сошел с ума. Прости, родная. В комнате нашей Шопен. Сейчас я его вырублю. Боже, родная, я держусь на таблетках. Я не могу без тебя. Ну не могу.
Какая ты была красивая, когда в субботу утром я видел тебя в последний раз. Ты спала, ты не сказала мне ни слова.
Господи, что я пишу: “ Едва не сошел с ума ”? Я давно сошел с ума.
18 октября, без пяти два ночи
Леночка, знаешь, за что я не люблю тех, кто лежал в сумасшедшем доме? За то, что они оттуда вышли. Минут десять назад я узнал, что ‹N.› лежала в нем дважды. И она посмела тебя снимать. Тебя – которая убила бы всех в дурке, чтобы убили тебя. Эти из дурки вышли, чтобы убивать тебя, вышли, чтоб святую сделать сумасшедшей. Рожи этих дьяволов что ни день вселяются в нас, но ты – жалостливая к ним вопреки мне и назло – их не просто щадила, ты любила в них своих убийц. Их нельзя держать ни в доме, ни в кино. Мы с ними никогда больше не встретимся.
Блаженные и советские сумасшедшие не имеют друг к другу никакого отношения.
Нас с тобой – просто-напросто – убили. Нашли дорожку. Я без тебя жить не буду. Я – твой. Ты меня получила не на двенадцать лет и семьдесят пять дней, а на всю – всю – жизнь.
Я боюсь вспоминать.
Помнишь, Никите, которому было пять лет, а сейчас он, семнадцатилетний, спит в соседней комнате, однажды довелось идти по улице Горького с тобой рука в руку, идти 7 ноября, а рядом шли мама с папой, – помнишь, когда была коробочка полным-полна, помнишь?
Давай лучше такое. Со мной никого нет. Я один. Ужас. То, что я пишу, ты читаешь, но не там, где я.
Леночка, ты знаешь, я жить не хотел и не хочу, я хотел умереть на твоем плече – о, как бы это было хорошо! – а ты бы умерла сразу, как меня похоронила, – да, да, я тебя люблю, и не хрена жить. Я умер, а ты живешь.
Прости меня, я никого не видел чувственней и духовней тебя. И красивей. Представляешь, что я написал? А хочешь совсем омерзительное? Таковое даже я, наверное, не говорил. Тебе. За пятьсот лет у художника не было такой жены…
Как спокойно… играют Шопена, лампа твоя-наша – стучит и мигает. Скоро, надеюсь, я умру. Или нет – ты подождешь еще чуть-чуть? Жди меня.
А я умру скоро. И это будет очень обыденно и странно.
20 октября, час ночи пять минут
Родная моя, помнишь Иерусалим? Иерусалим, Вифлеем, Назарет,
Генисаретское озеро, Мертвое море? А когда мы были несчастливы?
Помнишь мою руку на камне “Снятие со креста ”? Как потом отвалился черный мой ноготь с пальца, отбитого в Чикаго? И этого больше ничего не будет? Довольно того, что было. Ты, моя советская девчонка, из рода, замученного большевиками, опускала руку туда, где стоял Его крест, в Вифлеемскую звезду, сказала “ люблю тебя” в Назарете, купалась в Тивериадском море, ела арбуз и смеялась от того, что мне было плохо. Апостол Петр рыбу ловил, а я разбил фотоаппарат. Ты смеялась. Ничего счастливее не бывает. Кроме любви, ничего нет.
А помнишь гостиницу, в которой жил Иван Бунин, когда приехал в
Иерусалим? “ Следующий раз мы будем жить в ней ”,– сказал я.
“Дорого ”,– сказала Маша Слоним. “А и хрен с ним ”,– сказал я.
“Шерстюк заработает ”,– сказала ты.
Я заработаю. Я буду жить в ней. Я обещаю. Я буду жить сразу в двух гостиницах, в “Астере ” в Тель-Авиве, в нашей комнате, и в комнатах Ивана Бунина в Иерусалиме. Ты мне рассказала, где жить,
– где ты была счастлива. Так, как в Израиле, где еще? В Испании, на Коста-дель-Соль, на Тенерифе, в Нью-Йорке? И здесь, где я пишу в тетрадке.
25 октября, вечер
Родная, как же я виноват перед тобой! Что же я сделал: как можно было такую больную девочку оставить одну дома? Оставил, чтоб ты выспалась, выздоровела, наплевала на свою мнительность? Ты ведь справилась, когда получила подлую телеграмму, что папа совершенно парализован? Ты ведь справилась, ну рассталась с очередным тупым педагогом (Господи, кто ж делает для людей театр!) – всё ж было прекрасно, когда я примчался с дачи. Как ты радовалась – вот приехал муж, и все встало на свои места. Как же ты надеялась на меня – и вот я оставил тебя одну. О, думал я, у нас такая жизнь, мы же постоянно расстаемся, чтобы встретиться.
Вот и получил.
Теперь я знаю, почему ты забывалась, падала, все роняла, почему ты впадала в отчаяние от пустяка. Прочитав интервью с собой, увидев ошибку или рекламный трюк, ты могла впасть в депрессию, да нет, стресс, да нет, такое отчаяние, будто провалилась земля.
Сейчас я сижу на кухне, мне здесь легче, чем в нашей комнате.
Глядя на мою совершенно никчемную картину с двумя выеденными яйцами на блюдце, ты сказала мне в пятницу, когда лежала на полу, укрытая пледом, закинув голову в подушки, и видела меня вверх ногами, как отражение на той самой картине:
“ Ты мне все сказал ”.
“Что? ” – спросил я.
“ Смерть ”.
“Да какая там может быть смерть в этом неудачном подмалевке? ”
Ты промолчала. Я гладил твое лицо, ты взяла мою руку и поднесла к губам. Целуя мою руку, прошептала:
“Я очень тебя люблю ”.
Господи, как же я мог уехать!
Сейчас два ночи, то есть на моих часах три, однако перевести их вместе со страной нет возможности, эта штучка взяла да отломилась. Сейчас у меня, наверное, полтора десятка разбитых очков и дюжина поломанных часов. Впрочем, надо посчитать. Они и здесь дома, и в мастерской, так что сделать сейчас это не смогу, а налью себе стакан маминого домашнего вина и примусь за дневники – посмотрю, что я там писал году в девяностом, к примеру.
4 ноября, 3.05 ночи
Знаю, что ничего особенно не напишу сейчас. Очень боюсь, что меня по-настоящему еще ничего не шарахнуло: я раздвоился или растроился сейчас, – о нет, это не шизофрения, я, слава Богу, не создаю призраков, хотя… тут есть один финт, о котором, слава Богу, тут же рассказал. Записываю про этот финт, чтобы потом обязательно описать. В назидание, что ли. Ибо не знаю никого, с кем бы такое произошло, – о Господи, это со мной, мечтающим всю жизнь стать обывателем. Целую тебя. Пока.
4 ноября
На кухне опять засор. Слесарь пошел за тросом. Вот так я начал свой день: вычерпывал воду в красное ведро, бегал с ним в туалет, выливал и в промежутках пытался дозвониться в диспетчерскую и к соседям сверху. А мойка на кухне новая, высокая, как ты хотела. Мама пошла в гости, я один.
Ну вот все быстро починили. Кто-то в те дни, когда я ничего не помню, спрашивал у меня, буду ли я носить медальон с твоими волосами, – кто? Я сказал, что да, но сейчас не давайте мне их, не давайте.








