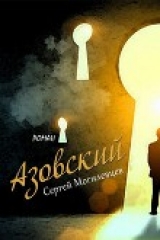
Текст книги "Азовский (СИ)"
Автор книги: Сергей Могилевцев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– Наверное потому, что я кем-то придуман, – ответил я как-то спокойно и тихо.
– Ты не такой, как Бесстрахов! – неожиданно выпалила она. – Ты мог бы ответить, что женишься на мне после школы. Бесстрахов, во всяком случае, ответил бы так непременно.
– Прости меня, Катя, но я сказал тебе правду.
– Кому нужна твоя правда? – закричала она на меня. – Из-за твоей правды у всех одни неприятности. С тобой действительно нельзя иметь дело. Ты действительно сумасшедший.
Она выскочила из-за парты и бросилась к закрытой двери. Я бросился следом за ней.
– Катя, подожди, куда ты идешь? – предпринял я попытку ее удержать.
– Не смей подходить ко мне' – прошептала она со злостью. – Не смей больше со мной разговаривать. Ты просто… Просто… Безмозглая кукла, вот ты кто! – закончили она свою мысль, выскакивая в зал и решительно хлопая дверью.
Стук ее каблуков секунду еще раздавался в моих ушах, а потом сразу умолк, вокруг была тишина. Во всей школе, наверное, не было никого, кроме меня. Я сел сверху на парту, вытащил пачку «Опала», закурил, и стал стряхивать пепел на пол, задумчиво глядя в темный провал окна. Потом встал, потушил сигарету, и пошел в раздевалку. Рядом с раздевалкой неподвижно стоял директор, и, ни слова не говоря, изучающе смотрел на меня. Он был сейчас особенно старым и толстым, и, возможно, видел вовсе и не меня, а какую-нибудь стройку 30-х годов, вроде Магнитки или Днепрогэса. Я быстро оделся, схватил свой портфель и поскорее вышел на улицу. Было холодно, ветел качал редкие фонари, которые бросали на снежную землю неяркие размытые полосы света. Я несколько раз поскользнулся и чуть не упал. Только у кинотеатра, в котором шел сегодня какой-то фильм про индейцев, и который был как раз у меня на пути, было светло и довольно много народа. Фасад кинотеатра в обрамлении высоких заснеженных кипарисов казался ярким светлым пятном на фоне мрака и одиноких качающихся фонарей. Рядом с окошком кассы, несмотря на мороз, героически мерзли многочисленные поклонники Гойко Митича. Я пристроился в конец длинной очереди и неожиданно увидел Башибулара. На лоб у него была надвинута дрянная кепчонка, нос его совсем посинел от мороза, а рукава длинной шинели, в которую он был одет, болтались, как у огородного пугала. Он выглядел жалким и каким-то прибитым, но, тем не менее, решительно пошел мне навстречу.
– Говорят, что ты ухаживаешь за этой девчонкой? За новенькой из вашего класса? Советую тебе – отстань от нее как можно быстрее, – сказал нагло Башибулар, пихая меня своей тощей грудью.
Это был плохой знак. Раз Башибулар начал мне угрожать, значит, мои дела было очень плохи. Он, как стервятник где-нибудь в песках Аризоны, за километр чуял ослабевшего путника. Его, как стервятника, постоянно тянуло на падаль. Спускать это ни в коем случае было нельзя.
– Ну что, подонок, страшно тебе? – шагнул я навстречу Башибулару. – Погоди, сейчас будет еще страшнее! Сейчас ты узнаешь, чем пахнет падаль, сейчас я покажу тебе, где тут пески Аризоны!
Этого было достаточно. Башибулара как ветром сдуло. Но настроение мое испортилось еще больше. Раз уж такие подонки начинают мне угрожать, значит, я действительно сильно запутался. До такой степени, что это видно со стороны. Следовало все хорошенько обдумать. Я повернулся и пошел по сугробам домой. Отец, кстати, как я и думал, сегодня опять ночевал на работе.
22 декабря 1968 года. Воскресенье
Пора мне уже, очевидно, рассказать о своих ноябрьских приключениях. Вы не поверите, но это был настоящий кошмар! Такого и в диком сне ни за что не придумаешь. Особенно этого бдительного ветерана, который оказался на удивление прытким. Даже просто невероятно прытким, несмотря на свой деревянный протез. Впрочем, все начиналось довольно мирно. Если не считать этой бравурной музыки. Надо сказать, что музыкой этой нас во время праздников мучают регулярно. Как только протикает шесть утра, так сразу на крышах включают эти динамики. И ну поливать народ бравурной музыкой и разными маршами. То марш славянки запустят в эфир, то широка страна моя родная, то смело товарищи в ногу, а то «Интернационал» врубят на полную мощность. А после него спать уже ни за что не получится. После него вам становится ясно, что надо стремительно вскакивать, одеваться, и немедленно бежать на ноябрьскую демонстрацию. Этот «Интернационал» вроде как самый главный из воинственных маршей. Если после остальных еще можно крутиться в постели, переворачиваться на бок и закрывать уши подушкой, надеясь поспать еще хотя бы полчасика, то после него это не получится ни за что. Это пытка какая-то слушать подобную музыку. Словно железом по стеклу проведут, или пиликают нарочно одну противную ноту.
Точно так же было и в это утро. Я уже полчаса крутился в постели, а из динамика, установленного на крыше нашей пятиэтажки, все неслись и неслись звуки ненавистных мне торжественных маршей. Под вальс славянки я еще кое-как пытался бороться, еще пытался немного поспать, под вьется в тесной печурке огонь даже на минутку вздремнул, но под смело товарищи в ногу разозлился окончательно и решительно сел на кровати. Карамба, я мог бы еще спать по крайней мере час или два, сказал я себе. Демонстрация в городе начинается в 10 часов, и вставать за 4 часа до ее начала просто безумие, просто абсурд какой-то! Оставлять без последствий это насилие было нельзя, я быстро оделся, схватил плоскогубцы, и мимо давно вставших водителей выскочил из квартиры. На улице военный концерт был еще грандиозней. Синенький скромный платочек кружился в прозрачном воздухе, а сверху на него, словно коршуны, налетали стоящий стеною брянский лес в обнимку с бухенвальдским набатом. И все это усиливалось, перекручивалось, отражалось от стен близко стоящих домов, создавая ощущение шагающей пехотной дивизии, которая забрела по ошибке в наш мирный Аркадьевск, и горланит в тысячу глоток свои любимые походные песни. От этого концерта и мертвые бы перевернулись в гробах! Дальше терпеть это было уже невозможно, я должен был спасать свой беззащитный город от этой стремительной утренней оккупации. Поэтому я обогнул нашу пятиэтажку, и по пожарной лестнице стал подниматься на крышу. Крыша была ровная, гладкая, и вся черная от смолы. Она мелко дрожала от звуков синих ночей, которые взвились кострами для всегда готовых пионеров и школьников. Синие ночи вылетали из пасти огромного мощного колокола, ревущего в сторону прозрачного осеннего моря. От колокола к стоящей посередине крыши небольшой будочке с дверцей тянулись два толстых мохнатых провода. Я подошел к одному из них, нашел старое, замотанное изолентой соединение, и, оголив его, с помощью плоскогубцев разделил провод на две половинки. Сразу же наступила пронзительная тишина. Она была не менее пронзительной и оглушающей, чем рев взбесившегося электрического чудовища. Я даже на секунду зажал себе уши, а когда вновь открыл их, то поразился еще больше: во всем нашем микрорайоне музыка совершенно умолкла. Слышалось пение птиц, жужжание насекомых, с Моряковской горки ветер принес запах увядающей осенней травы, а от спокойного прозрачного моря – запах йода и свежих водорослей. Аркадьевск лежал в глубине широкой долины, окруженный зубцами синеющей Крымской гряды. Мне вдруг стало так хорошо, так спокойно, что захотелось сесть на старый разбитый ящик, неизвестно кем принесенный сюда, и начать писать стихи. Я опустился на этот ящик, и погрузился в свои мечты. Мне думалось сразу о многом: о Кате, о моем друге Кащее, о том, как переживет наш лохматый Дружок сегодняшнюю демонстрацию, и не придется ли ему вновь искупаться в фонтане. Неожиданно внимание мое привлекли какие-то посторонние звуки. Стук! стук! – раздалось у меня за спиной. Я перестал смотреть на синие крымские горы и вынужденно оглянулся. Вы не представляете, кого я увидел прямо перед собой! Это был известный в Черемушках дядя Гришай, бывший партизан, разведчик, а ныне просто бесподобный подонок, награжденный, впрочем, во время войны многими медалями и орденами. Он напивался обычно уже с утра, и ковылял целый день на своей деревянной ноге, бренча прикрученными к пиджаку побрякушками и постоянно нарываясь на ссору. Весь день он околачивался обычно на набережной у бочки с портвейном, а к вечеру упивался настолько, что заваливался спать где-нибудь под забором, успев перед сном погорланить какую-нибудь партизанскую песню. У этого Гришая была, кстати, жена: толстая и горластая баба, которая никогда не тащила его домой, как делают это жены других алкашей, заснувших под забором или у бочки с портвейном. Напротив, она деловито обыскивала у мужа карманы, и, пару раз лягнув его каблуком и матюкнув трехэтажным матом, отправлялась к себе домой. Денег у дяди Гришая обычно не было, поскольку излишки их забирала жена, пенсии ему хватало всего лишь на несколько дней, и он постоянно клянчил на выпивку у кого не лень, даже у школьников, ничуть не стесняясь своих заслуженных орденов. Частенько он кричал о своей нищей пенсии, проклиная советскую власть и тех подонков, которых, по его словам, он не успел поставить к стенке во время своих партизанских подвигов. После таких скандалов его обычно забирала милиция, но сразу же и выпускала назад. Надолго посадить партизанского ветерана наша милиция не могла. Самое же странное заключалось в том, что очень часто этот дядя Гришай выступал перед школьниками на разных патриотических вечерах. Он долго рассказывал о партизанских землянках, о набегах на немецкие гарнизоны, о поимке им важных генералов противника, и, разгорячившись, ругался при этом матом и стучал деревянной ногой. И вот сейчас этот самый одноногий разведчик Гришай, уже, очевидно, пропустивший по случаю праздника стаканчик портвейна, решительно продвигался ко мне, отрезая путь к спасительной лестнице. Как он появился на крыше, было для меня непонятной загадкой. Но мне некогда было ее разгадывать, потому что, обнаружив, что его рассекретили, бывший партизан торжественно закричал:
– Врешь, паразит, от дяди Гришая не убежишь! От дяди Гришая никто убежать не сумеет. Дядя Гришай видал не таких голубчиков. Он не таких ставил к позорной стенке. Ах ты, шкура антисоветская, провокатор, фашист недорезанный. Сейчас ты у меня запоешь, сейчас я тебя, красавца, доставлю, куда положено, сейчас мы быстро с тобой разберемся! – И он застучал деревянной ногой, тесня меня к отвесному краю крыши.
От неожиданности я просто опешил. Только пьяного дяди Гришая мне не хватало в это тихое осеннее утро! От этого дурака можно было ожидать любых неприятностей. Он, конечно, нацепил на свой пиджачок все полученные в партизанах награды, и сейчас, после утреннего стакана портвейна, выражал готовность ловить вражеских диверсантов. А в том, что меня приняли за вражеского диверсанта, у меня не было ни малейших сомнений. Ибо на лице у дяди Гришая крупными буквами была написана решимость изловить всех заброшенных в Аркадьевск шпионов, коварно отключающих столь нужные народу военные марши. Ему, наверное, мерещилась какая-то крупная премия, которую выдают за поимку особо опасных преступников. Следовало немедленно искать спасительный выход. Я метнулся сначала в одну, потом в другую сторону, но бдительный дядя Гришай ловко аннулировал мои ложные выпады. Он на удивление прытко кидался на своей деревянной ноге следом за мной и орал благим матом: «Караул, вредительство, держите его, хватайте врага недорезанного!» Со стороны, очевидно, мы были похожи на артистов балета, исполняющих в честь предстоящего праздника особо сложные акробатические упражнения. Дело принимало дурной оборот. На зов этого дурака действительно могла явиться милиция. А ничего хорошего от милиции ожидать, естественно, было нельзя. Положение было безвыходное, и я решился на крайнюю меру.
– Дяденька, – ласково заговорил я с агрессивным Гришаем, – вы не думайте, я не диверсант какой-нибудь и не агент иностранных разведок, я просто зарядку здесь делал на крыше. А насчет того, что здесь выключили военную музыку, этого я, дяденька, вовсе и не видел никак.
И, сказав эту абсолютно бессмысленную чепуху, я кинулся, как истребитель из облаков, прямо на потерявшего бдительность дядю Гришая, и, проскочив мимо его растопыренных рук, бросился в сторону спасительной лестницы.
– Обманул, щенок, – обиженно заорал оскорбленный мной ветеран, – обманул, сучий потрох, недобиток кулацкий, обманул, гитлерюрген!
От обиды за свое поражение у него по щекам потекли жгучие слезы и он начал коверкать слова. Он, наверное, всерьез рассчитывал на крупную премию, не меньше, очевидно, чем ящик портвейна таврического. И теперь, естественно, очень жалел, что оконфузился таким примитивным образом. Я же, напротив, радовался неимоверно, и, вихрем слетев с пожарной лестницы, пустился стрелой в сторону нашей квартиры. «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!» – донеслось до меня с крыши. Это дядя Гришай, выполнив свой долг ветерана, опять соединил разъединенные мной провода.
Времени у меня совсем не осталось. Я быстренько оделся, нацепил на грудь комсомольский значок, и бегом пустился вниз по подъезду. В дверь высунулась мать и крикнула, что встречаемся, как обычно, всей семьей у фонтана. Как же, подумал я, только у фонтана не хватало мне с вами встречаться! Опять будете глядеть друг на друга, как комиссар на фашистов во время допроса. Или, еще лучше, начнете кидать в фонтан нашу собаку. Нет уж, увольте, я придумаю себе развлечения гораздо приятней. Я лучше пройдусь по нашей аркадьевской набережной, и потом засяду где-нибудь в желтом сквере, и начну оттуда наблюдать жизнь местной публики: изучать алкашей, толпящихся у бочки с портвейном, слушать оркестр пожарной команды и размышлять о разных серьезных вещах. Все это я подумал, сбегая вниз по ступенькам, и, выскочив во двор, сразу же наткнулся на Башибулара и двух Прокуроровых дочек. Рядом с ними стоял сам прокурор, а также другие жители нашего дома, и все они, задрав вверх головы, удивленно глядели на крышу пятиэтажки. Я тоже стал туда удивленно глядеть, делая вид, что вижу впервые такие необыкновенные чудеса. Чудеса же действительно были необыкновенные, потому что на крыше стоял одноногий дядя Гришай, и, стуча себя в грудь, о чем-то вдохновенно кричал своим добровольным слушателям. Слов его, однако, совсем не было слышно, так как из установленного на крыше динамика продолжали вылетать различные марши и гимны. Я помахал дяде Гришаю на прощанье рукой и побежал по направлению к школе. Улицы как раз перекрывала милиция, и мне пришлось долго плутать по разным кривым переулкам. Вместе со мной по переулкам плутала добрая половина нашего города. Перелезая через какой-то забор, я увидел у себя за спиной прокурора и двух его раскормленных дочек. На груди у прокурора была прикреплена алая ленточка в окружении нескольких орденов. Он тоже был ветераном, только, в отличие от дяди Гришая, непьющим. Мне стало жаль нашего прокурора, я подал ему руку и помог перелезть через стену. Потом мы вместе перетянули к себе двух толстушек. Прокурор сказал мне спасибо, дочки кокетливо улыбнулись и сделали реверанс, но мне некогда было с ними любезничать. Я побежал вперед, перелез еще через пару заборов, и успел, к счастью, вовремя.
Я шагал в школьной колонне, держа в руках древко громадного транспаранта. На транспаранте было написано: «Имя Ленина – в сердце каждом, верность партии – делом докажем!» Рядом были другие надписи: про ум, честь и совесть нашей эпохи, про верных борцов за народное счастье, про единство, дружбу и братскую помощь. Звонкий голос нашей старшей вожатой Маши помогал держать ровный шаг. «Раз-два, – декламировала она в мегафон, – Ленин с нами. Три-четыре, Ленин жив. Выше ленинское знамя, комсомольский коллектив!» Впереди нашей колонны располагался школьный оркестр и старательно наигрывал «Варшавянку». Следом за оркестром шагали учителя во главе с новым директором. Среди них был и Кеша. Я вспомнил излюбленное Кешино выражение: «Один татарин две шеренги – становись!» и мы все показались мне таким одиноким грустным татарином, вынужденным одному за всех стоять в двух шеренгах.
Время близилось к 10 часам. Мы медленно продвигались к трибуне. По бокам от нашей колонны стояли плотные шеренги милиции, а за ними – тысячные толпы людей с цветами, флажками и гирляндами разноцветных шаров. В одном месте я увидел балбеса Башибулара. Он с дружками тащил за руку какую-то школьницу в белом фартуке. В руке у школьницы была связка шаров, и она была очень похожа на моих Прокуроровых дочек. Школьница молча сопротивлялась, но тем, не менее, продвигалась в сторону Приморского парка. Я подумал о том, что наш прокурор будет ужасно доволен, если Башибулар изнасилует эту девчонку. Он будет просто ужасно рад, и ни за что его в этот раз не посадит. Может быть – в следующий, но только никак уж не в этот. Деревья Приморского парка были желтыми, но листья еще держались, а под вечнозелеными кипарисами и кустарниками было вообще темно, словно в дремучем лесу. Одним словом, резвись – не хочу. Колонна наша сделала разворот, и как раз пробило 10 часов. Мы подошли к самой трибуне. На трибуне стояли разные знатные люди и среди них я неожиданно увидел дядю Гришая. Я успел уже совершенно о нем забыть, и был теперь неприятно взволнован, увидев его так близко.
Дядя Гришай бдительно вглядывался в проходящие мимо колонны, наклонясь вперед и сделав козырек из ладошки, который приставил ко лбу. Не было никакого сомнения, что он искал среди демонстрантов меня. Эта догадка мне так не понравилась, что я чуть не выронил из рук свой транспарант. Но тут как раз с трибуны начали кричать разные здравицы, и это подействовало на меня вроде воды из холодного душа. Сначала кричали о годовщине и всемирном значении. Потом закричали про солидарность и крах наших врагов. Отдельно прокричали про Прагу и мужество советских танкистов-освободителей. В ответ мы тоже все хором кричали: ура, да здравствует и будем готовы. Я бросил из-за своего транспаранта тревожный взгляд на трибуну, и увидел дядю Гришая, падающего с нее прямо в ряды идущих внизу демонстрантов. Он падал, не отрывая от лба ладошки, однако сильные руки знатных людей подхватили нашего ветерана, и вновь поставили его в нормальное положение. Рядом с Гришаем стоял городской прокурор и любезно помахивал в воздухе красным флажком. Мы обогнули трибуну и по улице Ленина потекли в сторону набережной. У арки с надписью «Граждане СССР имеют право на отдых» от нашей колонны начали отделяться маленькие группы и ручейки, но мне отделиться было нельзя, так как я не мог бросить свой транспарант. Второе древко у него нес мой одноклассник по фамилии Кольченко – личность довольно угрюмая и раздражительная, и связываться с ним сейчас мне не хотелось. От всей нашей колонны шагали теперь по набережной одни лишь держатели транспарантов и красных знамен. Повсюду стояли столики с лимонадом, бутербродами и портвейном, возле одного из них я увидел Катю с родителями. Она посмотрела на меня пытливым вопросительным взглядом, и, как показалось, с досадой отвернулась к родителям. Рядом с фонтаном меня уже поджидали мои собственные родители с сестрой и собакой. По внешнему виду родителей было ясно, что бедному Дружку сегодня опять придется купаться в фонтане. Отец был в своих новых китайских шелковых брюках, а мать в платке и кофточке – оба загорелые и мускулистые, как боксеры перед началом турнира. Мне было их ни капли не жалко, а просто досадно за сестру и собаку. И поэтому, прокричав, что я не могу оставить свой транспарант, я зашагал в поредевшей колонне дальше по набережной. У пристани стояло несколько бочек с портвейном, и около них толпились приятели моего дяди Гришая. Я со злорадством подумал, что сегодня уж он упьется по-настоящему, и, скорее всего, позабудет обо мне окончательно.
Как же жестоко, как же сильно я ошибался? Я недооценил партизанскую выучку, полученную Гришаем в крымских лесах. К сожалению, эта выучка перевернула всю мою дальнейшую жизнь.
Происходило же все вот каким образом. Ми бросали знамена и транспаранты в специально стоящие на набережной автобусы и расходились по своим отдельным компаниям. Я, конечно же, к родителям своим не пошел, а, потолкавшись у пристани и поглазев на чаек, хватавших на лету куски сдобных булок и на игравший здесь духовой оркестр пожарной команды, подошел к бюсту Пушкина и решительно сел на стоящую рядом скамейку. Вся эта праздничная суета мне надоела ужасно, в голове у меня мелькали сплошные знамена, а, между тем, мне так многое надо было обдумать. Вопросов у меня было множество – например, о том, что же мне делать с моим летним романом? Катины призывные взгляды замучили меня окончательно, а я, тем не менее, все откладывал и откладывал свое объяснение с ней. Я понимал, что объясниться с ней мне нужно просто немедленно, но я боялся опять влюбиться в нее, и потерять так дорого доставшуюся мне свободу. А мне необходимо, мне просто ужасно нужна была эта моя свобода. Ведь без нее, без этой высокой одинокой скалы, на которой стоял я, подобно дозору римских легионеров, я сразу же оказывался беззащитным перед целым морем опасностей. Я не мог выдержать постоянные ссоры родителей, не мог презрительно смотреть на нашу классную Кнопку, не мог любить нашего Кешу и ненавидеть директора. Без этой, завоеванной с таким трудом свободы, я опять начинал бояться каждого шороха, и становился, скорее всего, таким, как отец, скрывающийся в своем санатории от матери, от начальства и от моих неприятных расспросов. Без свободы людям живется очень спокойно. Без свободы они становятся такими пай-мальчиками, которым все дается очень легко, которым вешаются на шею красивые девушки и впереди у которых маячит широкая дорога удачи. Я повернул голову и посмотрел на памятник Пушкину, но какой-то посторонний навязчивый шум почему-то мешал мне размышлять о погибшем невольнике чести. Шум этот настойчиво приближался, и наконец остановился у меня за спиной, превратившись в итоге в противный старческий голос: – Попался наконец-то, вражина, попался, вундеркинд недорезанный! Сейчас мы с тобой окончательно разберемся, сейчас ты узнаешь, что значит позорить нашего советского ветерана!
Я вскочил и увидел перед собой дядю Гришая. Он тянул ко мне свои цепкие, похожие на клешни, руки, но единственная здоровая его нога плохо слушалась назойливого и поддатого старикана. А поэтому, отпрянув от неожиданности, я бросился от него в сторону пристани. Цок-цок-цок, – застучало об асфальт у меня за спиной. Я пробежал мимо пузатых бочек, мимо столиков с бутербродами и лимонадом, проскочил сквер у летнего кинотеатра и сел рядом с ним на скамейку. Навряд – ли, подумал я, этот придурок равнодушно пройдет мимо портвейна. Наверняка он застрянет на этих пузатых бочках. И я со спокойной душой опять погрузился в мечты. Мне вспомнилось, что года два или три примерно назад на крыше этого летнего кинотеатра меня коварным образом схватила милиция. Точнее, она схватила не только меня, но и целую группу таких же свободных зрителей, которые предпочитали деревья и крышу тесному неудобному залу, за который, к тому же, надо было платить изрядную сумму. Я не помню, какой фильм шел тогда: не то «Железная маска», не то «Три мушкетера». Милиция загнала нас с разных сторон, подобно охотникам на бизонов где-нибудь в прериях Аризоны, и потом по одному снимала с деревьев и крыши, отправляя в милицейский зарешеченный воронок. После чего несколько часов мы провели в отделении, пока вызванные по телефону родители не разобрали нас по домам. Под расписку о том, что мы исправимся, и больше по крышам лазать не будем. Меня ночное приключение в нашей советской милиции возмутило настолько, что я сочинил большую поэму, посвященную разоблачению этой благородной организации. Что-то крайне воинственное и многословное, полная чушь, одним словом.
Поэма была ужасно длинная, куплетов двадцать, а может и больше, к тому же написана в необыкновенно древние времена, и настолько глупа, что мне даже стало неловко за свое авторство. Но я, однако, продолжал, смеясь, вспоминать ее куплет за куплетом, напоминая, очевидно, какого-нибудь чтеца из кружка устного творчества. Я хотел было продолжить свое чтение дальше, но неожиданно на горизонте опять увидел дядю Гришая. Представьте себе мой ужас и мое изумление, когда до меня дошло, что он не один! А он действительно был не один, ибо стремительно прыгал на деревянной ноге, поддерживаемый за руку суровым усатым милиционером. Милиционер был одет в белый праздничный китель и на боку у него висела белая лакированная кобура. Дядя Гришай что-то с жаром ему говорил, а милиционер, заслонясь свободной рукой от законного ветеранского перегара, бдительно оглядывался по сторонам. Кого он искал, вы, конечно же, догадаетесь без подсказки. Я тоже немедленно догадался об этом, и, вскочив со скамейки, бросился в глубину Приморского парка.
Это были мои владения, мой заповедный королевский лес, я был хозяином в этих аллеях, в этих скверах, зарослях кипарисов и бесконечных узких тропинках. Им ни за что было не догнать меня среди этих родных мне аллей. Но сейчас на каждом углу в аллеях сидели влюбленные парочки, а теплые компании располагались прямо под кипарисами и платанами, разложив на газетах бутылки и купленные на набережной бутерброды. Я перебегал от одного дерева до другого, натыкался на разных людей, и в ответ мне неслись сплошные нецензурные выражения. А за спиной – цок-цок! – слышались звуки деревянной ноги дяди Гришая. Иногда в просветах между деревьями показывалась его нелепая худая фигура в обнимку с усатым милиционером, и слышались призывные крики: «Караул! Хватай его! От дяди Гришая не убежишь!» Я прибавлял ходу, стремительно перебегал через полянки, прячась за каштанами и кипарисами, но, как ни старался, не мог оторваться от этой дурацкой погони. Внезапно на одной из полянок я наткнулся с разбегу на Башибулара и его подонков-дружков. Они как раз лениво застегивали свои брюки, победно ухмыляясь и щурясь на ласковое осеннее солнышко, как сытые мартовские коты. Рядом на полянке оправляла измятое платьице изнасилованная ими школьница. Белого школьного фартука на ней уже не было, а разноцветная связка шаров зацепилась в ветвях стройного кипариса и висела, как переспелая гроздь винограда. Мне было некогда разбираться с Башибуларом, я проскочил через полянку и углубился в лесную чащу. Бежавший за мною дядя Гришай тоже не обратил внимание на подонков, но усатый милиционер сразу же их раскусил. Он на ходу схватил Башибулара за воротник, и стал успокаивать плачущую девчонку. Я притаился за огромным платаном, и стал наблюдать, чем же кончится поимка развратного совратителя. Я хотел было выйти и сказать усатому милиционеру, чтобы он отпустил этого Башибулара домой, предварительно, конечно, обломав ему пару рогов. Что городской прокурор все равно его не посадит. Что он даже рад будет этому праздничному изнасилованию, и, если милиционер надеется на премию или повышение на работе, он должен о них сегодня забыть. Что никакого повышения ему не дадут, а если он будет настаивать, то могут вообще выгнать из нашей советской милиции. Все это я очень хотел сказать усатому стражу порядка, но по полянке прыгал на деревяшке полоумный дядя Гришай и стыдил усатого строже, не желавшего выпускать достойный улов. Он ругал его в таких выражениях, что даже на бумаге передать их никак не получится, а милиционер, разозлившись, стал в ответ сам ругать дядю Гришая. Он по-прежнему заслонялся платком от перегара, которым дышал на него ветеран, другой же рукой бдительно держал извивавшегося и напуганного Башибулара. Школьница, воспользовавшись этим скандалом, тихонько улизнула в сторону соседнего сквера, сообщники Башибулара, естественно, тоже исчезли. А дядя Гришай, видя, что помощи ждать бесполезно, плюнул в сердцах, ругнулся в последний раз, и бросился догонять меня в одиночку. Я оставил свой наблюдательный пост, и стремительно бросился в глубину темной аллеи. Сердце мое бешено билось, к горлу подступала тошнота и липкий противный страх. Все ужасы мира сошлись для меня в этом неутомимом одноногом ветеране, оторваться от которого я почему-то не мог. Аллея кончилась, и впереди показалась спокойная гладь осеннего моря, которое сейчас было по-особому голубым и прозрачным. Таким пронзительно-голубым море бывает только осенью, в пору необыкновенно теплого, последнего в этом году бабьего лета. Два огромных гранитных шара, отполированные задами детей, охраняли ступеньки, ведущие к песчаному пляжу. Сейчас, по случаю праздника, на пляже, расположившись на топчанах, сидели кучками люди, и пили свой неизменный портвейн, заедая его бутербродами с колбасой и селедкой. Из ресторана-поплавка слышались звуки джаза, в воздухе алели знамена, а прямо передо мной, возвышаясь, как древний форт, поднимался громадный серый памятник с траурными урнами по бокам, траурными каменными лентами и огромной, горящей зловещим рубиновым огнем звездой на самой его вершине. Выбора у меня не было, ибо от страха я потерял способность что-либо соображать. Я стремительно проскочил открытую зону, сбил с ног какую-то старушку с широкой вывеской орденов, висящих на ее тощей груди, взбежал к подножию памятника, открыл крышку круглого железного люка, и юркнул в его спасительную прохладную глубину. Крышка захлопнулась, и звуки внешнего мира тотчас исчезли. Я упал на что-то острое и холодное. Оно лежало огромной кучей на дне темного и затхлого подземелья, и при каждом неосторожном движении с сухим треском ломалось у меня под ногами. С потолка падали капли воды, а сверху, через отверстие на вершине памятника, глядел на меня огромный рубиновый глаз, похожий на глаз сказочного дракона, охраняющего свое мрачное подземелье. По боковой стене к вершине памятника вела ржавая железная лестница. Понемногу глаза мои стали привыкать к темноте и необычности обстановки, и я неожиданно осознал, где же сейчас нахожусь. Я вдруг вспомнил, что стою на костях первого правительства Крыма. Ужас охватил меня, я закричал, и бросился к железным перилам лестницы. Но только я к ним прикоснулся, как сверху, около железного люка, раздались звуки деревянной ноги дяди Гришая. Я понял, что погиб окончательно! Как кошка вскарабкался я по лестнице на самую вершину и застыл рядом с огромной стеклянной звездой. Дальше пути не было. Мне предстояло умереть в этом нелепом и жутком месте. Люк в памятнике открылся, что-то тяжелое прыгнуло на гору мокрых костей, и снизу раздался довольный голос дяди Гришая:








