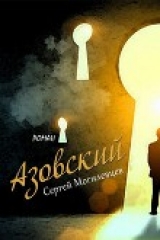
Текст книги "Азовский (СИ)"
Автор книги: Сергей Могилевцев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Все уже кончилось, и я сидел за своим столом, глядя в покрытое узором окно и машинально вращая ручку приемника. Рядом на книжной полке стояли Стивенсон и Майн Рид, потрепанное жизнеописание великих алхимиков в обнимку с тремя мушкетерами, комплект журнала «Знание – сила», а также Шекли, Брэдбери и кое-что из любимого и ценимого мною. В аквариуме, ловя последние крошки корма, раскрывали жадные рты гуппии и меченосцы, черная моллинезия чертила в зеленой воде стремительные круги, лавируя между водорослями и подводными гротами, ленивые сомики неподвижно лежали на дне рядом с рапанами и морскими камнями. В соседней комнате тихо плакала мать, рядом с ней на серванте лежал злополучный журнал. Кнопки, конечно же, в доме давно уже не было, но запах ее прочно держался в воздухе, а в ушах звучали слова: «Ваш сын совершил тягчайшее преступление! Придумать такое в день ноябрьской демонстрации мог лишь один человек во всей нашей школе! И как он все долго скрывал, вы не поверите, но прошло больше месяца, прежде чем история эта вышла наружу. Если бы не помощь нашего советского ветерана…» Напротив меня в своем уголке что-то мастерила куклам сестра. Она отмалчивалась, и было неясно, как относится ко всем этим событиям. Отец с работы еще не пришел. Он теперь вечерами задерживался в санатории, колдуя со своими снимками и рентгеновскими аппаратами. Иногда он оставался в санатории ночевать, и тогда по ночам из соседней комнаты слышались приглушенные всхлипы матери.
Я передвинул ручку настройки, и «ВЭФ» мой внезапно ожил. Это был «Голос Америки». Опять передавали о Праге. Я стал внимательно слушать – меня эта тема до ужаса интересовала. Меня уже давно в военкомате пообещали сделать танкистом, не знаю сам, почему, но тема танковых атак и сражений мне теперь поневоле была близка. Вражеский голос бодро сообщал, что в Праге танковые бои уже завершились, но снайперы в городе еще оставались, и наши войска несли ежедневно потери. Я представил себе советских танкистов, погибающих в братской стране ради счастья другого народа. Как жалко, что я нахожусь сейчас здесь, в маленьком, насквозь промороженном городке, а не там, на мощеных улицах Праги, в дыму и чаду уличной перестрелки. Впрочем, как говорит наш новый директор, перестрелок и войн хватит на нас на всех. У нас у всех еще впереди войны и танковые атаки. Так что моя Прага от меня никуда не уйдет. Я замечтался, потерял интерес к передаче, и стал думать о разных вещах. О Кате. О пальмах. Об обнаженной красотке. Об историях великих алхимиков, вроде знаменитого Калиостро или Клеопатры Египетской. О превращении ртути в золото, о тайных лабораториях, которые существовали в глубине египетских храмов, и в которых, задолго до нашего времени, были сделаны потрясающие открытия. Потом подошел к самому главному. Вы не поверите, но я давно уже совершил потрясающее открытие. Оно такое невероятное, что я не решаюсь даже произнести его вслух. Итак, все дело в том, что мой отец – Павлик Морозов.
Первый раз, когда я догадался об этом, меня словно током пронзило' Все стало очень понятным и ясным. Однако догадался я об этом не сразу. Несколько лет я очень мучился оттого, что совершенно не понимаю отца. Ну вот просто не мог я его понять, и все! Не походил он на отцов моих одноклассников ни поведением своим, ни обликом, ни манерами и привычками. Сначала я считал его очень романтическим, почти что героем гражданской войны. Ну не гражданской, конечно, потому что он и на фронте-то Великой Отечественной был по молодости всего лишь около года. И не солдатом, а фельдшером в военном госпитале. Но зато до войны объездил почти всю страну – от Камчатки до Бреста, как говорит Кеша, когда желает показать всю необъятность наших советских просторов. А объездил он всю страну потому, что был, оказывается, беспризорником, очень рано ушел из дома и побывал в тысячах переделок. Помню, как года три или четыре назад я просто балдел вечерами, когда отец рассказывал мне свои беспризорные истории и приключения. Например, был у него такой случай. Собрали их в каком-то специальном приемнике для беспризорных и хотели отправлять по разным детским домам. Отец, конечно, наврал поймавшим его комсомольцам, что родителей у него нет, что он круглая сирота и скитается по дорогам с раннего детства. Хотя, конечно, это было вранье и родители у него, естественно, были. Но он в это время был очень романтично настроен, и поэтому выдумал, что родителей не имеет. Его и направили в этом приемнике в один из ближайших детских домов. А перед самой отправкой один беспризорник, как оказалось потом, настоящий бандит, предложил остальным беспризорникам поднять восстание и убить воспитателей спецприемника, которые целыми днями заставляли воспитанников маршировать во дворе в красных галстуках под звуки барабана и горна. Идея понравилась сразу, быстро организовали штаб, нашли даже несколько револьверов с патронами и стали по одному вызывать беспризорников для беседы. Дело было глубокой ночью, отца завели в какой-то темный подвал, приставили к виску револьвер, и зловеще спросили:
– Признавайся, пацан, ты дуешь, или правду говоришь? Это был очень важный вопрос, вроде пароля, от которого зависела жизнь испытуемого. Очень многие не ответили на него, и прямо тут же в подвале были убиты. Я уверен, что и вы не справились бы с этим паролем, как не справился с ним я сам, наивно полагая, что надо говорить правду, которую требовали от беспризорников воспитатели. Однако в этом была ошибка, в которой-то и заключалась вся тонкость вопроса. Ибо надо было именно дуть, то есть финтить, говорить неправду, навешивать лапшу на уши воспитателям спецприемника, которые догадывались о предстоящем восстании и принимали свои срочные контрмеры. Говорить же правду означало не что иное, как раскрытие воспитателям момента будущего восстания, что, конечно же, было контрреволюцией. Отец эту тонкость вовремя осознал, и ответил, что дует, а правду не говорит никогда. После этого он был введен в число заговорщиков, хотя и не главных, и узнал время близящегося переворота. Оно было назначено на ближайшее утро. Утра он, однако, дожидаться не стал, а, справедливо полагая, что исход революции заранее неизвестен, тихонечко улизнул из приемника. Позже от знакомого беспризорника он узнал, что революция завершилась полной победой восставших: воспитателей, пользуясь внезапностью, перестреляли и передушили по одному. Некому тетерь было заставлять беспризорников маршировать в красных галстуках и белых рубашках под барабан и горн во дворе ненавистной тюрьмы. Комсомольско-педагогический коллектив ее был повержен, имущество экспроприировано, а в кабинете директора заседал революционный штаб главарей, объявивших наступление эры полного коммунизма и общности всего имущества свергнутых угнетателей. К сожалению, коммунизм этот продолжался недолго. Подоспел отряд местной милиции, и заговорщики, в свою очередь, были на месте расстреляны. Тех же, кто уцелел, отправили в колонии для малолетних преступников. Тут сразу почти началась Отечественная война, и героический облик отца-беспризорника, которым я искренне упивался, сменился не менее героическим обликом фронтового врача. Точнее – фельдшера, ибо отца в конце концов изловили комсомольские борцы с беспризорщиной и отправили в техникум, выпускающий фельдшеров.
Год или два отец все же повоевал, под вражеским артобстрелом вытаскивал раненых с поля боя, и я, конечно, все это жутко переживал вместе с ним. Особенно то место в рассказах отца, когда он сидел в огромной свежей воронке, оставленной немецкой авиабомбой, и вдруг почувствовал – нужно немедленно уходить. Вообще-то в одно и то же место два раза снаряд или бомба не падают. Но в этот раз было именно так: отец отполз от воронки всего лишь несколько метров, и в нее сразу угодил новый немецкий снаряд. Я так и видел это изрытое воронками поле, я переживал все не менее остро, чем в свое время отец, который после войны очутился в лагере для пленных японцев. Японцы мерли в этом лагере один за другим, и отец придумал отпаивать их настоем из хвои. Однако лагерное начальство посчитало эту затею излишней, и у отца были крупные неприятности. Какие крупные, он конкретно не говорил, но несколько лет в его биографии остались для меня навсегда белым пятном. Потом все опять пошло более-менее гладко. Отец закончил мединститут, переехал в наш городок и стал очень крупным медицинским начальником. По местным, конечно, понятиям. Он сидел у окна на втором этаже бывшей дачи какого-то миллионера и писал один за другим отчеты областному начальству. Именно в это время начались у меня с ним первые неприятности. Именно тогда – а было это год или два назад – стали появляться у меня первые росточки сомнений. Судите сами: отца моего зовут тоже Павлик, он тоже, как и настоящий Павлик, родился в двадцатых годах. Вы скажете, что Павликов в нашей стране миллионы, и будете, конечно же, правы. Вы скажете, что это просто абсурд, просто чушь, ибо настоящий Павлик погиб от руки кулаков. Все это так, и много еще чего можно привести против моей гипотезы.
Однако, раз уж я вбил себе в голову какую-нибудь идею, то не откажусь от нее ни за что. Все хожу и думаю: Павлик! Павлик! И даже ночью снится мне этот Павлик Морозов. А в школе как посмотрю на галерею портретов пионеров-героев, как увижу в ней настоящего, давно убитого Павлика, так сразу начну их сравнивать. Просто стою и сравниваю отца с Павликом, нарисованным на портрете. И форма лба вроде бы у них одинакова, и нос, и губы, и даже форма ушей. И уговариваю себя, что этого быть не должно, что я просто зол на отца за его грубость по отношению к матери. Что у него неприятности на работе, и он уже не большой медицинский начальник, а просто врач в санатории для туберкулезных больных. Что я уже не могу им издали любоваться, и это меня, конечно же, бесит. Вот я и выдумываю всякую чепуху, всякие нелепые истории. Вроде того, что Павлика кулаки не убили, вернее – убили, но не до конца. Что он убежал из дома, стал беспризорником, имел кучу всяческих приключений, вырос, воевал с немцами, учился в мединституте, а под конец оказался у нас в городке. Все сходится, и никуда от этого уйти теперь я не могу. Особенно после тех двух случаев.
Оба они произошли этой весной. Один во время празднования Первомая, а другой чуть раньше. Вот с него-то я и начну. Надо сказать, что я большой любитель выдумывать всяческие истории. Вот просто рождаются они во мне одна за другой, и приходится потом жить вместе с ними, как будто они твои родные братья и сестры. Помню, как выдумывал я разные истории о полководцах Наполеона, одним из которых был я сам. Или историю о тайной лаборатории в одном из египетских храмов, где получал я из ртути золото и оживлял мумии давно умерших фараонов. Потом родилась история с этим Павкой Морозовым. Хотя, в отличие от египетских фараонов, она, к сожалению, могла оказаться правдой. А вслед за Павкой Морозовым я выдумал про это оружие. Про тайный склад я, конечно, выдумал все от начала и до конца. И про то, как сложены там горы всяческих пулеметов и автоматов. И про ящики с патронами, которых там столько, что можно ими вооружить целую армию. И про пистолеты разных калибров, из которых можно запросто пострелять, и про бомбы, и про гранаты, и про многое что еще. Я не знал и сам, почему выдумал всю эту историю. Быть может, я начитался книг про войну, или на меня подействовали рассказы отца про бомбежки и воронки от немецких снарядов. Но врал я про свой склад вдохновенно, описывая до малейших деталей: и как гильзы из пистолета выскакивают на пол моего тайного склада, когда стреляешь из них по мишеням, и какая сильная у пистолета отдача, и как пахнет гарью от пороха. Все точь-в-точь, как описано в книгах о партизанах и юных подпольщиках. Мне кажется, что вот именно этого – моего воображения – отец мне и не простил. Он мог простить все остальное: и то, как долго отказывался называть я ему место расположения тайного склада, и то, как долго водил его в заброшенном татарском саду между колючих зарослей ежевики и обвалившихся стен каких-то старых домов. Он даже наверняка простил бы мне свои ободранные о ежевику руки, порванные о ржавый гвоздь брюки, свое разочарование и досаду за несколько впустую потерянных дней. Но мое воображение, к сожалению, простить мне отец не смог. Все дело в том, что сам он толком выдумать ничего не умеет. Просто не приспособлен он для такой роли, и все тут. Лично я ничего плохого тут совершенно не вижу. Есть люди, приспособленные для одного и не приспособленные для другого. Я, например, никогда не смог бы стать ни фельдшером, ни врачом, ни даже каким-нибудь простым санитаром. Не смог потому, что от вида крови меня просто тошнит. А уж о том, чтобы дотрагиваться до мертвецов, к примеру, не может быть вообще никакой речи.
К сожалению, отец не такой. Моя выдумка с тайным складом оружия его просто вывела из себя. Он просто разъярился, как тигр, прямо стал бросаться на стены, а потом неожиданно, впервые за все восемь лет, явился к нам в школу и долго перед всем классом описывал мой ужасный поступок. Кнопка и Маркова, конечно же, были на вершине блаженства. Они до этого думали, что на мою сознательность нельзя уже ничем повлиять. И вдруг – такой уникальный случай! Они решили, что, если насядут на меня с разных сторон, то, может, что-нибудь из этого и получится. Хотя что они хотели из меня получить, я думаю, они до конца не знали и сами. Просто им надо было кого-то воспитывать, выявлять и выяснять. А что конкретно выявлять – это их, по-моему, совсем не заботило. И вот теперь, когда отец заявился к нам в школу, они обрадовались невероятно. А я, как ни странно, не только не испытывал какого-нибудь стыда, раскаяния, и так далее, а просто погрузился в глубочайшие размышления. У меня уже тогда мелькнула первая мысль, что ничем мой отец от Кнопки или Марковой не отличается. Для него тоже главное – разоблачить чью-нибудь выдумку. Чей-нибудь неблаговидный поступок. Обидно было, конечно, что он разоблачает поступок родного сына, но, как ни странно, я сразу же ему все простил.
Я прямо в классе, во время моего разоблачения, решил, что прощаю ему все. У меня, конечно же, мелькнула мысль о предательстве. О том, что только Павлик Морозов, который когда-то предал родного отца, мог бы так поступить. О том, что предательство родного отца ничем не отличается от предательства сына. И что, став взрослым, Павлик вполне мог так поступить. Но я быстренько отогнал от себя эти мысли. Я решил, что все прощаю ему. Прощая потому, что… Одним словом потому, что он мой отец, пусть хоть и без большого воображения, пусть хоть и бесят его все эти непонятные выдумки. Быть может, со временем я смогу его к ним приучить. Поэтому визит в школу отца совершенно ни к чему не привел. Наши активистки остались разочарованы, а Кнопка, поразмыслив обо всем хорошенько, решила подобраться ко мне с помощью матери. Она угадала мое слабое место. С отцом у меня все продолжалось по-прежнему. Будто ничего и не произошло. О складе оружия мы больше не разговаривали.
Второй же случай произошел этой весной во время празднования Первомая. Я уже был настолько измучен своими подозрениями о Павке Морозове, что ничем другим заниматься просто не мог. Даже жизнь городских бандитов меня больше не занимала, и я потерял с ними всякую связь. После школы я шел бродить по своим аллеям, а потом возвращался домой, менял воду рыбкам в аквариуме, брал свой «ВЭФ» и настраивался на «Голос Америки». Но все это занимало меня лишь на малое время, я отвлекался, погружался в раздумья, и неизбежно опять приходил к этому Павлику. Так продолжилось до самого Первомая.
Я никогда не любил праздников. Да и за что их любить? В шесть часов утра на крышах домов начинают кричать динамики, из которых несутся марши, гимны и революционная музыка. Потом по всему городу начинают собираться колонны, которые часа через два двинутся к центру навстречу трибуне. Повсюду стоят наряды милиции, по этой улице пройти уже невозможно, по той тоже, люди мечутся, боясь разойтись со своей колонной. Родители перед выходом, естественно, мечутся тоже, мать и сестра, что-то гладя на кухне, под ногами путается наше собака Дружок, шум, лай, никто ничего не может найти, все друг друга торопят и обвиняют, уславливаются встретиться после всего у фонтана, торопливо пьют чай и разбегаются каждый в поисках своей первомайской колонны. Ужас, одним словом, и совсем не похоже на праздник. Однако именно Первого мая я окончательно понял, что мой отец – настоящий Павлик Морозов. После демонстрации, как всегда, мы встретились всей семьей у фонтана: я, мать, отец и сестра со своим неразлучным Дружком. Все шло, как обычно: приветствия, раскланивания, бравурная музыка, воздушные шары в руках у детей, школьный оркестр, весь день играющий у фонтана. Вроде бы и не было вчерашнего вечера, вроде бы и не ссорились в очередной раз родители, а мы с сестрой не делали вид, что нас это совсем не касается. Но, видимо, вчерашняя ссора для родителей даром не кончилась, они до сих пор были нервные, и мечтали на ком-нибудь отыграться. Для отца такой жертвой стал добродушный Дружок, который, очевидно, сделал что-то не так. Что-то такое, что крайне отцу не понравилось. То ли он поступил ему на ботинок, то ли отец вспомнил вчерашнюю ссору с матерью, но кончилось все страшным шумом и визгом. Бедный Дружок, отчаянно визжа, барахтался в воде посередине фонтана, мать в голос рыдала, сестра кричала, а отец стоял невозмутимый, как статуя Ленина, и с интересом смотрел на добровольцев-мальчишек, вылавливающих из фонтана нашу собаку. В этот момент я окончательно понял, что он и есть настоящий Павлик Морозов.
Я знал, что Павлик Морозов был пионерским героем, и, следовательно, иметь такого отца многие сочли бы за великое счастье. Но, странно, я никакого счастья совсем не испытывал. Наоборот, именно после того, как я убедился в своей правоте, я возненавидел его особенно сильно. Я ненавидел героя, и ничего не мог с собою поделать.
Именно в это время отец мой увлекся научной работой. Я сразу же возненавидел всю эту работу, все эти блестящие рентгеновские аппараты, никелированные шкафы и мотки бесчисленных проводов, заполняющие его кабинет в туберкулезном санатории не краю города. Дело, однако, было не просто в научной работе – отец однажды проговорился, что мечтает работой своей осчастливить всех ныне живущих людей, изобретя универсальное лекарство от туберкулеза. Я часто потом замечал эту черту в разных людях: очень многие мечтали осчастливить все человечество, не спрашивая у данного конкретного человеке – желает он этого счастья, или, напротив, с детства мечтал в тридцать лет загнуться от туберкулеза? Родители теперь ссорились почти ежедневно, и отец часто оставался ночевать на работе, подложив под голову кипу свежих рентгеновских снимков. Я уже совершенно не восхищался им, не старался ему подражать, а, напротив, постоянно хамил и нарывался на ссору, высмеивая идею изобретения чудо – лекарства. Это принесло свои результаты: во время летних каникул, отвечая на какое-то замечание, я обозвал его дураком, и мы перестали с ним разговаривать. Так и не говорим до сих пор: молчим, отворачиваемся при встрече, и делаем вид, что ничего не случилось.
Я не спал, ворочался на кровати, и думал о тех проблемах, которые мне предстояло решить. Вообще-то таких проблем было несколько, а одна из них – тайна моего родного отца – вообще, по-моему, не могла быть решена в ближайшее время. Поэтому о ней не стоило даже и думать. Тем более, что я уже передумал о ней достаточно. Вторая была женской проблемой. Но это была проблема не только моя, а очень многих моих знакомых. И никем она, за исключением моего друга Кащея, до конца решена не была. Женская проблема состояла из многих пунктов: жениться мне когда-нибудь, или нет, влюбляться в кого-нибудь, или не влюбляться, хотя последнее, увы, происходило без моего ведома – влюблялся я весьма регулярно; почему очень красивые девушки часто бывают невообразимыми стервами, вроде наших пламенных активисток, и растрачивают свою молодость на разные общественные собрания и комитеты – в этом случае, по моим наблюдениям, они, правда, довольно успешно дурнели; был еще целый ряд весьма деликатных вопросов, связанных, к примеру, с подглядыванием в женскою душевую, или тем, считать ли изнасилование партизанки Снежковой немцами действительно изнасилованием, или высоким подвигом во имя Родины; короче, вопросов была целая куча, и решить даже один из них за вечер не представлялось никакой возможности. Лучше всего размышлениями о женской проблеме заниматься в школе во время уроков, решил я про себя, и стал думать о страхе. Это, к сожалению, еще одна нерешенная мною проблема, которых, как видно, набирается у меня целая куча. Сам я, кстати, начал бояться очень рано, года в два или три. У меня была тогда нянька, которая пугала меня волками. В итоге я стал выдающимся специалистом по этим волкам, большим, наверное, чем настоящие охотники на волков. Они снились мне ежедневно на протяжении многих лет. Нянька моя давно куда-то исчезла, а волки продолжали сниться каждую ночь. Я просыпался по ночам оттого, что они кидались на меня, и разрывали зубами на части. Мне было ужасно страшно, но потом это постепенно прошло, волки исчезли, а страх по-прежнему во мне оставался. Лежу я, к примеру, на пляже в компании Сердюка, и страшно боюсь, что сейчас подплывет дежурный спасатель на лодке, и за что-нибудь меня отругает. Я понимаю, конечно, что все это отчаянная чепуха. Что дежурный спасатель сам большой приятель местных бандитов, что к нему запросто можно подплыть и даже забраться в лодку. А если захочется – погрести и покатать в ней какую-нибудь приезжую девочку. Так делают все, и ничего необычного, а тем более страшного, ни в спасателе, ни в лодке его нет и в помине. Я все это хорошо понимаю, но, не смотря ни на что, очень боюсь. Даже озноб меня пробирает, и мурашки высыпают по всему телу. Боюсь, и все тут, и ничего поделать с собой не могу. Словно болезнь какая-то, от которой у меня нет лекарства.
Сперва я очень переживал, думая, что я какой-нибудь перерожденец, потому что никто не боится, а я как дурак трясусь целыми днями. Но потом я открыл, что другие тоже боятся. Это было потрясающее открытие! Не менее потрясающее, чем открытие тайны моего родного отца. Я, помню, дошел до того, что запросто подходил к какому-нибудь человеку, и спрашивал у него: «Ну что, боишься, приятель? Подожди, скоро будет еще страшнее!» Эффект был потрясающий! Очень многие, даже взрослые люди, пугались настолько, что не могли слова сказать. Некоторое бледнели, другие хватались за сердце, а дети начинали просто в голос реветь, и звали маму, размазывая по щекам слезы и сопли. В итоге я настолько обнаглел, что начал приставать со своим вопросом даже к бандитам. Вы не поверите, но результат был такой же! Многие пытались от меня откупиться, пытались задабривать ласками и уговорами, и даже предлагали познакомить меня с интересными девочками. Авторитет мой возрос до того, что сам Сердюк стал посматривать на меня с подозрением, жалея, очевидно, о том, что взял в фавориты такого опасного человека. Я понял, что обладаю абсолютным оружием. Таким, как в рассказах Брэдбери или Шекли. Я не сомневался, что, умело пользуясь им, мог бы покорить своей власти весь мир. Ну не мир, конечно, мир это я слишком загнул, а вот стать местным королем года через два или три с этим абсолютным оружием мне бы не стоило ничего. Беда, однако, состояла в том, что сам я тоже боялся, и, следовательно, мое абсолютное оружие было направлено не только против других, но и против меня самого.
Быть может, я принял эстафету всеобщего страха у своего родного отца. Я помню, как боялся отец потерять свое место большого начальника, пишущего отчеты. А до этого он боялся, что его убьют на войне. А еще раньше – что его убьют беспризорники. Теперь он боится, что поссорится с матерью, и, наверное, боится меня, Потому что чувствует, что я когда-нибудь спрошу у него, Павлик он Морозов, или не Павлик. Он, наверное, даже рад теперь, что мы не разговариваем. Вот и отсиживается в своем рентгенкабинете, думает, что я не приду и не спрошу напрямик все, как есть. Меня это возмутило настолько, что я решил было сейчас же встать и идти к отцу объясняться. Но на улице была холодная зимняя ночь, и идти вновь по заледенелым аллеям мне не хотелось. Поэтому я опять стал думать о страхе.
Единственным человеком, пожалуй, на которого мой вопрос о том, боится он, или нет, не произвел никакого эффекта, был один местный боксер по прозвищу Дуб. Вообще-то настоящая его фамилия была Дубинин, но все звали его именно Дубом. Я, кстати, не сказал еще, что этим летом был в пионерском лагере около Ялты. Родители отдали меня туда на месяц, чтобы выяснить до конца все свои претензии один к другому. Но, видимо, претензий этих накопилось так много, что они до конца ничего не выяснили, а, наоборот, все продолжают и продолжают их выяснять. Я же целый месяц почти пробыл в этом лагере, за что сначала очень на родителей разозлился, главным образом потому, что пришлось общаться с придурками вроде этого Дуба. Но под конец я даже был им благодарен. Благодарен потому, что… Одним словом, я, возможно, расскажу об этом, если решусь. А не решусь, так не расскажу ни за что. Так вот, что касается этого Дуба. Он был боксером из Ялты, ходил там в спортивную боксерскую секцию, и ужасно, естественно, этим гордился. Сначала он рассказывал разные невероятные байки о том, как ялтинские боксеры побили у себя всех местных бандитов. О том, что король города у них тоже боксер, и все из той же самой спортивной секции, что и этот Дуб. В общем, заврался он настолько, что все просто рты открыли, а закрыть их забыли. Так и ходили несколько дней с открытыми ртами. Что ребята, что девочки. А он, естественно, этим быстро воспользовался, и организовал в лагере из ребят оперативный отряд, который стал везде наводить свой порядок. Никто ничего самостоятельно сделать уже не мог, за всем в лагере эти оперотрядовцы постоянно следили. Пойдешь, бывало, на речку, или на высокие скалы, которые назывались исары, и во время войны служили для тавров наблюдательным пунктом, – а тут как раз появляется посланец от Дуба. И начинаются расспросы: а зачем ушел, а чем занимаешься, а о чем думаешь, а почему в пинг-понг не играешь? Чуть ли не до того доходило, почему, не играешь в куклы и дочки-матери и не пускаешь слюни по поводу успехов боксеров из Ялты? Мне в конце концов это надоело настолько, что я при всех высказал Дубу все, что о нем думаю. Ну не все, конечно, за все они бы убили меня на месте. А только то, что тоже, между прочим, знаком с ялтинскими бандитами. Что многие бандиты из нашего города прятали в Ялте награбленное барахло. А ялтинские, наоборот, прятали награбленное у нас. И что никогда я не слышал, чтобы бандиты из Ялты были сплошными боксерами, да и вообще о боксерах ни разу никто не упоминал и не говорил совершенно. Будто их вовсе не было. Так что не надо ставить боксеров выше остальных спортсменов: борцов, например, или штангистов. И что для бандита главное вовсе не спорт, а голова, которая должна быть настоящая, а не дубовая. Потому что с дубовой головой в бандитизме многого не добьешься. Что можно, конечно, с ней быть чем-то вроде боксерской груши, но не больше. И все в том же духе. Короче, осадил я Дуба изрядно, и он был вынужден оставить меня в покое. Но злобу затаил на меня страшную. И, как будет следовать из дальнейшего, решил в конце концов мне отомстить.
Надо сказать, что в нашем лагере все обязательно с кем-нибудь дружили. Даже больше – объяснялись в любви. Просто мода пошла какая-то – писать записку о том, что ты ужасно влюбился, и отправлять такую записку на ниточке вверх, где была палата у девочек. К кому конкретно придет такая записка – заранее сказать было нельзя. По той причине еще, что никто этим любовным запискам большого значения не придавал. Вот все и писали ужасную чепуху, вроде того, что: «Люблю тебя сильней и сильней, спустись быстрей и стань моей!», «Люблю, изнываю, свидание назначаю!» и все в том же духе. Записки же о назначении свидания и о том, что ты в кого-то влюблен, вообще посылались вверх десятками, если не сотнями. Особенно во время тихого часа. Занимался, кстати, этим вовсю и Дуб со своей командой. Записки с любовными объяснениями так и скользили в окне на ниточках вверх, а сверху, от девочек, тоже спускались такие записки. Для них это тоже было вроде игры, и никто поначалу не обратил внимания, как то одна, то другая пара все чаще стала уединяться в тенистых аллеях нашего лагеря. Все чаше стали говорить о том, что кто-то в кого-то влюбился по-настоящему, было даже несколько драк из-за девочек. А одну девчонку по причине влюбленности родители срочно забрали домой. Половина команды у Дуба тоже влюбилась, и рейды его по темным уединенным местам в конце концов прекратились. Теперь во всех уединенных местах сидели, прижавшись один к другому, безмолвные парочки. Короче, настоящая эпидемия любви охватила наш лагерь. Как-то незаметно влюбился и я.
Я вообще-то очень влюбчивый человек, и влюблялся в своей жизни множество раз. То в учительницу какую-нибудь влюблюсь, то в какую-нибудь девчонку из нашего класса, то в соседку со двора, или даже в киноактрису. Было время, когда я ужасно влюбился в выдающегося борца за права негров Анджелу Дэвис. Я все ходил и повторял про себя: Анджела Дэвис! Анджела Дэвис! Хотел даже письмо ей в Америку написать с объяснением в любви, но потом передумал. Не помню уже, почему. Но в этот раз, однако, я, кажется, влюбился по-настоящему. Я даже не понял и сам, как быстро у меня все получилось. Сказывалась, очевидно, моя постоянная влюбчивость, в также то, что после Анджелы Дэвис я долго никого не любил. Поэтому я влюбился в Катю с первого взгляда. Это уже потом оказалось, что она будет учиться у нас в классе. А тогда, после моей дурацкой записки, где я назначил время и место встречи, да, кажется, написал какую-то чушь про любовь до гроба, я встретился с ней первый раз. То есть, конечно, я видел ее до этого в компании девочек, видел ее на море и во время игры в волейбол или настольный теннис. Во время утреннего построения я видел ее тоже, но, если честно, мне было некогда обращать внимания на девчонок. Если мне надо было, я мог влюбиться и в какую-нибудь потрясающую киноактрису, а не то, что в пятнадцатилетнюю девочку из нашего города. Дело в том, что все свободное время я проводил где-нибудь у реки, или на вершине скалы. Я даже на море часто отказывался ездить со всеми, придумывая всякий раз какую-нибудь причину: то что горло у меня болит, или что я подвернул себе ногу. Я обычно оставался один, и начинал думать о том, что нет смысла жить. О том, что нет смысла влюбляться, или, допустим, учиться в школе. Все равно от общего страха не убежишь, и волей-неволей придется, как все, трястись от каждого шороха. Или становиться толстокожим, как Дуб. Ни то, ни другое меня, к сожалению, не устраивало. Один раз, стоя в углублении на вершине скалы, как раз в том месте, где тысячи лет назад стоял таврский или римский дозор, я решил, что лучше всего для меня прыгнуть вниз и сразу же разбиться о скалы. Смерть получится легкая и красивая – совсем как у древних тавров или римских легионеров. Родителей, конечна, жалко, но ведь у них кроме меня есть сестра, да и меня они не жалеют своими постоянными ссорами, вечно приходится уходить из дома и бродить по заледенелым аллеям. Так что я уже было совсем решился покончить счеты с жизнью, но в последней момент вспомнил про Дуба и про то, как он будет этим доволен. Да и, кроме того, кое-кто в нашем классе вздохнет с облегчением. А это меня не очень устраивало. Кроме того, я еще не объяснился с отцом и не решил до конца женской проблемы. Поэтому я решил, что кончать счеты с жизнью не буду, и вместо этого незаметно влюбился в Катю.








