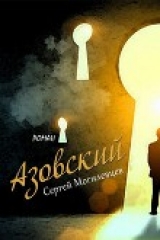
Текст книги "Азовский (СИ)"
Автор книги: Сергей Могилевцев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Надо сказать, что моя проклятая влюбчивость сделала и здесь свое гнусное дело: история с записками, которые писались Кате наверх и опускались на ниточке вниз, закрутилась так быстро, что я окончательно разомлел от этой любви. А потом и опомниться не успел, как очутился вместе с ней в обнимочку на скамеечке в одной из аллей местного парка. Рядом с нами стояли какие-то гипсовые пионеры и дискоболы, немного дальше кружилось чертово колесо, а мы сидели у себя на скамейке, забалдевшие и заторможенные настолько, что не могли и слова сказать. Вот буквально ни словечка, ни люблю, ни как ты ко мне относишься, ни был ли у тебя до этого какой-нибудь парень? Просто умопомрачение полнейшее нашло на обоих, сидим в обнимочку, и не говорим ничего, только потихонечку млеем. Колесо чертово поскрипывает невдалеке, катаются на нем какие-то пионерчики, рядом стоят тоже симпатичные пионерчики и гипсовый салют отдают, а она голову положила ко мне на плечо, и замерла, не дышит совсем. Я тоже, кажется, совсем не дышу.
Так и сидим, не видим вокруг ничего. И не говорим ничего, только молчим, и слушаем скрип чертова колеса. Сколько так времени прошло, я не помню, только смотрим, уже темно вокруг стало, и чертово колесо, оказывается, давно уже не скрипит, а вокруг какие-то тени неясные рыскают, переговариваются, да фонариками светят по сторонам. Оказалось, что это Дуб со своей боксерской командой. Вернее, с тем, что после нее от всеобщей влюбленности удалось сохранить. Бегают, суетятся, кричат какую-то чушь. А больше всего выпендривается Дуб, руками машет, фонариком светит в лицо и орет, что она здесь, все в порядке вроде, не изнасиловал он ее пока что, а, впрочем, неясно в темноте, и не мешало бы завтра с утра как следует все проверить. Ух, как не стерпел я, как подпрыгнул на месте, как пошел на этого дылду накачанного, да так сходу и спрашиваю: «Ну что, Дуб, страшно тебе? Погоди, подлец, сейчас будет еще страшнее!» А он, представьте себе, улыбается во весь рот, и отвечает, что ничуть не страшно совсем, а даже очень ему весело, а сейчас еще веселей будет. Это, значит, он настолько оказался дубовым, что приемчик мой не подействовал на него совершенно. Не пробил он его дубовой боксерской кожи. Мне терять уже было нечего, и так ясно, что сейчас он начнет меня бить по всем правилам ихнего боксерского этикета, рядом плачет моя Катя, приткнулась так тихонечко на скамеечке, обхватила лицо руками, и всхлипывает, бедняжка, а вокруг весело ржут приятели Дуба. Во мне опять все закипело, перелилось через край, и я успел только сказать ему, что ничего, что сейчас ему все-таки будет страшно, несмотря на мускулы и этикет, а потом бросился на него, и мы сразу же покатились вниз по обрыву. Он, правда, успел меня на лету пару раз угостить, но уж зато на земле я как следует на нем отыгрался. Мне плевать было в эти минуты, боксер он, или не боксер, я тоже кое-чему научился у приятелей своего Сердюка, особенно парочке таких безотказных приемов, после которых Дуб, очевидно, окончательно понял, что главное для бандита не только бицепсы и непробиваемая голова. Короче, когда нас растащили подоспевшие воспитатели, мы были оба в синяках и в крови, настолько, что непонятно было, где находится Дуб, а где нахожусь я. Кате после этого никто и слова сказать не посмел, что же касается Дуба, то авторитет его был подорван начисто. Тут как раз подоспел конец лагерной смены, так что история эта никакого продолжения не имела. Дуб уехал в Ялту, я к себе в город, хотя и залечивал синяки почти что до самой школы. А первого сентября оказалось, что Катя будет учиться у нас в классе. Она сидит теперь через ряд от меня – я у окна, а она у стены. Иногда она вопросительно смотрит в мою сторону, и улыбается нерешительно, словно спрашивает о чем-то. А я молчу, отворачиваюсь к окну, и не говорю ничего, и даже записки никакой не пишу. Хотя, казалось бы, после моих летних объяснений в любви вполне мог бы решиться на это. Дело, однако, в том, что мне просто некогда. Просто времени у меня не хватает. То я решал вопрос, кто есть на самом деле отец, то думал неделю подряд о страхе, то Кащей меня донимал со своей женской проблемой. А то еще случилась эта дурацкая история во время ноябрьских праздников, и меня опять не могут оставить в покое. Я, конечно же, с Катей поговорю обязательно, я еще после нее ни в кого не влюблялся. Хотел было влюбиться в голую девушку, которая на обложке журнала, но потом неожиданно передумал. Просто передумал, и все. А почему – не знаю и сам.
Я встал с кровати и тихо подошел к окну. В углу неслышно дышала сестра, в комнате родителей тоже все было тихо, мать, неверное, отплакалась и незаметно уснула. Оконное стекло было покрыто серебряными ледяными разводами, через которые пробивался зеленый свет уличного фонаря. От ветра он раскачивался в разные стороны, и тогда на окно ложились зеленые фантастические тени. Рядом с окном было холодно и неуютно, пахло морозом и снежной ночью. Делать было нечего, я опять вернулся к себе на кровать и очень быстро уснул. Мне приснилась партизанка Снежкова. Ухмыляющиеся солдаты в немецких мундирах сорвали с нее одежду, и она стала точь-в-точь похожа на голую девушку, помещенную на обложке журнала. Только лицо у нее было Катино. Солдаты толкнули Снежкову в спину, и она упала на пол перед долговязым офицером с погонами немецкого лейтенанта. Офицер этот как две капли воды походил на моего летнего знакомого Дуба. Он приподнял Снежкову за волосы, ухмыльнулся, и заорал:
– Признавайся, красная сволочь, куда ты спрятала свой передатчик?
Катя – Снежкова взглянула на него чистыми своими глазами, и молча плюнула Дубу в лицо.
– Отдать солдатам! – приказал Дуб, вытирая платком свою холеную морду.
Солдаты загоготали и весело потащили Катю в свою казарму, А может быть – Снежкову, потому что я уже не различал ничего: ни Дуба, ни солдат, ни обнаженного и избитого девичьего тела, а слышал только свой пронзительный крик, на который, заглушая и останавливая его, отвечал мне встревоженный голос матери:
– Успокойся, Витенька, успокойся, сейчас все пройдет, и ты снова будешь спать до утра.
21 декабря 1968 года. Суббота
С утра в классе половина девочек сидит с забинтованными шеями. Если кто не понимает, что это такое, то я сейчас объясню. Если какую-нибудь девочку в шею поцеловать, то на коже возникнет синяк, который попросту называют засосом.
Эти-то засосы и скрывают обычно, намотав на горло побольше бинта – поди разберись: то ли у тебя простуда, то ли действительно кто-то вчера целовал. Просто мода какая-то пошла ужасная – целый год почти все ходят с замотанными шеями! И пусть хоть ходила Гуля Конопко – она у нас смуглая, красивая, похожая на цыганку, за ней многие пытались ухаживать. Пусть Гуля! С ней хоть понятно все, ее действительно вчера вечером могли целовать. Но зачем заматывает горло Маркова, или, допустим, Весна, я никак понять не могу! Просто хоть вот режьте меня на части, а я все равно не пойму, для чего у них на горле бинты?! То, что их никто не целовал вчера вечером – это факт, который не надо доказывать. Мне кажется, что поцеловать председателя Совета отряда ни у кого и в мыслях не возникнет. Это все равно, что поцеловать гранитную глыбу. Или скалу. Или Моряковскую горку, особенно сейчас, когда она вся заледенелая и заснеженная. Про Весну же и говорить нечего. Но, тем не менее, у обоих у них, так же, как и у половины других девочек в классе, шеи были до самого подбородка аккуратным образом забинтованы. Прямо эпидемия какая-то на эти засосы пошла! Я посмотрел в сторону Кати, и мне немножечко стало легче. Шея у нее была нормальная, красивая, длинная, и совсем незамотанная. Я отложил свои наблюдения и стал слушать, о чем говорилось сегодня. Первым, кстати, был урок географии.
В начале урока, как обычно, Кеша слегка лишь коснулся темы, – что-то о материках и движении континентов, – а потом сразу же перешел к своим любимым историям. Сегодня он почему-то заговорил о Марусином повороте. Этим поворотом, надо сказать, нам прожужжали все уши. До того всем надоел этот Марусин поворот, что уже и слышать никто не хочет о нем. Так нет же, специально несколько раз в год все классы водят туда и старательно объясняют: вот здесь советская школьница Маруся села в кабину немецкого грузовика, который вез карателей, преследующих партизан. Вот здесь она решительно схватилась за руль немецкой машины, и, жертвуя собой, направила ее в сторону пропасти. Погибла отважная комсомолка Маруся, но и каратели вместе с ней остались в глубоком овраге. Так поклянемся же, дети, у этого Марусиного поворота именем отважной советской девушки. Так будем же любить нашу великую родину, ради которой в боях с захватчиками погибли лучшие ее сыновья. А также дочери. И далее, далее, все в том же духе. Причем по нескольку раз в течение года. Очевидно, они, в своем комсомольском Совете, придумать не могут ничего интереснее, фантазии им не хватает, это уж точно. Ну взяли бы, и провели патриотический сбор у платана, на котором повесили партизанку Снежкову. Хотя, пожалуй, это не подойдет, ведь придется рассказывать обо всем, в том числе и о том, как ее изнасиловали в гестапо. А на это они ни за что не пойдут. Советскую патриотку не могут изнасиловать никогда. Никто и никогда, запомните это, дети, запомните, что советские патриотки отстреливаются до последнего патрона, а потом взрывают себя последней гранатой. Я так и слышу, как торжественно говорит это наш новый директор. От советских патриоток, говорит он, остаются лишь обгоревшие клочки комсомольских билетов. Они не даются врагу ни живыми, ни мертвыми. И дальше начинает долго рассказывать о своей комсомольской юности, пришедшейся на середину двадцатых годов. О раскулачивании. О строительстве Магнитки и Днепрогэса. Хорошо еще, что Кеша у нас не такой!
– Между прочим, – говорит Кеша, – вся эта история с Марусиным поворотом – чистой воды выдумка. Не было никакой Маруси, не было никогда. Все это придумало народное воображение, так всегда бывает после войны, когда возникает множество красивых легенд и историй. Я вам больше скажу: никакой Маруси в том селе вообще не жило. Там жили одни татары, это было горное татарское поселение. Так что логичней поворот этот назвать Тамариным, если на то пошло.
– Но как же так, – подает голос Маркова, – как же так, ведь всем известно про нашу Марусю. Мы и дружину сначала хотели назвать Марусиным именем, но потом все же остановились на Володе Дубинине. Не может быть, ведь и песня сложено про нее, и коленопреклонения каждый год происходят.
– А вот так, – отвечает Кеша, – я сам был в этом горном селе и разговаривал с теми, кто там еще оставался. Сразу же после освобождения города, за месяц до выселения крымских татар.
– Татары были предателями! – подает голос Весна.
– Были они, или не были, это к делу не относится совершенно, – спокойно отвечает ей Кеша. – А только в этом селе во время войны не было ни одного русского человека. Не было поэтому и Маруси, а были одни Тамары, Гульнары и Зейнары. Так что или называйте Тамариным поворотом, или не называйте никак.
– Но как же Тамариным? – возмущается Марков. – Ведь это аполитично, это не соответствует линии нашего государства! Извините, можно мне на минуточку выйти?
– Можно, – кивает ей понимающе Кеша. Он все понимает, но проблемы наших активисток его мало интересуют.
– А можно и мне? – спрашивает у Кеши Весна.
– Можно, можно. Всем, кто желает, можно пойти покурить. – Кеша сегодня в приподнятом настроении, у него заготовлена целая серия всевозможных историй, и все эти возражения наших плаксивых отличниц ему просто мешают. Мне кажется, он зря их недооценивает.
Маркова и Весна демонстративно уходят, аккуратно прикрыв за собой дверь. Побегут, наверное, жаловаться директору, или в комсомольской комнате будут готовить сценарий коленопреклонения у Марусиного поворота. Они эту Марусю Кеше не отдадут ни за что. Они будут цепляться за нее из последних сил. Будут жаловаться, готовить сценарии, сборы и преклонения – они ведь без нее ничего не значат, она им нужна. С ней они самые сильные в классе, с ней они становятся похожими на героев гражданской войны, на юных подпольщиц, которых можно убить, но нельзя изнасиловать. Потому что изнасиловать советскую патриотку не удавалось еще никакому врагу.
– А что, история со Снежковой тоже кем-то придумана? – спрашивает у Кеши Жора Бесстрахов.
Жора в классе среди ребят занимает совершенно особое место. Он – хозяин гарема из Марковой, Весны и еще двух-трех таких же плаксивых девиц, в том числе и Лены Рыбальчик. Вы, конечно же, сразу порядочно удивитесь, и будете бесконечно правы, ибо представить в гареме Маркову, или, того нелепей, Весну, затея совершенно пустая. В этом, однако, и состоит соль фокуса: наши отличницы таким образом маскируются под обычных нормальных школьниц, за которыми обязательно кто-то ухаживает. Бесстрахов же в общих глазах предстает эдаким суперменом, которому ничего не стоит соблазнить любую девчонку. На самом же деле настоящие супермены совсем не такие, и женщин соблазняют отнюдь не высокие красавчики с прилизанной челкой и нежнейшим румянцем на впалых щеках, сидящие за партой так неестественно прямо, что кажется, будто в спине у них закреплен металлический прут. Я расскажу, пожалуй, об одном настоящем соблазнителе женщин, но не сейчас, а немного попозже. Сейчас же, глядя на безукоризненную выправку неподвижно застывшего Жоры, я неожиданно представляю себе наших отличниц, которые снимают с Жоры штаны, расстегивают рубашку, развязывают шнурки на ботинках, а потом, словно большую и блестящую куклу, купают в глубоком корыте и водят вокруг него веселые хороводы. После чего Жора становится еще более прямым, прилизанным и краснощеким. Вот, собственно, весь секрет школьного гарема нашего Жоры. Я даже не удивлюсь, если узнаю, что во время своих ежедневных встреч Жора с подругами проводит тайные комсомольские совещания, что-то вроде революционных маевок, в конце которых, страшной клятвой поклявшись о верности социалистическим идеалам, Жора наматывает своим подружкам на шею побольше бинтов, а они кирпичом натирают его побледневшие от усталости щеки. После чего, спев какой-нибудь «Интернационал», или, на худой конец, «Варшавянку», они, бросая друг на друга томные взоры, расходятся под ручку домой.
– Неужели Снежкову тоже кто-то придумал? – спрашивает опять у Кеши Бесстрахов. – Я что-то не могу в это поверить.
– И правильно, что не можешь, – говорит ему Кеша. – Потому что никто, конечно же, Снежкову не выдумал, ее действительно пытали в гестапо и повесили за то, что она не выдала партизан. Но, понимаешь-ли, все намного сложнее, ведь прошло уже двадцать четыре года после освобождения города. Многие случайные события со временем превратились в легенды, а то, что было действительно важно, теперь почему-то забыли. Но к Снежковой, однако, это совсем не относится. Людская память – коварная штука. Нам гораздо важнее красивая сказка, красивая картинка из идеализированного нами прошлого, чем реальный живой человек. Реальность всегда грубее и непригляднее, чем красивая, но живая сказка. Именно поэтому выдуманная Маруся гораздо важнее для нас, чем погибшая партизанка Снежкова. Марусю легче пропагандировать, легче заставить в нее поверить. А ведь это обман, это предательство по отношению к погибшей Снежковой. А как раз ей по-настоящему мы и должны быть благодарны, только ей и должны поклоняться.
– А правда, что ее изнасиловали? – невинно так спрашивает Лена Рыбальчик. Вопрос, конечно же, с подковыркой, но Кеша с ним отлично справляется.
– Правда, – спокойно отвечает он. – Во время войны это обычное дело, как с одной, так и с другой стороны. Так всегда было, во всех бывших войнах, и будет, очевидно, в войнах грядущих.
– А разве будут войны еще? – спрашиваю я у Кеши.
– К сожалению, будут, – отвечает он мне. – К очень большому сожалению многих людей на нашей земле. Пока существуют две непримиримые системы, капитализм и социализм, на земле непременно будут конфликты и войны. Это какой-то злой рок, который повис над нашей планетой. Возможно, это наказание за нашу нерешительность, за наше предательство и безразличие. Мы будем воевать хоть сто лет подряд, хоть тысячу, пока окончательно не перебьем друг друга. Пока одна из систем не одержит победы. Но я сомневаюсь, что после этого останутся победители.
– А какая из систем победит, как вы считаете? – опять спрашиваю я у Кеши.
– Я считаю, что шансы у обеих систем примерно равны, – отвечает он мне на вопрос о победе. – Кто из них победит – трудно сейчас предсказать. Но пока этого не случится, на земле будут постоянные войны, в которых, хочешь этого, или нет, будут вешать живых людей.
– И насиловать женщин? – веселятся на задних партах.
– Да, – говорит им Кеша. – А чтобы этого не было, нам нужна настоящая правда. А не выдумка, вроде этого Марусиного поворота. Есть, между прочим, на этот счет одна поучительная история. Был у нас в городе на спасательной станции один водолаз по фамилии Боцман. Человек исключительных физических данных, который мог, к примеру, опуститься без акваланга на сорок метров, пробыв под водой не менее трех минут, словно какой-нибудь ловец жемчуга. Или несколько дней подряд не спать, пить портвейн и оставаться при этом трезвым. Начальство очень его уважало, товарищи любили без памяти, а женщины, особенно приезжие, вешались на шею десятками. Понятно, что он считал себя большим асом по части женской проблемы, и не упускал случая показать свои мужские достоинства. Но и на старуху, как говорится, бывает проруха. Однажды он познакомился с приезжей москвичкой и пригласил ее покататься в море на лодке. Они удалились от берега чуть ли не на километр, и Боцман вздумал в открытом море купаться, несколько раз нырял и доставал со дна камни и водоросли. Он обычно соблазнял женщин в открытом море, предварительно поразив их воображение своими сказочными способностями. Вдоволь нанырявшись и завалив всю лодку сорванными на дне водорослями, он предложил москвичке пари: она должна одна оставаться в лодке и грести в сторону берега, а он вплавь должен ее догонять. В случае, если он лодку обгонит, несчастная жертва должна подарить Боцману поцелуй.
Женщина была настолько запугана подвигами и бахвальством местного Дон-Жуана, что вынуждена была принять его предложение. На вид она была очень хрупкая, но, сколько ни пытался Боцман обогнать свою лодку, ему никак не удавалось этого сделать. Он напрягал все свои могучие силы, греб и брассом, и кролем, и баттерфляем, пытался даже нырять и под водой достичь свою жертву, но все оставалось тщетным. Лодка стремительно неслась в сторону берега, а посрамленный хрупкой москвичкой Боцман все больше и больше от нее отставал. Самое же обидное было в том, что за позором его наблюдала в бинокли вся спасательная бригада, заранее предупрежденная им самим. Друзья привыкли к любовным успехам Боцмана. Успехи, однако, обернулись полнейшим позором! Женщина опередила своего соблазнителя чуть ли не на пятнадцать минут, и, с размаху вылетев с лодкой на песчаный берег спасательной станции, ловко выскочила из нее, помахала в воздухе ручкой и благополучно скрылась из виду. Лишь спустя несколько месяцев выяснилось, что она не кто-нибудь, а чемпионка Союза по гребле. Боцману от этого, однако, было ничуть не легче. Авторитет его среди водолазов резко упал, он начал еще больше пить, и постепенно терять свои феноменальные качества. Молодежь, которая приходила на спасательную станцию, стала нырять глубже, чем он, и с сомнением относилась к рассказам о подвигах Боцмана. Так что не стоит, друзья мои, жить одними иллюзиями. Реальность может оказаться совершенно иной и посрамить неудачную выдумку. После этого он начинает очередную историю о своей фронтовой юности. Что-то о блокаде Ленинграда и о прорыве немцами фронта под Нарвой, где погибло много наших танкистов. Сам Кеша тоже в прошлом танкист, у него снарядом оторвало на руке несколько пальцев, и тема войны для Кеши всегда самая главная. На то же, что истории эти кому-то не нравятся, ему в высшей степени наплевать. Его уже один раз судили за правду, еще во время войны, отобрали партийный билет и даже приговорили к расстрелу. Но потом случился большой немецкий прорыв, и вместо расстрела его послали в самое пекло. Так он и воевал без своего билета, демобилизовался по ранению в сорок четвертом, приехал в Аркадьевск, и только после войны добился, чтобы билет ему возвратили. Это одна из основных историй нашего Кеши, он ее рассказывает с перерывами в два-три месяца, и весной, очевидно, снова вернется к ней.
Сегодня Кешу слушают мало, многие заняты своими делами: Бесстрахов разговаривает с соседкой по парте, кто-то рисует или смотрит в окно, Катя задумалась, подперев щеку рукой, Гуля Конопко поправляет бинт на своей замотанной шее, а наши балбесы на задних партах весело ржут, жестикулируя руками. Им, как быку красную тряпку, только шепни заветное слово, вроде этого изнасилования несчастной Снежковой, так они целый день не смогут придти в себя. Так и будут крутиться до последних уроков, рассказывая друг другу на ухо всякие гадости. Они, наверное, вспоминают сейчас, как изнасиловали у нас дочек местного прокурора. Я, надо сказать, знаю историю эту почти что во всех подробностях. Эти толстые Прокуроровы дочки, неповоротливые, как откормленные поросята, одетые в одинаковые розовые платья из газа, сквозь которые просвечивали тугие белые лифчики, давно уже были на мушке у местной шпаны. Я не говорю – бандитов, бандиты тут ни пои чем, у бандитов навалом своих девчонок. Что в ресторане-поплавке, что летом на пляже. Бандиты люди благородные, и пачкаться, как местное жулье, конечно, не будут. Вот один такой местный жулик, по фамилии Башибулар, живший, как и две прокурорские хрюшки, в нашем дворе, и возглавил как раз кампанию по их изнасилованию. Надо сказать, что этот Башибулар был еще хуже, чем мой ялтинский Дуб. Тем хоть со временем могла гордиться страна, получи он на какой-нибудь олимпиаде призовое место или медаль. А этот Башибулар был настоящей шпаной: прокуренным, пропитым, насквозь прогнившим от похабных анекдотов и еще черт знает какой мерзости до тошноты. Он, бывало, все слонялся без дела у нас во дворе, покуривая, поплевывая по сторонам, и распевая какую-нибудь похабную песенку, вроде такой, на известный мотив: «Широка кровать мою родная, много в ней подушек-простыней, приходи ко мне моя родная, будем делать маленьких детей!» Мамаши, имевшие смазливых дочек, шарахались от него, как от чумы, а дворовая мелкота старалась держаться подальше, не без основания опасаясь за свои лбы и уши. Он, надо сказать, довольно-таки потерроризировал меня в детстве, до того, как я свел дружбу с бандитами и не умел еще себя защищать.
Но потом я подрос, и в честной драке один на один освободился наконец от своего угнетателя. Однако Башибулар от этого, естественно, не исправился, а доучился всего до седьмого класса, из школы нашей ушел, и целыми днями ошивался в подъездах, пил, купил, и старательно избивал малолеток. Хамство его и компании, в которой он верховодил, возрастало почти ежедневно. Никто им сопротивления не оказывал, у бандитов были заботы свои, и нет ничего удивительного, что он положил глаз на этих раскормленных Прокуроровых дочек. Дело было весной, в воскресенье, и дочки в компании девочек, среди которых, кстати, была и моя сестра со своим верным Дружком, отправились на Моряковскую горку собирать первоцветы. Башибулар с подручными, обговорив все заранее, двинули туда следом за ними, прихватив с собой изрядный запас портвейна и сигарет. Девичья компания, ничего, естественно, не подозревая, мирно себе собирала цветочки, солнышко ясно светило, море внизу спокойно блестело, кустарниковые дубы вокруг зеленели первыми листьями, а эти подонки, накурившись и напившись портвейна, ринулись на девчонок со всех сторон, словно партизаны во время внезапной атаки. Тут поднялся, конечно, ужасный девичий визг, сестра и Дружок, который успел у кого-то из атакующих отхватить изрядный кусок от штанов, стрелой пустились вниз в сторону моря, другие девчонки ринулись следом за ними, оставив накурившихся и охмелевших подонков далеко у себя за спиной. Некоторым из них даже досталось девичьей сандалией пару раз между ног, у кого-то впоследствии обнаружили под глазом синяк, короче, все девчонки, за исключением Прокуроровых дочек, вмиг покинули поле сражения, не понеся никакого урона. А две толстушки, которые бегать, увы, не умели, остались заложниками у этих пьяных скотов. Ну, они их и изнасиловали под ясным солнышком и под блеск спокойного моря. А потом перепились и заснули прямо на той же полянке, среди первоцветов и зеленой весенней травы. Тут их и забрала милиция. А вечером, к изумлению всего города, отпустила. Оно и понятно – нашему прокурору хотелось всем показать, что ничего страшного на самом деле не произошло. Что никто никого не насиловал, что ребята просто мирно с девочками собирали на полянке цветы. А то, что курили и пили портвейн – ну что же, с кем не бывает? Так всему городу и объявили. Из этого выходило, что изнасилование вроде было, а вроде его и не было. Скорее всего, не было. На том и успокоились. Прокуроровы дочки же месяца на три куда-то исчезли, а к концу лета появились опять во дворе – такие же раскормленные, розовые и прозрачные. Я не сомневаюсь, что скоро их опять изнасилуют. Вероятней всего, Башибулар со своими друзьями, которые как пили по подъездам, так пьют и курят сейчас. Совсем искурились, просто дохляки стали какие-то: ткни пальцем, и сейчас же рассыплются. Они и берут лишь тем, что их много. Лишь численностью, как волки в стае. Или даже шакалы. Терпеть не могу, когда люди объединяются в стаи!
– Кстати, о Чехословакии, – говорит Кеша, оторвав глаза от журнала. – Нынешние танковые бои в Праге мало чем отличаются от немецкого прорыва под Нарвой. Там тоже в одном узком месте немцы заперли целую танковую армию. В городе вообще сложно вести танковую атаку. Особенно в таком старом городе, каким является Прага. В узких улочках очень легко подбить танк из-за какого-нибудь укрытия или из-за поворота. Можно даже с крыши кинуть гранату, и всему экипажу в танке придет конец. Даже если они и вылезут через люк или башню, их сразу же перестреляют поодиночке. Я чувствую, что много наших ребят погибло в Чехословакии в этом году. А самое обидное, что воюют они там не с солдатами, а с рабочими и студентами. Уж лучше умереть в честном бою, чем погибать от руки снайпера-первокурсника.
– Да нет там никаких атак, тем более танковых, – говорит Кеше Бесстрахов. – Просто наши танки вошли в Прагу, и стоят там в разных местах. У телевидения, у почтамта, перед домом, где заседает правительство. Ну, еще на площадях и на пересечении важных улиц. И ни в кого они не стреляют из пушек, а значит, никаких танковых атак там нет и в помине.
– Милый мой, – весело улыбается Бесстрахову Кеша, – я, конечно, ценю твои познания в военном искусстве, но если в город входит колонна танков, чтобы город этот занять, то это и называется танковой атакой. Варианты здесь могут быть разные: некоторые города обороняются с помощью аналогичных, только уже своих, танков и пушек. А некоторые, как Прага в этом году, вынуждены рассчитывать лишь на студентов, бросающих с крыш зажигалки с бензином. Разницы тут нет никакой. В обоих случаях это называется оккупацией города, которая произошла в результате атаки. Кстати, откуда у тебя такие сведения о положении в Праге? «Голос Америки» слушаешь по ночам?
– Ну что вы, – скромно так отвечает Бесстрахов, – какой «Голос Америки»? У меня и приемника-то своего нет. Обещали родители купить, но еще не купили.
– Вот и напрасно, что не купили, – серьезно говорит ему Кеша. – Вчера, между прочим, передавали очень интересную новость. Во вторник в Ялте будет выступление джазового оркестра из Калифорнии. Точнее – Калифорнийского университета. Всего один вечер, так что я очень советую вам съездить туда. Где вы еще сможете увидеть американцев?
– Оркестр из Калифорнии? Вот здорово! – весело кричит Бесстрахов. – Нет, это правда?
– Послушай «Голос Америки», и сам все узнаешь. В семь часов вечера в помещении Чеховского театра. Это на набережной, недалеко от Дома моряка, как раз напротив морского порта. Мне кажется, после всех этих событий в Чехословакии мы еще долго не услышим джазовых музыкантов из Калифорнии.
Я просто обалдел от этого сообщения Кеши! Я, надо сказать, вражеские голоса слушаю регулярно, и просто ума не приложу, как такую информацию мог пропустить?! «Голос Америки», кстати, у нас постоянно слушает чуть ли не половина класса. Но вслух об этом, тем более в присутствии учителя, говорить как-то не принято. Зато на переменах или после уроков это одна из основных тем наших бесед. Кеша все это хорошо понимает, а поэтому, рассказав о концерте американцев, переходит к новой истории. Однако дверь неожиданно открывается, и в класс, прервав мои мысли и Кешины рассуждения, поспешно заходит директор в сопровождении Кнопки. Из-за спины у них испуганно выглядывают Маркова и Весна.
– Константин Арсентьевич, – говорит Кеше директор, – не будете ли вы так любезны пройти в мой кабинет и немного там посидеть?
– Конечно, – говорит Кеша. – С удовольствием посижу у вас в кабинете.
Он собирает с учительского стола тетради, и, сложив их стопочкой, спокойно выходит из класса. Маркова и Весна все так же испуганно бочком садятся за парты. Совершенно очевидно, что они наябедничали директору на нашего Кешу, но собираются делать вид, что ничего не знают и вообще здесь не при чем. Директор обращается к Кнопке:
– Садитесь, пожалуйста, Клавдия Тимофеевна, куда-нибудь на свободное место. Сегодняшние занятия я отменяю. На перемену тоже никто не пойдет. Займемся, наконец-то, элементарным политпросвещением. Представим себе, что мы не школьники, не школяры – недотепы, а настоящие взрослые люди. Студенты, к примеру, Ленинградского университета. Сегодня мы поговорим о классовой солидарности.
Директор медленно подходит к столу, на котором лежит еще оставленный Кешей классный журнал, кряхтя, садится боком на стул, расставляет по сторонам свои тяжелые локти. Он очень старый и очень толстый, такой толстый, что, наверное, даже Прокуроровы дочки, если от испуга не похудеют, будут к его возрасту раза в два примерно худее. У директора седые неопрятные волосы, сквозь которые просвечивает голый розовый череп, огромная, размером с котел, голова, с которой на старый полотняный пиджак постоянно сыпется перхоть. Директор у нас новый, он приехал из Ленинграда на место директора старого, который погиб в автомобильной аварии. Говорят, что в молодости новый директор был очень большим комсомольским начальником. Я не удивлюсь, если окажется что он когда-то ловил беспризорников, в том числе и отца. Я даже не удивлюсь, если узнаю, что он один из немногих, кого восставшие беспризорники не убили во время своей революции. Тесен мир, как говорит наш Кеша, который случайно после войны оказался в одной компании с человеком, предлагавшим на фронте его расстрелять.








