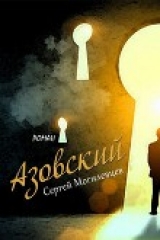
Текст книги "Азовский (СИ)"
Автор книги: Сергей Могилевцев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
В сущности, я должен быть благодарен директору, который, возможно, вывел в люди отца. Пусть даже это сделал не он, а кто-то из его комсомольских коллег. Однако никакой благодарности к директору я не испытываю. Просто не испытываю, и все, а почему – не знаю и сам. Мне вдруг становится все настолько противным, противным до тошноты, что я нарочно решаю думать о чем-нибудь постороннем, а не об этой дурацкой классовой солидарности. Или о советском патриотизме – я все время путаю эти сложные вещи. Я решаю думать об изнасиловании, раз уж о нем говорилось сегодня так много. Я, помню, в пятом классе просто замучил свою мать этим изнасилованием. Посмотрел один американский фильм на эту тему, и просто замучил ее рассказами из него. Все дело в том, что изнасилование там было не обычное, вроде того, что организовал придурок Башибулар со своими дружками; не такое, где жертва бежит, сопротивляется, царапается, кусается и бьет сандалией между ног. Ничего подобного в фильме этом не было и в помине! Судите сами: в самом конце войны на маленьком хуторе не то во Франции, не то в Германии столкнулись между собой отряд эсэсовцев и группа мирных людей – женщин, мужчин и детей. И вот командир этих самых эсэсовцев, подонок, естественно, еще тот, поставил перед беженцами ультиматум: или одна из женщин добровольно придет к нему ночью в комнату, или он всех их наутро поставит к стенке. Он, этот командир эсэсовского отряда, настолько погряз во всяком убийстве, так много замучил безоружных людей, что ему, очевидно, просто так убивать уже надоело. Ему захотелось помучить людей по-особому, ведь женщины, которые находились на хуторе, все были замужем, а их мужья находились тут же, при них, и решали между собой, чья жена этой ночью отправится в комнату к командиру эсэсовцев. Жуткая картина! Настолько жуткая и захватывающая, что я целый месяц после нее был возбужден до крайности. Судите сами: сначала пленники между собой перессорились, особенно мужья, так как никто не хотел посылать к эсэсовцу свою родную жену. Всем почему-то хотелось, чтобы это была жена их товарища. Но пока они так между собой препирались, одна из женщин, между прочим, ужасно красивая и гордая, сама без спроса, никому ничего не сказав, пошла под вечер к командиру эсэсовцев. А наутро вернулась назад. Все ей были сначала ужасно признательны, даже ее собственный муж, но потом стали ее сторониться, считая, что она опозорена и недостойна быть в их благородной компании. Тут как раз началась атака американских солдат, среди которых, кстати, были и негры. Эсэсовцы пытались сопротивляться, но, увидев, что силы неравны, перестали, и сложили оружие. Все благодарили освободителей-американцев, хотя на самом деле благодарить надо было не их, а женщину, которая позволила себя изнасиловать. И, таким образом, сохранила всем жизнь. Но, странное дело, никто ее почему-то не благодарил. Даже солдаты-американцы, которым историю эту сразу же рассказали, посматривали на нее с осуждением. А ведь она не только спасла всех от смерти, но и заколола кинжалом эсэсовского офицера, отомстив, таким образом, ему за свое унижение. Но от нее отвернулись все, даже собственный муж! Это было несправедливо, и я очень жалел, что не взрослый, и не могу объяснить этим людям, как же они неправы. Ух, как я их всех ненавидел, просто даже вот убил бы своими руками: ведь она была такая красивая, такая гордая и несчастная. Я не понимал тогда, что это всего-навсего фильм, что все в нем выдумано специально, и целый месяц мучил мать, рассказывая разные ужасные эпизоды. Я, помню, совсем доконал ее этими ужасными подробностями, и она не знала, как от меня отвязаться. Это изнасилование очень сильно на меня повлияло, я, можно сказать, стал совсем другим человеком. Я даже бояться всего временно перестал, потому что влюбился в женщину эту просто до невозможности. Я сильно так никого еще не любил – ни Анджелу Дэвис, ни итальянскую кинозвезду Клаудио Кардинале. Я очень часто оставался один и предавался мечтам о том, как буду сильно любить эту женщину, если неожиданно случится чудо, и я стану ее новым мужем. Потому что старого мужа я ненавидел до крайности и не мог допустить, чтобы он опять к ней вернулся. К сожалению, фильм этот кончился очень плохо. Любовь моя, такая смелая, не побоявшаяся прийти в комнату к эсэсовскому командиру, не выдержала всеобщих насмешек. Ее к концу фильма все до такой степени презирали, что даже собственный муж предложил американским солдатам, чтобы те ее изнасиловали. И, представьте себе, солдаты на это предложение согласились! Только американский офицер, между прочим, чистокровный негр, пытался им запретить это делать, но они подняли на хуторе бунт, офицера этого закрыли в сарай, а сами двинули в комнату к моей возлюбленной, чтобы всей компанией ее опозорить. Короче, все закрутилось настолько, что ничем не отличалось от намерений подонка Башибулара. Эти американские освободители оказались еще хуже эсэсовцев! Их благородный офицер, черный негр, был заперт в сарае, и от стыда за них был вынужден застрелиться. А женщина, моя любовь, моя освободительница от ежедневного и постоянного страха, была вынуждена покончить с собой. Она взяла веревку, и повесилась в своей комнате, прикрепив веревку к люстре под потолком. Так и не досталась она никому, кроме эсэсовского офицера, который, хоть и был кровавым убийцей, оказался благородней, чем освободители-янки. Потому что честно сдержал данное им слово. Как же я рыдал, как же я жалел ее, как же не спал ночами!
– Азовский! – уже не первый, конечно же, раз, доносится до меня голос директора. – Не будешь ли ты так любезен сообщить нам, какие мысли занимают сейчас твою голову?
Что я могу ему ответить? Я молча встаю, и, не говоря ни слова, смотрю в большие слезящиеся глаза директора, которые из-за очков напоминают выпученные глаза сидящей в пруду лягушки. Директор смотрит на меня примерно минуту, а потом устало машет рукой:
– Садись, Азовский, – безнадежно говорит он, указывая на парту. – Садись, и попытайся понять хотя бы немногое из того, что я сейчас скажу. Итак, интернациональная солидарность. Что же это такое? Это помощь одного народа – другому. Это помощь всего лагеря социализма маленькой братской Чехословакии, жители которой не хотят реставрации капитализма. Именно по просьбе рабочих и колхозников этой братской страны войска Варшавского договора вошли в августе в Прагу. Вы знаете, как их встречали: хлебом и солью, цветами, улыбками счастливых детей и женщин. И не надо верить тому, что передает «Голос Америки», не надо верить вражеской пропаганде. В мире идет война, пока что только холодная, и в этой войне противник не гнушается никакой лжи. В том числе и ложью в эфире. Вы должны противопоставить этой лжи свою идейную убежденность, свою преданность идеалам социализма. Вы должны быть стойки и мужественны, потому что в грядущих войнах именно вы поведете советские танки по улицам новой Праги, нуждающейся в вашей защите. Вы – молодые солдаты социализма, и не надо об этом забывать никогда.
– А вот Константин Арсентьевич… – подает голос Весна.
– Константин Арсентьевич, к сожалению, не очень здоров, – медленно и тяжело, словно вколачивая гвозди в асфальт, отвечает Весне директор. – Он нуждается в специальном лечении, и, очевидно, больше не будет читать у вас географию. Что поделаешь – последствия контузии бывают иногда очень серьезными! – Директор с сожалением разводит в стороны свои тяжелые руки. – И запомните, пожалуйста, – никаких вражеских голосов, никакой веры буржуазной вражеской пропаганде. Готовьте себя к грядущим сражениям, в которых социализм окончательно победит на всей нашей планете. Будьте безжалостны к врагам нашего строя, готовьте себя к новым подвигам на новых Марусиных поворотах. Потому что у каждого из вас такой поворот обязательно когда-нибудь произойдет.
– Скажите, – спрашивает кто-то из девочек, – но почему нельзя отказаться от войн вообще, почему мирно не жить на земле двум разным системам: капитализму и социализму?
– Потому, – лукаво улыбается новый директор, – что все на земле находится в диалектическом изменении. Низшие формы жизни сменяются высшими, из простейших водорослей получаются динозавры, за динозаврами идут обезьяны, за обезьянами – человек. Точно так же и в обществе: из рабовладельческого строя получился феодализм, из феодализма – капитализм. Который в нашей стране стал зрелым социализмом. И социализм, в свою очередь, тоже изменится – он перерастет в коммунизм. Это неизбежно, это такой закон диалектики. Более высшее побеждает белее низшее. Иногда это происходит вроде бы незаметно, в течении сотен веков, как эволюция в мире животных. Иногда же с помощью революций, как это случилось в нашей стране. А революции, к сожалению, очень редко бывают мирными. Мы более молоды, более сильны и более дерзки, чем навсегда прогнивший капитализм. Именно поэтому мы победим. Пусть не сразу, пусть через новые сражения и новые Марусины повороты. Но победим окончательно, потому что за нами правда истории. Да вот подумайте сами: что лучше – сверкающий храм завтрашнего коммунизма или нынешняя нищета и обман в той же современной Америке? Вот все вместе это и называется братской помощью, и называется классовой солидарностью. А Прага – это пустяк, это всего лишь эпизод, всего лишь маленький штрих на нашей трудной, но прекрасной дороге.
В классе стоит невиданная тишина. Да, умеет говорить наш новый директор, что ни говори, а умеет! Даже Кнопка сидит зачарованная, позабыв о своих пробирках и баночках с реактивами. Ей такой уровень не по зубам, ей бы только шипеть от злости, выхватывая журналы с запрещенными фотографиями. Или устраивать вечерние рейды с отличницами по квартирам учеников, проверяя, не слушают ли они в одиночестве враждебные нам голоса. Недаром говорят, что директор был когда-то в Ленинграде профессором. Одна такая его беседа подействует лучше, чем десять рейдов наших плаксивых отличниц.
– Войны во имя грядущего коммунизма должны быть решительны и беспощадны, – среди тишины вновь говорит нам директор. – Земным народам надо как можно быстрее пройти стадию капитализма, чтобы сконцентрировать все ресурсы планеты для строительства идеального общества. Если же противостояние двух разных систем затянется надолго, это истощит ресурсы земли, и мы веками будем восстанавливать накопленные природой богатства, отсюда вытекают стремительность и беспощадность к врагам нашей идеи. Лучше быть жестоким сейчас, но зато наши внуки будут жить в храме добра и счастья. А поэтому – временно забудьте о жалости. Никаких поблажек отступившим от нашего великого курса. Лучше отсечь больную руку сейчас, чем завтра всему организму погибать от гангрены.
Я понимаю, кого он имеет в виду, говоря об отсеченной руке. Это, конечно, не только Кеша, но и я во время моих ноябрьских приключений. И как это меня угораздило впутаться в эту историю? Мне бы сейчас сидеть тише воды, ниже травы, но что-то неудержимо тянет меня за язык, и я спрашиваю у директора:
– А кто наш самый главный противник сейчас, во время борьбы двух непримиримых систем?
– Соединенные Штаты Америки, – тяжело вглядываясь в меня, говорит, помолчав немного, директор. – Это огромное гангстерское государство, я бы даже сказал – государство фашистского монополизма. Нет никакого сомнения в том, что решающая битва в истории произойдет именно между Америкой и Советским Союзом.
– А вы знаете, что во вторник в Ялте будет джазовый концерт оркестра Калифорнийского университета? – спрашивает у директора Жора Бесстрахов.
– Кто вам об этом сказал? – несмотря на толщину, так и подпрыгивает на стуле директор. – Слушали вечером вражеские голоса? Или, быть может, опять Константин Арсентьевич? Как бы то ни было, мы этот источник обязательно выявим. О ялтинском же концерте забудьте как можно быстрее. Каждого, кто во вторник окажется в Ялте, я немедленно отчислю из школы. Надеюсь, Азовский, ты хорошо меня слышишь?
– Да, слышу, – говорю я, стараясь, по возможности, не смотреть на директора.
– Вот и чудесно. А что касается Калифорнии, – неожиданно нежно и даже с любовью обращается он к классу, – то ваша Калифорния никуда от вас не уйдет. Точно так же, как от нынешнего поколения советских парней никуда не ушла их Прага.
Когда все закончилось, я быстро собрал свой портфель и поспешил в раздевалку. Я хотел как можно быстрее покинуть школу и опять пойти бродить по своим заледенелым аллеям. Я уже совсем оделся и собирался выйти на улицу, когда случайно увидел Катю. Она смотрела на меня все тем же странным и вопросительным взглядом, словно спрашивая о чем-то. Я решил, что дальше оттягивать наш разговор невозможно, и опять зашел в раздевалку. Она стояла напротив окна в своем красном свитере, одетом поверх школьного платья, а рядом на подоконнике лежала ее шубка из рыжего меха.
– Идешь домой? – спросила она все с той же странной улыбкой.
– Да, – сказал я. – То есть не совсем домой, а в одно нужное место.
– В нужное место? Во время ноябрьских праздников ты тоже был в том нужном месте?
– Катя, прошу, не надо смеяться. Из-за этих ноябрьских праздников у меня одни неприятности. Меня вполне могут выгнать из школы. Эх, если бы знать заранее, что все так случится! – Я с досадой стукнул кулаком по подоконнику. – Из комсомола, во всяком случае, меня уже выгнали. В понедельник вызовут на школьный Совет и объявят об этом открыто.
– Бедный, – сказала она, и дотронулась рукой до моей щеки. – Тебе, наверное, очень плохо сейчас?
– Нет, Катя, – закричал я, – ты ошибаешься, мне вовсе сейчас не плохо. Наоборот, мне радостно, что все так со мной получилось.
– Тебе радостно, что могут выгнать из школы? Что ты говоришь, Витя, я в это не верю!
– Нет, Катя, это действительно так. Уж лучше пусть выгонят, чем мучиться до конца десятого класса. Понимаешь, я не верю им, не верю никому, вокруг одна ложь, все друг друга боятся, только сказать об этом не могут. Или не хотят. Все в классе боятся Кнопки. Кнопка боится директора. А директор тоже, наверное, кого-то боится, только виду не подает. А мне надоело так жить, я не хочу быть таким, как все: бояться каждого шороха, каждого скрипа, увольнения с работы, неожиданного известия, и даже себя самого. Вокруг все бессмысленно. Зачем жить, зачем ходить в школу, зачем влюбляться в кого-нибудь, если все постоянно лгут? Зачем, ответь мне на это?!
Она смотрела на меня большими, расширенными от ужаса глазами, не зная, очевидно, что мне сказать. Она, наверное, вообще очень жалела, что связалась со мной, что поддалась на эту мою затею с запиской. Тогда, в лагере, душным и нелепым прошедшим летом. Летом, в котором было все нелепо и глупо, в котором Башибулар насиловал Прокуроровых хрюшек, советские танки победоносно входили в Прагу, я ссорился с отцом и писал любовные послания Кате. Ей, конечно же, было страшно меня слушать, мне и самому было страшно себя слушать. Но она была девочка смелая и упрямая, и не хотела теперь отступать. Ей было страшно, но она решила, что отступать дальше нельзя. Что надо меня спасать, а, если этого не получится, то погибать вместе со мной. Раздевалка постепенно пустела, людей в школе почти не осталось. Только на втором этаже слышалась музыка – это школьный оркестр готовился к Новому году, наигрывая что-то на трубе и кларнете. Из расположенной напротив двери пионерской комнаты вышли старшие вожатые и вместе с ними Маркова и Весна. Они посмотрели в нашу сторону, и весело рассмеялись. У входных дверей к ним присоединился Бесстрахов. Двери распахнулись, в тамбур ворвались клубы морозного пара, и веселая компания исчезла из вида. Потом из учительской просеменила к выходу Кнопка. Она была озабочена, о чем-то сама с собой говорила, и нас поэтому не заметила. Решала, очевидно, в уме, кому поставить двойку за четверть. Последним из учительской вышел Кеша. Он на ходу застегнул пуговицы у пальто, посмотрел в нашу сторону, хотел что-то сказать, но лишь с досадой махнул рукой и тоже вышел на улицу. На первом этаже было тихо, лишь сверху раздавалась негромкая эстрадная музыка и слышалось чье-то веселое пение о медведях, которые трутся друг о друга спинами и вертят при этом земную ось. Я молча взглянул на Катю. Она сидела рядом на подоконнике все такая же решительная и готовая к подвигу во имя меня. Я должен был немедленно остановить ее. Она была неправа, она не понимала всего, что творилось у меня внутри, она жила, наверное, глупыми историями о благородных влюбленных, что-нибудь из жизни средних веков. Вроде историй о благородном Айвенго, придуманным Вальтером Скоттом. Она не знала, что с тех пор многое изменилось, и поэтому я сказал:
– Послушай, Катя, ты только не перебивай меня, потому что мне надо сказать тебе что-то необыкновенно важное. Точнее даже не важное, а просто. Катя, мне надо с тобой решительно объясниться.
– Решительно объясниться? – радостно спросила она, ожидая, очевидно, очередной истории из Вальтера Скотта.
Она думала, что я сейчас стану ей признаваться в любви. Упаду на колени, и начну говорить всякую чепуху. О том, что у нее белокурые прекрасные волосы, и я прошу ее стать дамой моего сердца. Я и сам бы очень хотел сделать это. То есть упасть на колени, поцеловать у нее край платья, или даже руку, и сказать, что я очень люблю ее. Люблю с того самого момента в пионерском лагере, когда сидели мы с ней на скамейке, а невдалеке поскрипывало неторопливо чертово колесо и гипсовые пионерчики отдавали нам свои гипсовые салюты. Ах, как хотелось мне ей признаться в любви! С того самого момента, когда я понял, что по-настоящему до нее не любил еще никого. Что все мои любови были лишь выдуманы, придуманы моим разыгравшимся воображением. Как бы хотел я этого! Но вместо признаний в любви я закричал:
– Катя, послушай, мне действительно надо с тобой объясниться!
Она все еще думала, что я сейчас упаду на колени, поцелую у нее руку, край платья, или даже обниму за талию и начну осыпать поцелуями. Она еще верила во всю эту романтическую чепуху, и поэтому снисходительно отвечала:
– Ну что же, раз тебе очень надо, то пожалуйста, объясняйся.
– Ты смеешься, – закричал я опять, – и не понимаешь, что я не могу быть таким же, как все. Я не могу быть таким, как другие ребята из нашего класса. Я не могу сказать тебе самого главного, не могу сказать те слова, которых ты, наверное, ждешь от меня. Я знаю, что надо говорить в таких случаях. Особенно после прошедшего лета. После нашей с тобой скамейки, чертова колеса, гипсовых пионерчиков и этого дурацкого Дуба. Другой бы на моем месте тебе эти слова непременно сказал. Бесстрахов какой-нибудь тебе бы давно признавался во всем. Таким, как Бесстрахов, живется очень легко. Он, наверное, уже миллион раз говорил подружкам своим такие слова. Поэтому они и любят его. Они и кружатся, и вьются возле таких, как Бесстрахов, потому что каждый день получают признания. А я так не могу. Точнее, я могу, но мне нельзя тебе сказать такие слова, нельзя признаться тебе во всем. Я не могу этого сделать.
– Ты не можешь признаться во всем? – тихо и спокойно спросила она. – Но почему? Что я такое тебе сделала, чем обидела, что сказала плохого? Почему ты не можешь сказать мне слова, в которые сам очень веришь? Тебе, наверное, что-то мешает?
– Да, мешает, вот именно, мешает, – закричал я опять. – Мне мешает признаться тебе, что я тебя очень… Что ты мне очень… – Я запнулся, и не знал, что говорить дальше.
– Послушай, Витя, – тихо и решительно сказала она, – хочешь, я сама скажу тебе эти слова? Те, которые не можешь ты мне сказать. Хочешь, я скажу, что очень тебя…
– Нет, нет, не говори этого! – тихо прошептал я, боясь поднять глаза и посмотреть ей в лицо. – Не говори этого, не надо. Потому что тогда все разрушится. Потому что тогда я стану слабым. Таким, как всеобщий любимчик Бесстрахов. Все для меня сразу же станет очень простым, быть может, я даже стану отличником. На шею мне сразу же станут вешаться все девочки из нашего класса, меня сразу же полюбит Кнопка и другие учителя, мать моя вздохнет с облегчением, а отец… Отец… Впрочем, ни слова больше о нем. Короче, Катя, этот путь мне решительно не подходит. Я не могу быть таким, как Бесстрахов. Не могу потому, что сразу же перестану быть сильным. А мне, Катя, очень надо быть сильным. Ты даже не представляешь, каким сильным мне надо быть. Если я не буду сильным и независимым, я не смогу прожить и дня в этом страшном, в этом ужасном мире.
– Тебе надо быть сильным? Ты не хочешь быть таким, как Бесстрахов? Но ведь Бесстрахов – очень нормальный. Он просто во всех отношениях необыкновенно, просто даже ужасно нормальный. Значит, тебе не хочется быть таким же, не хочется быть нормальным? Ты что, сумасшедший, раз говоришь такие слова? – Она была не на шутку испугана, но все еще смотрела с надеждой, ожидая, что я переменю это решение, и признаюсь наконец ей в любви.
– Если хочешь, считай меня сумасшедшим, – сказал я тихо и посмотрел ей в лицо. – Впрочем, это и так всем очевидно. Если человек не хочет быть таким, как Бесстрахов, если он не хочет, чтобы на шею ему вешались прекрасные женщины, и в будущем его ждала блестящая жизненная дорога, – то такой человек, конечно же, сумасшедший. Но лучше быть сумасшедшим, чем потерять свою независимость.
– Но это же неверно, неверно! – теперь уже закричала она на меня. – Почему ты считаешь, что признаться кому-нибудь в своих чувствах – это значит проявить слабость? Наоборот, если ты признаешься кому-то в любви, если ты не будешь самоуверенным и влюбленным в себя болваном, то тебе это только поможет. Ты считаешь, что ни от кого не зависишь, а на самом деле очень зависишь: от своей дурацкой гордости и упрямства. Ты с Кнопкой специально ссоришься из-за этого, и с Советом отряда не можешь найти общий язык. Ты ведь один, совсем один – понимаешь ли это, наконец, или не понимаешь?! Ты ведь так можешь погибнуть – от одиночества, от этих своих дурацких аллей. Ты думаешь, я не знаю, куда ты собирался сегодня идти после школы? Но ты не думал о том, что можешь навсегда заблудиться в этих бесконечных аллеях? Умереть в них от гордости и одиночества? Замерзнуть среди поломанных ветвей и заледенелых сугробов. Ты думаешь, я ничего не знаю об этих твоих сугробах и кипарисах? Я все про них знаю, я уже давно хожу за тобой следом.
– Ты ходишь за мной следом? – я был поражен, и не знал, что ей отвечать.
– Да, хожу, можешь меня презирать за это! Но я не могу смотреть, как ты медленно замерзаешь, как ты мучаешься в этих аллеях. Как ты ссоришься со всеми подряд и не можешь переступить через свои дурацкие принципы. И откуда ты взялся такой бесчувственный, такой безжалостный и холодный?
Она плакала, уткнувшись лицом в оконную раму. Я стоял, как дурак, рядом с ней в пустой раздевалке, и не знал совершенно, что же мне отвечать.
– Ну что, добился своего, добился моего унижения? – повернула она ко мне заплаканное лицо. – Добился, что я призналась тебе в этой слежке?
О мамочки, и почему же ты попался мне на пути, ведь все другие такие нормальные. Бесстрахов, например, или остальные ребята из нашего класса.
– Вот и иди себе к этим ребятам! – разозлился я наконец. – Иди быстрее к этим болванам. Если Бесстрахов тебя больше устраивает, то и иди себе в его школьный гарем. Только я сомневаюсь что-то, что Маркова с Весной и всякие там Рыбальчик тебя в него с радостью пустят.
– Да как ты смеешь так говорить?! – закричала она на меня, соскочила на пол раздевалки и стала махать в воздухе своими худенькими кулачками.
– Бесчувственный осел, дурак, чурбан неотесанный! Да с тобой совершенно нельзя иметь никаких дел, ты сумасшедший, настоящий сумасшедший!
Она наступала на меня, махала в воздухе кулачками, ругалась, и была такая необыкновенная, такая прекрасная в своем гневе, что я просто задохнулся от любви и жалости к ней.
– Прости меня, Катя, – прошептал я сквозь слезы, – пожалуйста, прости меня, если сможешь.
Но она не успокаивалась, и все наскакивала на меня, и кричала через слезы всякую чепуху. О том, что я осел, болван, и не умею вести себя с девушками. И я любовался ее разгневанным и прекрасным лицом, которое, несмотря на слезы, было для меня самым дорогим, самым желанным на этой земле. И ее разметавшимися в стороны белокурыми волосами, похожими на волосы знатной средневековой дамы, которая с балкона наблюдает за турниром своего любимого рыцаря. А рыцарь на турнирном плацу тяжело ранен, ему ужасно трудно и одиноко под взглядами тысячной, равнодушной к страданьям толпы. И только она, его дама сердца, там, на высоком балконе, молится горячо и желает ему победы. И я вдруг так поверил в это свое рыцарство, в эту связь со своей дамой сердца, что, подойдя к Кате, опустился перед ней на колени. Она сперва меня испугалась, но потом положила руки на мои волосы и стала их медленно перебирать. А я, в каком-то необыкновенном восторге и вдохновении, шепча горячие слова любви и признания, стал покрывать поцелуями ее простое школьное платье. Луч заходящего солнца неожиданно пробился сквозь плотные снежные тучи, и через окно упал прямо на нас. И так мы стояли – я на коленях, прижавшись губами к ее платью, а она стоя, обхватив руками мою голову, – в свете этого последнего сегодня луча. Как в нимбе света на какой-нибудь древней картине. Пустая раздевалки с разбросанными на ее полу бумажками и всяческим сором превратилась в мощеный двор средневекового замка, а музыка, раздававшаяся на втором этаже, была звуками боевых труб, возвещающих о победе в турнире. Мне было так хорошо, так радостно и спокойно, как еще никогда в целой жизни. Быть может только давно, в детстве, мне было так же спокойно и хорошо. Я думаю, что Катя испытывала такие же чувства, потому что, когда мы наконец-то очнулись под взглядом чьих-то огромных испуганных глаз, то не сразу поняли, что же это такое. Испуганный пятиклассник, репетировавший, наверное, наверху в своей новогодней программе, смотрел на нас, раскрыв широко рот, и совершенно не двигался с места. Мы весело рассмеялись, и, взявшись за руки, выбежали из раздевалки.
Широкая лестница вела на второй этаж, и мы взбежали по ней, а потом пошли по наполовину освещенному залу, в глубине которого стояла сцена с кулисами. На ней как раз заканчивал репетицию какой-то танцевальный ансамбль из младших классов. Школьный оркестр в стороне собирал инструменты, техничка готовилась мыть пустые, настежь открытые кабинеты. Мы вошли наугад в один из них и сели за парту. Света не было, я в темноте привлек к себе Катю и поцеловал ее в шею. То есть, если честно, я хотел поцеловать ее в губы, потому что это был первый мой поцелуй. Если не считать поцелуев, которыми осыпал я ее в раздевалке. Но получилось так, что я поцеловал ее не в губы, а в шею, и она сразу же замерла, и я тоже замер, став похожим на статую. И так мы застыли в этом темном пустом классе, прижавшись один к другому и одновременно сжавшись от страха. Я чувствовал, что мы перешли какую-то важную, невидимую для глаза границу. Что я должен сейчас что-то такое сказать, от чего изменится вся наша жизнь. Что-то гораздо более важное, чем слова мои внизу в раздевалке. Потому что в раздевалке мы были окружены множеством посторонних предметов: чужими пальто и шубами, бумажным сором, огрызками пирожков и ореховой скорлупой, валявшимися на немытом полу, раскрытыми от ужаса глазами испуганного пятиклассника. А здесь мы были совершенно одни, вокруг была темнота и томительное ожидание важных и нужных слов. Но мне на ум, как назло, не приходили никакие слова. Я сидел рядом с Катей, обнимая ее за талию, и молчал, как последний дурак. Так продолжалось довольно долго, и наши сердца, которые стучали, как бешеные, заглушали шум покидающих школу людей. Наконец дальше молчать стало невыносимо, и пока я обдумывал, что бы такое сказать, Катя сама нарушила наше молчание.
– Ты женишься на мне после школы? – тихо спросила она, отодвинувшись на край парты и сняв с талии мою руку.
– Катя! – закричал я, сразу найдя нужные мне слова. – Катя, прости меня, но я не могу этого сделать! Я ведь тебе говорил об этом – там, внизу, в раздевалке. Точнее, я пытался это тебе объяснить. Зачем жениться на ком-нибудь, зачем все остальное: любовь, школа, блестящая карьера после нее? Ведь все это не имеет ни малейшего смысла! Понимаешь – вокруг все ненастоящее, игрушечное, какое-то придуманное, вроде кукольного спектакля. Понимаешь – придумано все: и школа, и улица, и город, и даже сама наша жизнь.
– И любовь? – спросила она.
– Да, да, и любовь! Я не знаю, как так получилось, но то, что мы все больны, знаю наверняка. Я чувствую, понимаешь, чувствую, что все вокруг ненастоящее и фальшивое. И люди ненастоящие, и жизнь их кем-то придумана.
– И твоя жизнь тоже придумана?
– Да, и моя, и моя тоже. В том-то и дело, что я тоже придуман. Вроде бы человек, а на самом деле – персонаж кукольного спектакля. Я иногда просто боюсь самого себя. Именно поэтому мне нельзя ни на ком жениться. Да и вообще, я, наверное, скоро умру. До тридцати лет, во всяком случае, уж точно не доживу. Со скалы упаду, или попаду под проезжий трамвай.
– Что ты говоришь, у нас ведь в городе нет трамваев!
– Это я так, к слову сказать. Нет трамваев, зато есть троллейбусы. Сяду в него, а он возьмет, и перевернется где-нибудь около Ялты.
– Ты что, собираешься ехать в Ялту на этот американский концерт? Директор ведь запретил тебе это делать.
– Именно поэтому я на него и поеду. Может быть мне написано поехать на этот концерт, а на обратном пути перевернуться вместе с троллейбусом. Теперь уж решено – поеду на него обязательно. Сегодня я еще не знал, поеду туда, или нет. А сейчас, после разговора с тобой, понял окончательно, что непременно поеду. Поеду, и обязательно перевернусь по дороге.
– Витя, пожалуйста, не надо меня пугать! – в голосе ее звучали ноты отчаяния. – Подумай о своих родителях, они ведь не переживут твоей гибели.
– Еще как переживут! Отец, во всяком случае, переживет просто отлично. Мать, конечно, будет рыдать и очень меня жалеть, но потом успокоится, и станет заботиться о сестре. А отец определенно будет доволен. Он только и ждет, как бы со мной что-нибудь приключилось.
– Ты что, не любишь своих родителей?
– А за что их любить? Мать, может быть, и люблю, а отца так ненавижу определенно. Так же, как он меня.
– Но за что, за что? – теперь уже кричала она. – За что ты можешь ненавидеть отца? Он ведь дал тебе жизнь! Ты должен быть ему благодарен за это! Почему ты такой бесчувственный!? Почему ты не такой, как все остальные!?








