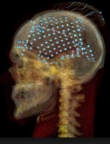Текст книги "Кость в голове"
Автор книги: Сергей Сергеев-Ценский
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Сергеев-Ценский Сергей
Кость в голове
Сергей Николаевич Сергеев-Ценский
Кость в голове
Рассказ
I
Колокольчик куриного совхоза, как всегда, в пять вечера прозвонил заливисто, и сезонники, строившие брудергауз, пошабашили. Плотники продули рубанки и фуганки, штукатуры вытерли стружками лопаточки, кровельщики, покрывавшие крутые опалубки крыши чересчур обильно просмоленным толем, пытались оттереть руки влажной глиной. Наконец, небольшими кучками, по три по пять человек, они потянулись к своему бараку лесной, обрывистой, очень крутой тропинкой в гору.
На том месте, где образовался совхоз, когда-то, до войны еще, вздумали основаться немцы из колонистов и построили с десяток домов из здешнего диорита; выкопали колодцы, в которых во время дождей держалась вода, а летом пересыхала; завели фруктовые садики и винограднички. Во время войны немцев этих отправили в Уфимскую губернию, бесхозяйственные дома разрушались.
Но один дам, получше других и попрочнее, двухэтажный, с башенкой, стоявший на тычке, похожий не то на перечницу, не то на чернильницу, обратил внимание проезжавшего по шоссе одного из видных работников птице-треста, и вот, в недолгом времени, в нем именно, в этом уцелевшем доме, образовалось ядро совхоза, носившего имя той горы, на которую его нечаянно взнесло.
Впрочем, не только люди, но и тысячные стада леггорнов могли досыта любоваться отсюда бескрайным морем на юг и вершинами Яйлы на север, так как эти вершины были все-таки куда более величественны и серьезны, чем та круглая и уютная гора, на которой вздумали разводить итальянских кур.
Вид отсюда был богатый, и два штукатура, немолодых уже, жестколицых, морщинистых, сутулых, усевшись поодаль от других, куря кручонки, дым пускали кверху, чтобы не мешал он им глядеть кругом, и, может быть, ощущали несознаваемую ясно подавленность перед тем, что сзади их каменно подымалось, а спереди без конца синело. Если бы на море и ходили сейчас волны с двухэтажный дом высотой, разглядеть этого отсюда было бы невозможно: синь и гладь, которая скоро должна была зазолотеть, так как солнца оставалось немного.
Одного из штукатуров – несколько повиднее, посырее, поплотнее и поусатее – звали Евсеем, другого – Павлом, и в то время, как Евсей имел склад губ смешливый, Павел тонкие губы свои зажимал строго: в обтяжку приходились они у него к зубам, еще не вполне прокуренным и не щербатым, и две глубокие, тоже строгие морщины на его сухих щеках правильно-прямо прочерчены были от подскульев к подбородку. Глаза у него были небольшие, мещеряцкие, с тусклым блеском, но редкие черные брови надвинуты на них до отказа, а нос с горбинкой прижимался к губе тоже каким-то задумчиво широким и строгим пришлепом. Люди такого склада торжественны по самой природе своей и к улыбке мало способны. Он и теперь сидел торжественный и напряженный, и этому ничуть не мешала его заляпанная известью кепка и рабочий фартук.
Евсей был пришлый из курской деревни; он сказал тенорком:
– Так посмотреть округ, будто ничего, подходяще, а только ни к чему... Прямо перевод денег вся тут жизнь... Настоящей, правильной жизни тут, хотя бы и с этими белыми курями, быть не должно: лес да камень.
А Павел на это важно и торжественно:
– Это ты по крестьянству судишь... Сознаю сам и ничего в возражении не имею... (Голос у него был хрипучий.) По крестьянству тут податься куда широко не хватает возможностей... Однако живут многие... А я, как с мальчишек в этот Крым попал с дядей, – мы рязанские, – так все и провожал долгое время... Несмотря что в этих местах я себе смертельное увечье получил, все-таки я отсюда не уходил... Места эти, в моем увечье они были невинные, как говорится: "Невинно вино, укоризненно пьянство", – так и эти места.
Евсей смешливо перебрал губами:
– Говоришь "увечье смертельное", а жив.
Но Павел возразил строго:
– Это одно другого не касается. Бывает, человек от пустяка помирает: муха его там какая укусит или комар, он и готов. В мухе же какая может оказаться смерть? Муха – она нистожная, а я в Севастополе с третьего этажа с рештованья упал и прямо на мостовую... Это уж не сравнишь с мухой... Это смерть называется законная... Однако благодаря судьбе своей остался в живых. У начальника порта, адмирала одного... фамилию сейчас вспомню... Не Чухнин, Чухнина матросы убили... одним словом, позабыл, однако вспомнить всегда могу... трехэтажный дом строили в конце Нахимовской... не к пристани ближе, а в другом конце, он и счас стоит: кому надо поглядеть – иди, гляди. Строили, а я, конечно, в штукатурах там в артели... Случись, рештованье плохое было. Нес товарищ спереди мешок алебастру, а я сзади другой (это мы карниза обводили на третьем этажу), он пошел в просвет, ничего, и я уж к самому просвету подхожу, – тра-ах подо мной рештовка, рухнулась вся к чертям, и я, значит, вниз с мешком... И как до земли долетел, об этом не помню, а только подняли меня с мостовой – и в больницу. Пять сутков я без сознания находился. Кто из простого звания, уверенно в том говорят в одно слово: помер! А доктора отстаивают: жив!.. Тетка моя в Карасубазаре замужем за одним греком жила, ей телеграмму дали, приехала, около стоит, меня называет, я голос ее слышу, а глаз открыть не могу. Это уж на шестой день было... "Тетя, говорю, это где это я?" А она – баба ведь! – как зарыдает врыд... Тут от этого мне опять дурно... Опять я без сознания на сутки. Так что после того и доктор один стал оспаривать: "Должно, не выходится, помрет..." И так мне тогда жалко самого себя стало, – очень уверенность в нем большая была, – до того жалко, что я: "Ничего, говорю, может, еще отойду..." И тут от этого усилия, от жалости, глаза открыл... Это уж на седьмой день было. Долго ли, коротко ли, шесть месяцев я провалялся... Вот видишь: лоб себе рассек – раз; на затылку трещина большая была – два; ногу левую сломал, руку правую это место сломал, ключицу сломал... Как на перевязку мне, а со мной дурнота. Говорил тогда доктор: "Не иначе, тебе кости надо вынуть из головы, а то в голове будет кружение..." А я испугался: как это кости из головы вынуть? Что это, шуточное дело? Так и отказался. Побоялся, конечно... Особенно там один молодой настойчиво так: "Для вашей же, говорит, пользы, соглашайтесь!" А я говорю: "Много вас словесно благодарю, что вы со мной, как с богатым, хлопот имеете, а только, говорю, решиться на это мне моя темнота не дозволяет". Нет, так правду будем говорить: шуточное это дело – кости из головы вынимать! Ну в конце концов пошел я на выписку, ничего из своей головы не вынимавши... Сижу на бульваре раз, весь обвязанный, гляжу – инженер молодой, Семенцов его фамилия: "Ты это, говорит, тот самый есть, который с лесов упал?" – "Я самый", – говорю. "Так и так, твое дело верное, подавай в суд на начальника порта за увечье десять тысяч получишь". Понимаешь, прежнее время да десять тысяч, ведь это что? Несчислимое богатство! Однако я так поглядел на него с жалостью... "Как же, говорю, вы меня такому научаете, когда нам отказу на постройке ни в чем не было? Доски, гвозди – вольные; сколько хочешь, столько и бери. Плотники, может, виноваты, что так рештованье сколотили, ну, ничуть не сам хозяин... Архитектор тут был? Был. За постройкой смотрел? Смотрел. Также и подрядчиково это, конечно, дело, рештованье проглядеть, может, где фальшь, ну никак не хозяина. Хозяин, он людям доверился, хозяин, он хотя в Москву себе поезжай, раз от него люди к постройке приставлены. Выходит, что никаким манером нельзя мне на него в суд подавать, если по правде..." Так ему объясняю, инженеру, а он мне все свое: "Подавай, не сомневайся. Твое дело верное. А меня в свидетели представь: видал я, как ты летел, – на моих глазах дело было..." Опять я ему свое, опять он мне свое, так и плюнул даже – пошел, что я такой дурак, своей кровной выгоды не понимаю. Два дня или больше прошло, сижу на улице на скамейке около дома, где свою квартиру имел, гляжу, пара едет, и кто же, ты думаешь? Сам начальник порта... видит меня узнал. Он, говорили мне, и в больницу заезжал, когда я в бессознании находился... Кучеру приказ: стой! Из коляски вышел – и ко мне. Я подымаюсь, а фуражки перед ним снять не могу, как я весь оббинтованный. А он мне: "Садись со мной, поедем". Я в удивленье, конечно, ну, осмелел, сажусь рядом. "Как здоровье?" – спрашивает. "Благодаря судьбе своей", – говорю. "Ты, говорят, на меня прошенье в суд подал?" – "Не подавал, говорю, и подавать не хочу... Может, говорю, и закон такой есть и мне бы с вас присудили, только вы тут совсем непричинны: доски были вольные, гвозди вольные, стало быть, сами мы виноваты, строильщики: сами для себя рештованье делали, а сделать как следует – руки поотсыхали..."
Смотрит он на меня, смотрит, а старый уж человек, седого волоса куда в нем больше, чем родимого, и в очках золотых... "Поедем-ка мы, говорит, с тобой ко мне: там с женой моей потолкуешь..." Приехали. Точно, дама такая из себя полная, ну, помоложе все-таки его годков на пятнадцать... "Здравствуйте! (На "вы".) Как ваше здоровье?" Объяснил ей все. Горничной позвонила. Вошла та в фартучке беленьком: "Чего прикажете?" – "Принесите нам кофею". Ей, значит, стакан принесла горничная та и мне тоже. "Кушайте!" "Покорнейше благодарю". Пью я ложечкой, как следует, ложечка позлащенная, она тоже пьет. Потом губы обтерла салфеткой и мне так издалька: "Говорят, вы на нас с мужем в суд подали?" – "Нет, говорю, сударыня, никакого на это я права не имею". – "Да вы, говорит, истинную правду мне выложите, а выдумывать не к чему". Опять ей, как самому адмиралу, изъясняю: "Никакой вашей вины в этом нет, доски были вольные, гвозди вольные". Тут уж сам адмирал подошел. "Вот что, голубчик! Если ты правду говоришь, что в суд подавать не будешь, то я тебе сам заплачу... Примерно, пятьсот рублей – это как, довольно с тебя будет?" – "Я, говорю, еще, может, с полгода не налажусь, а за деньги могу вас только на словах благодарить". – "Ну, вот тебе пять сотенных, считай!" Дает. Взял я. "Чувствительно благодарю, говорю. Все-таки живет в вас, значит, добрая душа". А она, супруга-то его, смотрит-смотрит на меня пристально да вдруг ему, адмиралу: "Возьмет пятьсот, а в суд своим чередом подаст, я уж это в точности вижу!" И так мне горько стало тогда от подобных слов!.. Все мое здоровье в пятьсот рублей оценили да еще и веры мне дать не хотят... Положил я эти деньги на стол и говорю: "Ничего мне не надо в таком случае. А в суд я подавать не думал, так и сейчас не думаю... И денег мне с вас не надо. Эти деньги неправильные, потому вы в этом моем увечье ни капли не виноваты". Да за картуз... Как она вскрикнет вдруг да из комнаты вон. А начальник порта сует мне опять бумажки: "Бери, бери, тебе пригодятся, а у нас думка с плеч долой..."
В то самое время и жена его выходит, а глаза платочком вытирает... "И от меня лично, говорит, сто рублей вот возьмите, а в больницу девяносто рублей за шесть месяцев тоже я сама взнесу".
И так все мы трое друг перед дружкой стоим и плачем, потому что тот, адмирал, глядя на жену, слезам дал позволенье, а я от чувства... Так в слезах и простились со мной, как с благородным, за руку: адмирал ведь начальник всего порта, это что было в те времена... Вспомнить надо.
И разве же я мог с ним судиться? Что стал бы я на том суде говорить, кого обвинять? Поди ищи виноватого, когда ни в чем отказу не было: доски, гвозди, стропила, балки – все бери свободно. К кому же вину приписать? А тут еще на моей памяти – в Киеве дом от города строили пятиэтажный, четверо сошлись на балкончике на свежем бетоне покурить да провалились, – это с пятого этажа. И бетон полетел вместе с ними. Понятно, от них ни одной косточки цельной не осталось. И вот пошли ходить четыре бабы клянчить. Ходили-ходили, и только одна сто рублей получила, как у ней четверо ребят, мал мала меньше. А другим и того не дали: отправляйся в деревню, хлебушко черный жуй.
Евсей повел смешливыми губами:
– И, небось, еще скажешь: "Присудили бы мне на суде десять тысяч, нипочем бы я их не взял!"
Но Павел ответил строго:
– Не взять, отчего же такое? Взять бы я взял, а только правильной суммой своей не считал бы.
– Однако ж от адмирала того взял шестьсот. Адмиралы!.. Сколько их, говорят, в море покидали в восемнадцатом, а ты тут нагородил. Это когда с тобой дело было?
– Это, почитай, перед войной случилось.
– Деньги-то пропил потом? – полюбопытствовал Евсей.
– Нет, на хозяйство эти деньги пошли.
– Поэтому ты хозяин был богатый?
– Нет... Все под итог пропало. И как они мне, эти деньги, могли в пользу пойти, когда они неправильные деньги? Вот поэтому они и пропали зря.
Первым делом я женщине доверился... в доме этом жила за няньку вроде бы. На той квартире, где я тогда проживал, даже она мне землячка приходилась и тетку мою это она же вызвала, стало быть, ко мне с участием... А раз она про деньги узнала, про шестьсот рублей, тут уж она отдышаться не могла одно и знай, двошит в уши. Женщины от денег с ума готовы сойти. Кто есть женщина для мужчины? Есть она первый для него вор. Бывают денные воры, а больше полуночники, ну, есть также какие и перед светом работают, когда у людей сон самый крепкий... Эта же тебе и днем и ночью и во всякое время точит и точит, как мышь под полом, и отдыха в этом деле не знает. Раз уж я про деньги эти ей сказал да еще своими глазами увидала бумажки новенькие, тут уж она не могла расстаться. Давай будем хозяйство заводить, а то деньги все зря пропустишь. А я, конечно, весь бинтами оббинтованный, на одних бинтах держусь, и такое у меня к ним вроде пристрастие: как бинты с меня сымут – тоска мне и страх, а как опять оббинтуют, вроде я как дите в пеленках: твердость тогда во мне, и хожу ничего.
Вот я ей и говорю: "Феня (ее Федосьей звали), вот весь я перед тобою... Только как же мы будем с тобою жить, когда ты считаешься замужняя?" – "А мой муж, говорит, в городе Омском служит в солдатах, а как отслужит – все равно я с ним жить тогда не согласна, а только с тобой... Место купим, хату поставим, огород разведем, корову прибретем..." Все бабские думки в одно место собрала и, конечно, ульстила, стерва. Ну, долго ли, коротко ли, деньги – дело, конечно, льстивое. Как может быть, чтобы вор, например, десятку у тебя взял, а сотенную оставил? Никогда вора такого не могло быть. Ну, вот и Феня эта!.. Она баба из себя тогда очень здоровая была: ряшка мало не лопнет, и во всех частях круглота, и деньги эти ей мои, конечно, полное ума помрачение...
Место на Корабельной слободке купила, а там все больше боцмана да матросы отставные жительство имели, – и тут тебе ворочать начала не плоше мужика: "Хату строить!" Я же смотрю только и ей говорю: "Феня! Хотя я штукатур и на постройках вырос и окалечился, ну, могу я тебе дать только совет словесный, а не то чтобы балки встремлять или даже глину месить..." "Ты, говорит, только сиди и глаз не спускай, чтобы плотники гвоздей не украли да стружек в свои фартуки не пхали, потому – нам стружки самим в хозяйстве годятся, а я побегу того взять, другого приобресть..."
И вот я, понимаешь, сижу, гляжу, даже плотникам говорю: "Послал мне бог за мое увечье бабу такую, что лучше на свете и быть не может". И они утверждают: "За этой бабой не пропадешь. За такой, как у ней, спиной широкой ты теперь можешь, как князь, сидеть".
Гляжу – потом и щенка она злого достала и хвост ему топором обрубила на полене, чтоб еще злее был, и двух коз котных откуда-то пригнала. Ну уж козы, одним словом, не простые наши – деревенские, а такие козы, я тебе скажу, что называется швейцарский завод: по шесть бутылок по напору давали. Вполне нам две козы эти цельную корову заменяли...
Вижу я, да и другие тоже не слепые, что Феня эта моя такая, выходит, птица, которая по части гнезда вполне вить умеющая, и даже с большою она жадностью к этому делу, а не то как другие бывают – абы как!
II
– Вот, долго ли, коротко ли, хата у нас уж готовая: две комнаты с печкой и коридорчик. Собака под коридорчиком с одного бока, а козы – с другого. Козлят мы, конечно, продали, и тоже на завод они пошли, а не в резню. Я на этом не настаивал, чтобы их оставлять, потому что коз-ля-та это тебе, одним словом, не теля. За ними очень много времени надо, чтобы смотреть, а второе – собачьи ноги, чтобы за ними бегать, а мне тогда ходить было надо только прямо и направление на какую-нибудь точку, а не вообще, потому что чуть я свихнусь – у меня сейчас головы кружение и в глазах мрак.
А молоко козье, я тебе скажу, оно лечебное считается, и даже то нам на большую пользу шло, что цена на него спротив коровьего вдвойне стояла: коровье, если по сезону, гривенник бутылка считай, козье – двугривенный. Пастись в обчее стадо гоняли, хлопот особенных никаких, а как я стал окрепши и бинты снять позволили, так туда, ближе к осени, я стал молоко разносить по заборщикам, а Феня моя бельем занялась. Тут ее хитрый нрав вскорости и оказался, а спротив меня замысел.
Я тогда малый еще, конечно, молодой был довольно, и лицо у меня от болезни явилось белое, потому что бледность в нем. Это в первый день случилось, как я молоко понес... В одно место я занес две бутылки – там их девочка взяла, а пустые бутылки мне назад, в другое – там старушка такая, собой чистоплотная, хотя годов ей, должно, уж семьдесят, а в третьем месте дама лет сорока... ну, одним словом, и с лица видать, что дама, и в комнате у ней убранство!.. Я, конечно, постучал, как мне Феня приказывала. А оттуда голос: "Кто там?" – "Молоко, говорю, принес". – "Откройте!" Я открыл это, а она на диване лежит. Я назад скорей, а она как зальется смехом: "Что вы, говорит, испугались? Или я уж такая страшная от своей болезни стала?" Я перед ней, конечно, извиняюсь чистосердечно: "Мне, говорю, только бы пустые бутылки взять". А она смеется: "Вот, говорит, на окошке стоят, возьмите, а я рада, что с вашего молока козьего теперь на спине лежать уже могу, а то на боку только приходилось и скрючивши... И даже я ногами теперь так и этак могу..."
Я было опять к двери повернул, а она как захохочет по-некрещеному, так что я, истинно говорю, совсем тогда заробел, да говорит между прочим: "Куда же вы, мужчина, от женщины в бегство ударяетесь? Бутылки-то хоть свои возьмите!.." Ну, я так, отворотясь, к окошку действительно на цыпочках подхожу, а она меня цоп за руку, вот за это место. "Садитесь, говорит, в кресло. Что ж вы со мной, с больной женщиной, и разговору не найдете? Ваша жена всегда со мной разговаривала". – "Извиняюсь, говорю чистосердечно, только я еще не женатый... А если вам Феня замужней сказалась, то это сущая правда, только муж ее в солдатах, в городе Омском..." А она меня в кресло толкает, чтобы я сел, а сама хохочет, и волосы у нее с подушки висят куделью. Ну, однако: "Покорно благодарю" – и сел. Раз, думаю, – она заборщица молока нашего, а другой раз – книжки у нее на столе, на окошках: может, думаю, мне пользу книжную произвесть. Ан заместо пользы она мне на другую линию стрелку свою переводит: "Ах, говорит, эта Феня какая скрытная! Говорит мне про вас – "муж", а вы ей, значит, просто хахаль". Ей-богу, таким словом и сказала. Я ей, конечно, начинаю разъяснять, что хахаль я какой же? Однако, конечно, как бы я свою Феню за жену не считал, в церкви мы с нею не венчались и не записаны. А у дамы этой космы с подушки аж до самого полу свисли, и все она, знай, хохочет... Да мне – возьми – и ляп сразу: "Ах, молоко козье ваше какую мне пользу произнесло – так меня всю на мужчину потянуло! Так меня все и тянет..."
– Вот стерва какая! – и Евсей провел языком по смешливым губам.
– Прямо, вижу я – женщина весь свой стыд потеряла. Не зря, значит, она при мне на диване лежала и ногами разделывала. Подымаюсь я с кресла домой иттить, а она меня за руку: "Куда вы?" – "Извините, говорю чистосердечно, мадам, мне подобное слушать, первое дело, не в привычку". А она: "Ничего, привыкнете! – и все мою руку не отпускает. – Мы, говорит, здесь исключительно одни в комнате, и никто сюда войти не смеет, и Феня ваша ничего знать не будет". А от нее, конечно, дух, и руки у ней белые, жалостные... "Вы, говорит, по человечеству рассудите!" Я говорю: "По человечеству сознаю, по человечеству я все решительно могу про другого рассудить, если бы я судья был, а так – посудите сами: какими же глазами мне тогда на Феню смотреть?.." – "Во-от, – она говорит, – в первый раз такого мужчину вижу: бабы боится! Хоть бы уж она действительно жена была, а то первая попавшая!" Я потом ей: "Рассудите, я и сам больной: только недавно с одра поднялся..." А она мне: "Вы-то уж поднялись, а я вот и подняться не могу, а у вас ко мне ни капли жалости нет!" И вдруг это, вижу я, слезы у ней в глазах... Ну, одним словом, долго ли, коротко ли, ульстила.
Прихожу я потом от нее домой и сам не свой... А Феня моя стирает, локтями толстыми ворочает, юбка подоткнутая...
– Ульстила, значит? – перебил Евсей участливо.
– Ульстила же!
– Вот стерва!.. Ну, уж раз баба наготове, нашему брату трудно тогда приходится, – и Евсей цыркнул через зубы.
– Хотя бы другого на мое место поставь, кого угодно, – это дело такое... одним словом, называется – жизнь!.. Ну хорошо. Вот я сумку с бутылками поставил, бутылки еще раз, хоть они людями мытые, теплой водицей сполоснул, сам виду не подаю, а покажись мне, что Феня моя все на меня зыркает в сторону, а с рук у нее мыло так клочьями и летит, а руки красные, как у гуски лапы... А ресницы эти называемые у нее совсем белые были, и по всей личности конопушки... Ну, хорошо... Сам я виду не подаю, а она все будто на меня с каким смешком зыркает... Потом слышу от нее: "Упарился, Павлуша?" – "И то, говорю, упрел... с непривычки... Ничего, отойду". "Посиди на солнышке, посохни". А сама будто все губами перебирает. Сел я на солнышке, и пошли у меня думки: "Трудится баба, как черт ворочает, для обчей нашей пользы, а я кто же выхожу перед ней? Выхожу я перед ней спальный обманщик". Обедать потом стали, и все мне корпится перед нею покаяться, перед Феней, а только вот с чего мне начать – слов таких не нахожу... Конечно, развитости мозгов у меня тогда после моей болезни и быть не могло.
Пообедали мы, она мне, не глядя, так и говорит из сторонки: "Вот все-таки от тебя теперь помочь по хозяйству будет... Теперь каждый день молоко на места носить будешь". Я ей на то: "Тяжелого труда в этом не вижу..." А сам про себя думаю: "Только уж от дамочки этой теперь надо подальше стоять!.."
И что же ты думаешь? На другой день приношу молока ей, трафлю, чтобы мне и в комнату к ней не всходить, нет, зазвала...
– Зазвала? – передернул губами Евсей.
– За-зва-ла!
– И скажешь, небось, опять ульстила?
– Уль-сти-ла!
– Вот яд!
– Чистый яд!.. И все Фене своей я не спопашусь как покаяться, потому что эта волынка пошла у нас каждый день... И так, что уж дама эта говорить начинает, что без меня она жить не может и меня от Фени оторвет, а меня в Чугуев-город возьмет. Я ей разъясняю, конечно, что двор этот, в каком мы жили, и опять же козы две, с каких молоко ей пользу доставляет, это все моя рана в голову смертельная, моя есть сила рабочая, кровь моя пролитая, кости мои поломанные... Что этого я ни в жисть не могу решиться, что это – мой угол вечный...
А тут уж октябрь месяц на дворе, и холодеть по утрам стало, и дамочка моя домой собираться вздумала: она в Севастополе вроде как на даче жила, крымским воздухом пользовалась, а муж ее в Чугуеве служил. "Собираюсь, говорит, я домой... Отпросись у своей Фени, меня хоть до Харькова проводи... За это от меня тридцать рублей получишь: вам с Феней лишние в хозяйстве не будут, а ты не больше как за трое сутков обернешь..."
Ну, конечно, за три дня три золотых десятки кто не хочет заработать. Всякий, я думаю, не против этого... Я Фене и говорю: "Так и так – женщина хворая, нуждается в помощи... Как ты мне скажешь?" – "Пускай, говорит, деньги вперед дает". Я той сказал, а та на это уперлась: "Я и так израсходовалась, а в Харькове меня муж стренет, у него возьму, тебе дам". Гляжу, на это Феня хоть поворчала, однако меня пускает.
Вот доехали мы до Харькова, и мне она десятку в зубы, – подавайся теперь, Павлуша, назад к своей Фене! "Как же это так? – говорю ей при всех на вокзале. – Выходит, вы есть – первая обманщица?" А она мне при всех свое слово: "Как это я – обманщица? Я ведь двадцать рублей Фене вашей уж отдала, а это последние – десять". – "Быть этого, говорю, не может!" – "Как это, она мне, – быть не может! А что раньше я за тебя сто рублей Фене твоей уплатила, этого тоже не может быть?" Я так голову свою в плечи всунул и, обомлевши, стою, а кругом, конечно, народ. "Ты, говорит, купленный мною был за сто рублей для моей утехи, а теперь поспешай домой скорей – может, обратный поезд идет, а то муж ее, Фени твоей, из города Омского должен со службы в запас приехать, можешь ты и дому свово не оттягать".
Как сказала мне это еще, я рот разинул, а закрыть его не в состоянии: свело мне тут все, и слова сказать не могу. А она мне: "Вот и муж мой меня ходит – ищет... Сейчас ему шумну, а ты уходи, меня при нем не срами, как меня срамить не за что: я свое уплатила". Оглянулся я, где этот муж, а она от меня в другую сторону, а кругом народ как в котле кипит, – так меня от нее и оттерли... Ну, все-таки я заметил, – в дверях назад оглянулся, – она с чиновником лет пожилых целуется, а он картуз зеленый над головой держит, и голова вся блестит, лысая: не иначе, что это и был муж ее... А тут вступило мне: "А что как не обманула... А вдруг к моей Фене и в сам деле муж из города Омского? Вдруг и в сам деле это все у них было сговорено?.. Что такое баба? Внутренний вор. Разве она по правде когда жила? Она только свою линию всегда соблюдала..."
Как вступило мне это, я сейчас на поезд, как раз встречный был, да домой. В поезде люди какие были, так мне и с теми говорить нет охоты: все думаю – сижу: "Как же это? Неужто баба моя так меня обмотала?.." Приезжаю в Севастополь и первым делом домой качу. И что же ты думаешь? Все оказалось правда. Отворяю дверь – за столом солдат сидит, из себя очень здоровый, водка перед ним, помидорами закусывает, а Феня возле плиты, – я же эту плиту сам и клал, как я и по печной части могу, – стоит возле плиты, яичницу жарит с колбасой.
Я это в дверях стал в удивленье, а она мне, стерва: "Что? Отвез свою кралю-то? А ко мне в дом муж приехал, – вот он сидит... Службу свою совсем окончил". А солдат этот рюмку себе налил, не спеша выпил, хлебом усы обтер да мне: "Садись, земляк, чего притолку зря подпираешь, она и так не завалится... Садись, гостем будешь!" – "Ка-ак это так "гостем", говорю, когда я есть здесь хозяин природный, когда это – мой угол вечный!" И только я это сказал, как Феня моя – руки фертом, голову совиную назад отвалила и залилась.
А солдат ее сидит, с лица весь кровяной, как арбуз спелый, да говорит, спешки не зная: "Ты, землячок, вещишки свои собери да катись отседа!" Ну, одним словом, их спротив меня двое вышло, а у меня головы кружение и в глазах заметило.
III
– Час я, не больше, в хате своей на порожку посидел, одежу, струмент свой щекатурный забрал, и вира! Потому суда с этой Фенькой, как с тем адмиралом, никакого быть не могло. У ней все, у стервы, оказалось по закону: землю участок она купила на свое имя, дом новый, хата наша, опять же на ее имя был записан-застрахован, – все, одним словом, по закону, и муж явился законный... Только мне в том хотелось удостовериться, правда ль она с этой чугуевской сто рублей за меня получила да еще двадцать за отвоз. И что же ты думаешь? Все до копеечки вышло правда... Вот как меня две бабы обмотали... Ну, одна хоть была из других классов, а Фенька-то, а? Вот и думай над этим... Внутренний враг!.. Ну, не случись мне в это время работа по печной части, – вот бы я и пропал вторично. Однако тогда уж на зиму люди готовились... Немного я подработал да в Симферополь перебрался – там зиму и весну провел, а летом, глядь, война.
– Война, тебе она что же? Калечные тогда дома сидели, – лениво сказал Евсей.
– Так я и сам думал, что не должны взять, и на комиссии чистосердечно всем объяснил, однако ж не помоглося мне – взяли! – торжественно поглядел на Евсея Павел. – "Мы ведь, говорят, тебя в ополченцы, там служба легкая!" Ну, я, конечно, в спор с ними не могу вступать, а на словах только изъясняю: кость у меня в голове. А они только посмотрели друг на дружку, – полковник один и доктор военный, и еще двое чинов посмотрели, и вроде бы им весело показалось, а полковник даже с шуткой такой: "Вот как совсем костей в голове не будет, тогда, разумеется, дело можно считать пропащее, а с костями которые – этих давай да давай сюда!" В одно слово – всю мою рану смертельную в какую-то шутку повернули и сами себе смеются, а я уж обязан был тогда на это стоять и молчать, как я, выхожу, значит, записан в солдаты и свободы-развязности никакой больше я не имею.
Конечно, сознаю я, что мне, как я неженатый, куда же спротив других легче должно быть: у других жена, ребят по нескольку штук, – те уж ходят темнее ночи, считай, что безо всякого фронту они вполовину убитые! И вот, нас сколько там было, пересчитали, переписали и погнали нас на вокзал. И куда же, ты думаешь, я попал? Опять же в Севастополе очутился, в семьдесят пятой дружине.
– У Феньки?
– Фенька эта – своим чередом... Первое дело была наша служба. Винтовки нам выдали, берданки, а одежа своя, и так ходим мы ротами, а одеты кто в чем: у кого картуз, у кого кепка, у кого бриль соломенный, так же и с костюмами. Мимо базара приходилось проходить на ученье, и торговки, какие там бублики продавали, к нам с сожалением: "Гляди, апольченцев гонють!" А мы, чтобы виду не показывать, мы мимо них с песнями:
Смело пойдем воевать со врагами,
Докажем, что есть ополченцы в бою...
– До-ка-за-ли! – подкивнул Евсей.
– Доказали, истинно! А казармы нам приделили – это был такой дом возля Карантинной бухты, куда в прежнее время паломников помещали, ну, понимаешь, это которые в Палестину ездили, назывались паломники, как они свою жизнь надвое поломали... Вот и мы тоже живем там, вповалку дрыхнем на соломе и об себе говорим: "Чем же мы не паломники? У всех у нас жизнь теперь поломанная!.." Эх, если ты не служил тогда, считай это за большое себе счастье! Ну, были, между прочим, из нас такие тоже счастливые!.. Помню я так, что какая-то комиссия явилась: два чужих офицера да врач, да из наших только сам командир дружины, наш полковник Громека. Командует он: "Какие признаете себя всем здоровыми, выходи на середину!" Ну, все стоят, думают: это ж на позиции выбирают! Как же, дождешься ты дурака, чтоб сам вышел. Стоят все, понимаешь, и ни с места. А Громека наш скраснелся весь, ухватил одного унтер-офицера, мордастого, за рукав, как дернет к себе из первой шеренги: "Тты, так и так и этак, чуть рожа не лопнет, а не выходишь?!"