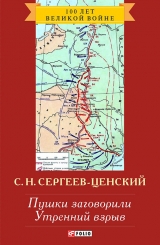
Текст книги "Пушки заговорили (Преображение России - 6)"
Автор книги: Сергей Сергеев-Ценский
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Овации долго не прекращались после этих слов: представитель поляков сильно разогрел зал Таврического дворца.
Площадь перед дворцом во время заседания была полна народа. Из уст в уста передавалось, как от имени прибалтийских немцев выступал барон Фелькерзам, отбарабанив по бумажке, что "искони верноподданное население Прибалтийского края готово стать на защиту престола и отечества и голосовать за все военные кредиты", и как в ответ ему раздалось всего только два-три "дежурных" хлопка.
– Здорово!.. Поняли, с кем имеют дело! – кричали в толпе.
И тут же неожиданная, но воспринятая с радостью новость:
– А читали в вечернем бюллетене, что Метерлинк записался в армию волонтером?
– Метерлинк? Волонтером?.. Вот это так!
"Синяя птица", поставленная Московским Художественным театром, прогремела на всю Россию и сделала Метерлинка известнейшим писателем, и как нельзя более радостно были взволнованы все, что автор этой прелестной пьесы-сказки надел серую шинель солдата и стал в ряды защитников Бельгии от общего с Россией врага.
IV
Подробности того, что происходило на историческом заседании Государственной думы, передала сестрам их квартирная хозяйка Ядвига Петровна Стецкевич, дама с седыми буклями и пенсне, несколько излишне полная, но очень подвижная, способная проникнуть и в театр, когда "все билеты проданы", и на бега, когда разыгрывался дерби, и в Думу, когда там ожидался "большой день".
Она хорошо и бойко говорила по-русски, и в первый же день знакомства с нею сестры узнали, что она неплохо умеет готовить, особенно польские блюда, как бигос, мнишки, розбратель и прочие, но что ей совершенно никогда не удавалось, так это варка варенья.
– Представьте себе, я четыре раза варила варенье, – оживленно говорила она, – и что же получилось в результате? В первый раз варенье заплесневело, во второй – засахарилось, в третий – прокисло, а в четвертый – в каждую из трех банок варенья попало по одной мыши!.. Ффу, я так ненавижу мышей, я так их даже боюсь, должна вам в этом признаться, и вдруг – мыши в варенье! Три огромных банки по полпуда в каждой – малина, вишня и райские яблочки, – и все это пошло в помойную яму!
– Очень жалко, что тогда меня не было у вас, – мечтательно сказала на это Нюра.
– А что бы вы хотели сделать?
– Я бы мышей, конечно, выкинула и сверчу варенье тоже, а зато остальное...
– Что, что "остальное"? – перебила от нетерпения Ядвига Петровна.
– Остальное бы переварила в трех тазах, и было бы у меня если не полтора пуда, то, допустим, пуд с четвертью, – быстро подсчитала Нюра.
– Во-от ка-ак! Вон какая вы сладкоежка!.. – расхохоталась Ядвига Петровна и бросилась ее целовать.
Вполне естественно это у нее вышло.
По ее словам, она очень уважала Николая Васильевича Невредимова, как солидного своего жильца, и эту приязнь перенесла с первого же дня на его юных сестер.
– У меня не то, чтобы какие-нибудь шамбр-гарни*, – говорила она, – у меня просто несколько большая для меня одной квартира осталась после покойного мужа, и я имею возможность сдавать из нее три комнаты, только, разумеется, с большим разбором: кому-нибудь первому попавшемуся я комнат не сдаю, я долго говорю с каждым, прежде чем сдать, кто он такой и чем занимается, и какие имеет привычки... Мне вам и сказать неудобно, какие иногда бывают у людей привычки!.. Так что я подбираю себе жильцов таких, которые безо всяких привычек.
______________
* Меблированные комнаты (франц.).
Впрочем, у нее самой тоже была привычка перебирать своими полными плечами, выставляя вперед то одно, то другое, поднимая и опуская то одно, то другое. Лицо у нее было еще довольно свежее для ее почтенных лет, постарели только руки, кожа которых была в морщинах и даже в каких-то светло-коричневых пятнах.
Она была среднего женского роста, но от длинного капота фасона "гейша" казалась выше, чем была; капот же этот, канареечного цвета, с широкими рукавами до локтей, неутомимо мелькал целый день по всей квартире: то в комнатах, то в коридоре, то на кухне, то на балконе, где хозяйка сама развешивала и выколачивала свою постель, не доверяя этого прислуге Варе, женщине мало поворотливой и довольно робкой, недавно явившейся в Петербург из деревни.
Говоря об этой Варе сестрам Невредимовым, Ядвига Петровна жаловалась на ее бестолковость, но добавляла все-таки:
– Держу ее, однако, потому, что пока еще воровать не научилась.
Хотя Ядвига Петровна избегала жильцов с "привычками", сестры вскоре убедились, что привычки у занимавших другие две комнаты в квартире все же были. В одной жил бухгалтер какой-то частной банкирской конторы, имевший скверную привычку храпеть во сне, так что было слышно через тонкую стенку. В другой давно уже помещалась корректорша ежедневной газеты, которая приходила с работы рано утром и, хотя у нее был ключ от входной двери, все-таки будила сестер в неурочный час, а потом спала до обеда.
Благодаря этой своей жилице Ядвига Петровна иногда узнавала газетные новости раньше выхода в свет газет. Так, 2 августа рано утром узнала она, что верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич выпустил обращение к полякам.
Кое-что из этого обращения корректорша переписала в свою записную книжку и листок с записью передала с приходом хозяйке, так что, когда проснулись Надя и Нюра, Ядвига Петровна была уже в довольно большом сумбуре мыслей и чувств.
Еще не успели встать Надя и Нюра с кроватей, как Ядвига Петровна уже читала им торжественным голосом воззвание:
– "Поляки! Пробил час, когда заветная мечта ваших отцов и дедов может осуществиться. Полтора века тому назад живое тело Польши было растерзано на куски, но не умерла душа ее. Она жила надеждой, что наступит час воскресения польского народа, братского примирения его с русским народом. Русские войска несут вам благую весть этого примирения..." Что? Хорошо, а? Хорошо, говорите же!
– Очень! – сказала Нюра, сбрасывая одеяло.
– И даже неожиданно как-то! – сказала Надя, делая то же.
– Ну, а дальше несколько, мне кажется, хуже... Впрочем, на чей взгляд. Именно так: "Пусть сотрутся границы, разделявшие на части польский народ. Да воссоединится он воедино под скипетром русского царя. Под скипетром этим воссоединится Польша, свободная в своей вере, в языке, в самоуправлении". Как же это так "свободная в самоуправлении", когда ей обещают быть "под скипетром русского царя" – вот я чего не пойму!
И Ядвига Петровна заблистала стеклами своего пенсне далеко не так добродушно, как обычно. Надя же, силясь понять, что это в самом деле значит, сказала, наконец:
– Это, должно быть, так же, как, например, Финляндия: за станцией Белоостров, если из Петербурга ехать, там уж великое княжество Финляндское.
– Значит, так же, как и было, – тут же подхватила Ядвига Петровна. "Царь польский, великий князь литовский, великий князь финляндский и прочая, и прочая, и прочая", как в манифесте пишется? Только что Польша русская станет втрое больше, а так она и останется русская?
– Ну, хорошо, а как же иначе? – наивно спросила Нюра.
Теперь стекла пенсне Ядвиги Петровны блеснули откровенно зло, и она выкрикнула:
– Иначе, милая моя, может выйти так, что Польша будет самостоятельным государством, каким она была до раздела, – вот как может быть иначе!
И не будучи, очевидно, в силах справиться с сильным напором чувств, Ядвига Петровна тут же выскочила из комнаты сестер, взмахнув, как крыльями, широкими рукавами своей "гейши" и оставив Надю и Нюру в большом недоумении.
V
Вскоре после этого сестры прочитали в газетах еще одно воззвание того же верховного главнокомандующего, только обращался он теперь к русскому народу Галицкой Руси.
"Братья! Творится суд божий!
Терпеливо, с христианским смирением в течение веков томился русский народ под чужеземным игом, но ни лестью, ни гонением нельзя было сломить в нем чаяния свободы. Как бурный поток рвет камни, чтобы слиться с морем, так нет силы, которая остановила бы русский народ в его порыве к объединению.
Да не будет больше подъяремной Руси! Достояние Владимира Святого, земля Ярослава Осмомысла, князей Даниила и Романа, сбросив иго, да водрузит стяг единой великой нераздельной России... А ты, многострадальная братская Русь, встань на сретенье русской силы!.. Освобождаемые русские братья, всем вам найдется место на лоне матери России!"
Конечно, это новое воззвание было прочитано также и Ядвигой Петровной, и она не могла удержаться, чтобы не обрушиться и на него бурным потоком слов.
– Очень странно, не правда ли? Вспоминает какого-то Ярослава Осмомысла, неизвестно даже когда и жившего, а ни одним звуком не обнаружил, что ему должно быть оч-чень хорошо известно, как и нам с вами!
– А что именно такое? – теперь уж не без робости спросила Нюра, в то время как Надя думала о том же самом.
– Как же так что, моя милая! Вы теперь уж студентка, и должны сами объяснять другим, что ведь в Галиции-то есть польские земли – часть Польского государства, а не какого-то Ярослава Осмомысла! При разделе Польши между Россией, Пруссией, Австрией они достались Австрии – только и всего! как другие исконные польские земли отошли к России и к Пруссии... Мир не видал никогда такого варварства, какому подвергли тогда несчастную Польшу!.. И вот теперь оказалось уж, что Польшу желает великий князь объединить с Россией на тех же самых основаниях, как и Галицию... И почему, спрашивается, сочиняет эти воззвания великий князь, а не царь, – никто этого не понимает!.. Нет, как хотите, а приходится вспомнить пословицу, хотя она и неблагозвучна: рыба воняет с головы, – вот что!
Тут Надя, и это ей самой показалось странным, подумала, что ее квартирная хозяйка, которую она называла в разговорах с сестрой "очень симпатичной", вдруг обернулась стороною непримиримо враждебной, и даже то, что она сказала о рыбе, воняющей с головы, то есть о России с ее царем и дядей царя, великим князем, верховным главнокомандующим, ее покоробило.
Перед войною она могла бы это сказать и сама, теперь же, когда началась война с Германией, когда от руководства войсками русскими зависела победа, а руководить ими поставлен великий князь, по-видимому не даром же, а за свои военные способности, хотя и неизвестные широкой публике, – она бы так о нем не сказала.
Вскинув на Ядвигу Петровну удивленные округленные глаза, она хотела даже ответить ей резкостью, но насилу сдержалась, вспомнила Ярослава Осмомысла:
– А в "Слове о полку Игореве" упоминается Ярослав Осмомысл, князь Галиции...
На это скромное замечание Нади Ядвига Петровна отозвалась яростно:
– Какое кому дело, что было при царе Горохе, когда лед горел, а соломой тушили?!. Давным-давно в польских галицийских землях польская культура, и ни о каких Гостомыслах никто там ничего не знал и не знает!.. Это все равно, как если бы сказать, что там когда-нибудь тигры водились! Может быть, и водились двадцать тысяч лет тому назад, так что же из этого? Напустить в Галицию тигров, пусть опять там водятся? "От Варшавы до Кракова едне сердце, една мова" – вот как говорят у нас в Польше! И если нам не возвратят всех земель и не восстановят Польши, как самостоятельного государства, разве мы примиримся с этим положением? Никогда этого не будет!
И, точно Надя была виновата в обоих воззваниях великого князя, Ядвига Петровна посмотрела на нее острым уничтожающим взглядом и шумно выскочила из комнаты.
– Какая, а? – шепнула сестре Нюра, кивнув ей вслед, и добавила уже не шепотом: – Может быть, пойдем пройдемся?
Надя сразу же согласилась, что следует пройтись, и, спускаясь по лестнице, проговорила извиняюще:
– Надо все-таки войти в ее положение: ведь немецкие поляки должны будут теперь стрелять в русских поляков, а русские поляки в австрийских... Конечно, ей своих соотечественников должно быть жалко, – как же иначе?
Лекции на курсах еще не начинались, и можно было просто "пройтись". Но жизнь уже начинала читать юным сестрам свои суровые, строгие лекции, из которых нельзя было пропустить ни слова, так они были значительны, и часто на улицах звучали эти слова, притом не только у газетных киосков.
Улицы прежде такой чопорной столицы, как Петербург, теперь были возбуждены и говорливы. Теперь говорили даже в вагонах трамваев, в которых раньше царила чинная тишина. Теперь вообще петербуржцы стали общительны, насколько позволяла им их исконная замкнутость, сдвинутая с места важностью наступивших событий, последствия которых были пока еще очень загадочны, но во всяком случае должны были стать небывало еще в истории человечества велики.
На Аничковом мосту сестры встретили однокурсницу Нади, путиловку Катю Дедову. Ее отец работал модельщиком на Путиловском заводе, поэтому от нее Надя привыкла уже слышать о рабочих, о тех самых, которые шли когда-то, 9 января, к Зимнему дворцу, в которых стреляли под команду: "Патронов не жалеть! Холостых залпов не давать!"
Это был особый мир – Путиловский завод за Нарвской заставой. Надя знала, что там тысячи людей в длиннейших цехах готовят машины войны – пушки, что сам Путилов, владелец завода, почти то же самое для России, что для Германии – Крупп, что на этом заводе строят даже военные суда – миноносцы и крейсера.
Ей никогда не приходилось бывать ни на каких вообще заводах, и она с начала своего знакомства с Катей Дедовой относилась к ней с уважением за одну только ее прикосновенность к такому огромному заводу. Теперь же, когда началась война, это уважение выросло еще больше.
Нюра пытливо вглядывалась в плотную, крепкую на вид девушку, с крутыми щеками, выпуклым лбом, с не умеющими как будто совсем улыбаться губами, с густыми темными бровями, низко опущенными на небольшие карие глаза.
И голос у нее был низкого тембра, и с Надей она говорила как старшая с младшей, из чего Нюра вывела, что она, хотя и однокурсница сестры, но, должно быть, не одних с нею лет. И руки у нее были шире в кистях, чем у Нади. Так как стояли они трое теперь перед одним из вздыбленных бронзовых коней, которого хотел привести к покорности мускулистый бронзовый человек, то Нюре подумалось даже, что такая, как эта Дедова, пожалуй, тоже могла бы взять в свои руки повод и повиснуть на нем, чтобы прижать конскую голову поближе к земле.
На вопрос Нади, как на заводе настроены рабочие, Катя отвечала не то чтобы привычно хмуря свои густые брови, но как будто подчеркнуто хмуря их:
– Рабочие ведь теперь раскассированы: очень многих забрали в армию, несколько тысяч, а другие, которые тоже запасные или ополченцы, только очень нужные на заводе, – те оставлены, работают, только их предупредили, что чуть что – ушлют под пули без разговоров.
– А что это значит "чуть что"? – не утерпела, чтобы не спросить, Нюра.
– Это твоя сестра? – спросила Дедова Надю вместо ответа Нюре.
– Сестра же, я же ведь тебе сказала! – удивилась Надя.
– Я не расслышала. Она на тебя похожа, – сказала неторопливо Дедова и, оглядев Нюру цепким взглядом, как бы вскользь бросила ей: – Рабочие останутся рабочими, хотя и война.
– И хотя работают на войну, – добавила Надя.
– А что может выиграть на войне рабочий? – глядя по-своему, то есть как будто исподлобья, недоверчиво и недовольно, на Нюру, спросила Дедова.
– Ничего ровным счетом, – храбро ответила Нюра готовой фразой, слышанной ею от сестры, хотя в смысл этой фразы она еще не удосужилась проникнуть.
– То-то и есть... Поэтому настроения у наших рабочих остались прежние. А как их расстреливали в июле, этого они не забыли.
– Разве расстреливали? В июле? – изумилась Надя, понизив голос.
– А ты разве не знала? Впрочем, это уж были каникулы, ты уехала домой... На заводе же, на дворе, в рабочих стреляли... Были убитые, много раненых. Потом многих арестовали...
Густой, почти мужской голос Кати очень шел – так показалось Нюре – к тому, что она говорила, и потом, когда они простились, так как Катя куда-то спешила, Нюра совершенно непосредственно сказала сестре:
– Вот такая могла бы идти впереди с красным флагом, а совсем не ты!
Это больно укололо Надю.
– Не я? Не я? Не говори глупостей!.. Катя, может быть, тоже захочет идти, только у нее не выйдет.
– Почему не выйдет? Именно у такой и выйдет.
– А я тебе говорю, что не выйдет! Я знаю Катю получше, чем ты.
– Зато она рабочих знает, а ты нет, – не сдавалась Нюра.
– А ты почему думаешь, что я не знаю?
– А где же ты их могла видеть? В Симферополе?
– Где бы то ни было, – упорствовала Надя.
– Нигде не видела, а туда же!
– Не раздражай меня, пожалуйста!
– Во-об-ражает в самом деле! – не унималась Нюра. – Только потому, что Сыромолотову понадобилась, а если бы он эту увидел, он бы на тебя и не посмотрел!
– Дедову? Сыромолотов? И на меня бы не посмотрел?..
Это не оскорбило, а развеселило Надю. Она засмеялась и дружелюбно уже толкнула сестру в плечо.
– Значит, ты уверена, что ему нравишься? – постаралась по-своему понять ее Нюра.
– То есть ты хочешь сказать, как "натура"? Я думаю, что у него были соображения по этому поводу.
– А если бы в то время у нас была эта Катя и вы бы вместе пошли к Сыромолотову, то он, конечно, выбрал бы для картины ее, а совсем не тебя!
– Это ты говоришь просто потому, что сама к нему неравнодушна – вот и все! – выпалила одним духом Надя.
– Я? Неравнодушна?
– Понятно! Иначе отчего бы ты покраснела!
– Нисколько я не покраснела, – возмутилась Нюра, чувствуя, однако, что еще гуще краснеет. – Ну да, теперь я все понимаю, – безжалостно продолжала она. – Только не понимаю, как же ты так, когда он уже старик?
– Что ты выдумываешь дурацкие глупости! – прикрикнула на нее Надя, но спустя немного добавила: – Сыромолотов пожилой человек, хотя стариком его никто не называет пока.
– То-то все ты носишься с его картиной! – соображала вслух на ходу Нюра. – Картина, картина! "Я с красным флагом! За мной демонстранты! Впереди полиция и войска!.." А все дело в том только, что ты...
– Замолчи, пожалуйста! – перебила Надя.
– Хотя вот мы учили "Полтаву" Пушкина, – продолжала тем не менее Нюра. – А там Мария влюбилась в старика Мазепу... Конечно, он был целый гетман, а не то чтобы какой-то художник, зато ведь и Кочубей был "богат и славен" и "его луга необозримы"...
Тут Надя бурно повернулась и пошла назад, и Нюре оставалось только повернуться тоже и пойти за ней следом, ничего больше не говоря, но в то же время улыбаясь слегка и с виду беспечно.
VI
После встречи с Катей Дедовой на Аничковом мосту два дня была Надя в сумятице чувств и представлений.
До этого хотя и думалось о демонстрации, но только как о теме для картины Сыромолотова: личное участие в подобном выступлении рабочих и интеллигентов сознанием откладывалось на неопределенное будущее. Теперь же раздвоилось то, что она считала единым и цельным в начавшейся войне. В одной стороне осталось прежнее: непременно должны победить; в другую отошло: а что будет потом, после победы?.. Может быть, потом, тут же, на другой день, вспомнят об ее брате Николае, который теперь офицер, – значит, нужен, – и его арестуют вновь? Может быть, из путиловских рабочих, которые теперь нужны, на второй день после войны половину сошлют в Сибирь?.. И нет правды в том, что говорила Ядвига Петровна? Как это в самом деле могло случиться, что целый народ в средней части Европы, целое довольно старое государство, взяли и поделили хладнокровнейшим образом три сильных его соседа? А теперь каждый из них, конечно, стремится только к тому, чтобы прибрать к своим рукам и остальные части, что и должно случиться, потому что надо же оправдать большие издержки войны. Наконец, из-за чего же и начинаются войны, как не из-за того, чтобы захватить у соседей что плохо лежит и так само и просится в руки?..
Сыромолотов как-то спросил ее, что, по ее мнению, значительнее, – война или революция, и она ответила, немного подумав, что революция, так как она способна прекратить на земле войны, если только хорошо удастся, а всякая война вызывает только новые войны. И вот теперь на досуге и уже во время ведущейся войны она придумывала один за другим доводы, подтверждающие тот свой ответ художнику.
Ей нравилось представлять себе, будто он спорит с ней, и она придумывала про себя, что он мог бы сказать ей, и опровергала его с большой горячностью. На это уходили у нее десятки минут, особенно когда она просыпалась ночью от храпа соседа или раннего прихода соседки.
Но, споря про себя с Сыромолотовым, она очень отчетливо представляла его себе, до того выпукло ярко, как будто он и в самом деле сидел рядом с нею и говорил. Она виделась с ним в Симферополе всего три раза, но должна была признаться себе самой, что он был теперь для нее совсем не безразличен как человек, что он как-то, сам того не желая, конечно, вошел в нее; и вот она его часто представляет, как только можно представить при полной силе воображения, и не без успеха пытается говорить про себя его словами.
Картина же, начатая им, – так как Надя помнила размер холста, – стала представляться ей на белой широкой стене против ее кровати, и ей стоило только поглядеть хотя бы вскользь на стену, чтоб ее увидеть.
Само собою выходило как-то так, будто у нее, еще очень юной филологички, есть некое общее дело с маститым художником, который хоть и укрылся в провинциальную даль, но все же не мог не быть виден всем, кому хотелось бы его видеть. И это поднимало ее в собственных глазах, она гордилась этим. Она думала о себе рядом с художником часто, и Нюра не могла этого не заметить, не проникнуть в тайники сестры.
Что же касалось Путиловского завода, то странную для себя новость услышала днем Надя от корректорши, Анны Даниловны Горбунковой, соседки, у которой оказалось какое-то жеваное и недожеванное лицо – желтое с просинью, тускло мерцали бесцветные глаза, а черные зубы зажимали мундштук папироски. "Быть корректором и не курить невозможно, все равно как резать трупы в анатомическом театре и не курить тоже нельзя", – объясняла она эту свою привычку Наде.
– Вот мы сейчас воюем с немцами чем? Пушками с Путиловского завода, а не угодно ли вам, ведь совсем было продали этот завод перед войною немцам, сказала она выразительно.
– Как так немцам?! – приняла было это за шутку Надя.
– Очень просто, как продают такие предприятия: немцы совсем уже сладились с Путиловым купить акции завода на тридцать, кажется, миллионов, вот, значит, и был бы наш завод в немецких руках.
– Все-таки, выходит, не состоялась продажа?
– Нашим мерзавцам и горя было мало, да французы подняли крик и у немчиков выдрали акции из рук.
– Что вы говорите! А как же наше правительство? Ведь оно должно было знать?
– Разумеется, знало... Да ведь у нас какое правительство?
– Позвольте, Анна Даниловна, а вы откуда же это знаете насчет продажи завода? – вспомнила вдруг Надя, что Дедова ей ничего такого не говорила.
– Вот тебе раз, откуда знаю, – криво усмехнулась Горбункова. – Должна же я свою паршивую газету читать, раз я из нее вычесываю ошибки-опечатки!
– Постойте-ка, почему же она паршивая? Какая же это именно газета? спросила Надя, чувствуя неловкость, что не догадалась раньше спросить об этом у Ядвиги Петровны.
– Вот тебе на, "какая"!.. "Русское знамя", самая черносотенная, – даже с некоторым ухарством сказала Горбункова, потом затянулась, зажав ноздри крупного носа, и обволоклась дымом.
– "Русское знамя"! – почти испугалась Надя.
– Что? Скверно?.. Порекомендуйте меня в "Речь" – перейду в "Речь", спокойно отозвалась на ее брезгливость корректорша. – Впрочем, теперь в нашей газете самая либеральная линия почти: мы против немцеедства... Не знаю, сколько наш издатель Дубровин взял с немцев, только он теперь за них горой стоит.
– За немцев! Что вы! Неужели?.. А как же ему позволяют?
– Да ведь за наших немцев! За тех, разумеется, какие в России у нас. А не один ли черт в конце-то концов. Всякий понимает, что все они в одну дудку дуют. Вот и продудели бы Путиловский завод, если бы не французы!..
– Постойте, как же так? – выкрикнула Надя. – Ведь это газета "Союза русского народа"!
– А между тем ведет себя совсем рыцарски: не желает знать разницы между русским народом и немецким, милые, дескать, бранятся, только тешатся!.. Ну, война и война, а зачем же отношения портить? Ведь у нас с немцами старинное соседство!
И недожеванное лицо Анны Даниловны приобрело на момент выразительность, чтобы потом утонуть в клубах очень почему-то густого табачного дыма.
В этот же день вечером, когда сестры были дома, к ним таинственно вошла Варя, поднесла к своему носу, похожему на утиный, уголок розового ситцевого фартука, с возможной для нее вальковатой поспешностью утерлась и сказала потихоньку:
– Какая-то к нам дамочка высокая заявилась, Николай Васильича спрашивает, а я ей сказала: "У нас такого духу-звания нету, а есть Андрей Андреич, бухгалтер..." А она свое: "Не может быть, здесь он жил, а куда же в таком случае делся?" И стоит, не уходит, и вещишки при ней... А хозяйка куда-то ушедши, и никого, окромя вас, дома нету...
– Так Николай Васильевич – это же брат наш! – вскинулась Нюра.
– Бра-ат?.. Ну, вот она, с вещишками своими к нему, значит...
И у сорокалетней Вари стало просветленно-понимающим все широкое, скуластое, плоское лицо, а Надя выскочила в коридорчик и оттуда донесся до Нюры ее радостный крик:
– Ксения! Ксюша!..
В этом крике было так много ей понятного и дорогого, что она мимо Вари бросилась тоже в коридор.
И когда Варя убедилась, что она ошиблась, что это не случайная какая-то жена, а проще сказать любовница, явилась с "вещишками" на жительство к брату барышень, а их старшая сестра, притом вырвавшаяся из рук немцев, она поднесла другой уголок своего розового фартука теперь уже к глазам и тихо вышла из комнаты.
Ксения же поразила сестер своим новым видом: такою они ее не представляли.
Высокая, с заострившимся, худым, усталым лицом, с бессильно опущенными тонкими руками, слегка сутуловатая, в шляпке, какой они на ней не видели раньше, может быть купленной там, за границей, широкополой, но как будто измятой и даже грязной, в платье, тоже каком-то несколько странном, или просто заношенном и тоже грязном, она обвела комнату сухими, с больным блеском, воспаленными, красновекими глазами и спросила глухо и натуженно:
– А где же Коля?
– Ведь Коля – прапорщик, он взят в армию, – ответила Надя и тут же, стараясь остаться радостной, добавила: – Садись же, чай сейчас пить будем!
– Что ты такая, Ксюша? – обескураженно спросила Нюра, взяла старшую сестру за руку и только что хотела к ней прижаться, как та отдернулась резко.
– Не прикасайся ко мне! Я вся избитая!.. На мне нет живого места!.. Мне везде больно!.. У меня половину волос вырвали!.. Меня ногами топтали...
Выкрикивая это, Ксения пятилась от сестер и, когда ткнулась коленом в диван, как-то подстреленно-глухо вскрикнула, упала на него ничком, и все длинное, тонкое тело ее, крупно вздрагивая, забилось от рыданий.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ХУДОЖНИК И ВОЙНА
I
Перед Архимедом, защищавшим свой родной город Сиракузы от римлян, стал кто-то и наступил на чертеж, который он делал на песке палкой. Архимед сидел, углубленный в свой чертеж. Это был проект новой катапульты, способной метать в осаждающих гораздо большие камни и гораздо быстрее, чем все им же сделанные машины.
– Не трогай моих фигур! – крикнул Архимед тому, кто бесцеремонно близко подошел к чертежу и стоял молча.
Великий физик не счел даже нужным поднять на него глаза: он смотрел на свои фигуры, попираемые чьими-то варварскими ногами, и силился восстановить их в своей памяти.
Но подошедший так некстати был воином одной из когорт, ворвавшихся в Сиракузы. У этого воина был в руке короткий меч, чтобы убивать, подойдя вплотную. И, взмахнув мечом, он убил Архимеда.
Художник Сыромолотов, сидя у себя дома, в Крыму, в Симферополе, вспоминал этот древний рассказ, когда смотрел на свою картину "Демонстрация", сильно и смело им начатую, но еще далекую от воплощения того, что он задумал изобразить. Пришел воин – не римлянин, а тевтон, – и наступил сапогом на картину.
Вышло не совсем так, как у Архимеда с его чертежами на песке: он, Сыромолотов, мог бы продолжать задуманную работу – он был жив, он был по-прежнему силен, никто не собирался его убивать ни коротким, ни длинным мечом; но в то же время он осязательно чувствовал, что продолжать не может, что начатый им холст не только раздавлен солдатским сапогом, но и отброшен куда-то далеко в сторону вместе с подрамником, на котором он был набит.
И стало место пусто вместо возможной, а главное, новой для него самого картины, потому что жизнь, вдруг нахлынувшая и всех – его тоже – охватившая, оказалась гораздо более новой и значительной, что ни говори о ней.
Иногда он пытался думать пренебрежительно: "Война, да, война... Что из того, что война? Была же ведь, например, война с Японией, погиб тогда Верещагин вместе с адмиралом Макаровым на "Петропавловске"... Глупо, что погиб, но в общем жили себе люди, как и до войны жили..."
Той войной он пытался отмахнуться от этой, но она стояла неотступно, как римский легионер перед Архимедом. И не потому даже коснулась она его так ощутительно, что сын его Ваня, спешно продавший за полцены свой дом, призван был в ополчение и уже направлен в школу прапорщиков. Он давно уже привык обходиться без сына, даже забывал иногда, что есть у него сын. Но живопись была его подлинной и полноценной жизнью, кроме которой существовала "натура", то есть то, что могло попасть на его полотно, но могло и не попасть, если не стоило того.
И вот, это был первый случай в его живописи, – то есть жизни, – что она потускнела перед чем-то другим, несравненно более значительным, которое надвинулось неотразимо и от которого стало тесно душе.
Внешне как будто ничего не изменилось в его жизни. Он вставал так же рано, чуть свет, как вставал и раньше, потому что вместе со светом солнца начиналась его ежедневная жизнь, то есть живопись. Он упорно не хотел думать о войне, так как она его лично, художника Алексея Фомича Сыромолотова, совершенно не касалась: в армию взять его не могли – для этого он был уже стар, – поэтому он вполне мог бы смотреть на эту войну так же издали, со стороны, как смотрел на войну в Маньчжурии. И, однако, привычно работая кистью, он, изумляясь самому себе, стал замечать, что его как будто держит кто-то за руку и делает его кисть бессильной.
Марья Гавриловна, его экономка, уходя по утрам на базар, неизменно приносила ему свежие газеты или даже экстренные выпуски телеграмм, и он, раньше вообще не читавший газет, не только не в состоянии был запретить ей это, но даже прочитывал все против своей воли.
Полученный им на международной выставке в Мюнхене диплом он изрезал и бросил в топившуюся на кухне плиту, а золотую медаль лично занес в местный Красный Крест, открывший прием пожертвований в пользу раненых. Но это если несколько облегчило его, то на весьма короткое время – на час, на два. Скованность, связанность, сжатость продолжались. Что-то необходимо было выдвинуть из себя, чтобы стряхнуть их, но ничего такого не находилось. Наводнение, новый всемирный потоп, и он, как Ной, в утлом ковчеге.








