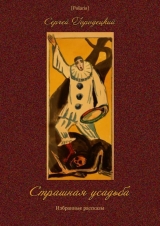
Текст книги "Страшная усадьба (Избранные рассказы)"
Автор книги: Сергей Городецкий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
ТАЙНАЯ ПРАВДА
1
Жадными глазами пробегая прибавление к вечерней газете, только что купленной на улице, Костя подымался по лестнице к квартире своих друзей, у которых жил.
В донесении штаба Главнокомандующего опять говорилось о мелких стычках, и Костя был этим разочарован. Он ждал гигантского боя и представлял себя его участником с той страстностью, с какой мечтают только о том, что никогда заведомо не сбудется.
Костя был хром и уйти на войну не мог. Ушел на войну его друг по гимназии и университету, с которым он с детских лет жил душа в душу, Витя. Соединяло их сходство характеров, взглядов, привычек, и столь тесно, что, когда Витя ушел, его мать, вдова, предложила Косте поселиться у них.
В минуты, когда особенно злая досада брала Костю на то, что он не на войне, – он логически утешал себя тем, что его ближайший друг воюет. Но душа его на этом не успокаивалась.
Душа его так же, как и Витина, гармонически соединяла в себе созерцательность с любовью к деятельности. Часами друзья могли предаваться беседам о том, что дала человеческая мудрость, но как только они во что-нибудь уверовали, у них являлась потребность делом доказать свою веру. Но тут часто мешала Косте хромота. Он в делах отставал от друга. Зато сильнее развивалась в нем душевная жизнь, как всегда это бывает у людей с физическим недостатком. Впервые резко почувствовал эту разницу Костя по окончании гимназии. Они тогда решили, что России нужнее всего железные дороги, и оба выдержали в институт путей сообщения. Но как только начались практические занятия, Костя отстал и должен был переменить профессию. Он поступил на филологический факультет и увлекся психологией. Показалось ему, что в этой зачаточной науке больше, чем в какой-либо иной, он найдет применения и созерцательной, и деятельной сторонам своей души.
Друзья виделись часто, и общая жизнь их, несмотря на различие ближайших интересов, опять начала налаживаться.
Но загорелась война, и Костя вторично – и на этот раз гораздо больней – почувствовал свою оторванность и от друга, который в первые же дни записался добровольцем, и от деятельной жизни, которая возникла в России с началом войны.
Было это ему тем мучительней, что никогда не представлялось и никогда в будущем не могло больше представиться такого яркого случая проявить согласованность веры с делом тем, кто ее, как Витя и Костя, имели.
Веровали Витя и Костя и до войны еще, что не во внешнем техническом прогрессе, достигнутом германской расой, просвечивает будущее Европы, а в глубинах славянского духа и в молодой русской культуре. Столкновение славянства с германством встречено ими было радостно, и радостно готовы оба были бросить свои жизни на славянскую чашку бурно заколебавшихся весов мира.
Но исполнить это мог только Витя. Костя остался в бездействии и созерцании. Действием для него было только одно: взять ружье и идти. Правда, первое время он начал работу в комитетах, делал обходы, участвовал в кружечных сборах.
Но эти малые дела так непохожи была на те великие, о которых он мечтал, что он скоро оставил их.
Друзья переписывались, и связь между ними не прерывалась.
Временами подолгу не приходило писем от Вити. Тогда Костя вспоминал с тоской последнюю фразу, сказанную другом перед разлукой:
– Если я буду убит…
Конца не услышал Костя: тронулся поезд, поднялся шум, и тщетно хотел Костя хоть на лице друга прочесть конец его его мысли. Бледное лицо Вити улыбнулось и скрылось. Не то виноватое, не то обещающее было выражение этой улыбки, и Костя хорошо его запомнил.
2
Пробежав газету глазами, Костя позвонил довольно робко.
Было уже поздно, и ему было неловко возвращаться в чужой, все-таки, дом, когда все, вероятно, спят.
К удивлению его, в передней был огонь, и из гостиной доносились голоса.
– Костя, это вы? – спросила Витина мать, Марфа Николаевна, – какие новости? Входите сюда и рассказывайте.
Костя разделся и вошел в гостиную нехотя, потому что его тянуло к меланхолическому уединению. В гостиной он застал небольшое общество. Вокруг Марфы Николаевны сидели: доктор Красик, человек, несмотря на свою старость, с ярко-черными волосами и, несмотря на жизнь в городе, с сильно загоревшим лицом; Васса Петровна, дальняя Марфы Николаевны родственница, которую Костя терпеть не мог за один вид ее – подобострастной приживалки; и Пенкин, товарищ Вити по институту, фатоватый юноша, очень тщательно причесанный и слишком всегда почтительно целующий ручки Марфе Николаевне. Его Костя тоже не любил.
Костю заставили рассказать ночные новости с войны. Он вяло это исполнил и хотел уйти, но Марфа Николаевна остановила его:
– Посидите с нами. Мы интересные вещи обсуждаем. Послушайте, что начала рассказывать Васса Петровна! Только ты с начала начни, – обратилась она к ней.
Костя со вздохом опустился в указанное ему кресло, а Васса Петровна начала снова прерванный приходом Кости рассказ:
– Мать моя, – начала она с некрасивым жестом, как бы вынимая из себя слова, и срывающимся тоном, как будто ей никто и поверить не мог, что у нее была мать, – мать моя жила отдельно, и я сама отдельно. Ложусь я спать, надо сказать, поздно.
Она улыбнулась, как бы извиняясь, что рассказывает про себя, девушку, еще не сознавшую своей старости, такие подробности, и продолжала:
– Часу во втором ложусь. А все в том доме, где я жила, ложились рано, и никто уж к нам прийти не мог. Дверь, конечно, на запоре и на задвижке, и на цепочке. Все, повторяю, спят. И вдруг звонок.
Она привскочила на кресле и энергично дернула воздух, как дергают ручку звонка.
– Я к дверям. Спрашиваю: кто там? Слышу, что никого нет, да и быть не могло.
– Так это кто-нибудь пошалил, Васса Петровна, вот и все! – вскричал весело путеец Пенкин и обвел всех глазами, делая их страшными, – а вот я расскажу…
– Нет уж, дайте мне кончить! – обиженно сказала Васса Петровна, вся покрасневшая от удовольствия, что она в таком светском обществе рассказывает такую интересную историю из собственной жизни.
– Докончу, тогда и замолчу!
– Досказывай, досказывай! – поощрила ее Марфа Николаевна.
– На этой лестнице только наша квартира была, и входную дверь внизу мы сами запирали, – рассказывала Васса Петровна. – Никакой хулиган не мог забраться и позвонить. Это был не человеческий звонок!
Она сделала паузу и продолжала пониженным голосом:
– Не к добру это, подумала я и заснула. Утром просыпаюсь – телеграмма от сестры, что мать моя умерла. Еду к ней и узнаю, что как раз в том часу, когда был звонок, она повесилась. Вот и говорите тут, что нет чудес!
Конец рассказа был неожиданным. Все молчали. Марфа Николаевна чувствовала некоторое неприличие в том, что ее близкой подруги мать умерла так вульгарно – повесилась!
– Теперь – ваш рассказ! – обратилась она к путейцу.
Пенкин, поклонившись ей, деланно-докладным тоном проговорил приготовленные слова:
– Мой случай занял бы в телепатии не первое место – где-нибудь рядом с случаем Вассы, если не ошибаюсь, Петровны. Случай следующий. Я сообщу его с краткостью документа. 13-го ноября девятьсот тринадцатого года – я помню эти числа, потому что цифры дня и года совпадают – умер мой дядя, с которым я виделся незадолго до его смерти. По записи сиделки, умер он половина пятого утра. Половина пятого утра я проснулся от того, что меня кто-то позвал громко, по уменьшительному имени, как меня звали в детстве. Вот и все. Час я заметил, взглянув на часы, висящие всегда ночью над кроватью. Явление, как видите, не очень сложное, но очень четкое.
Он кончил и, обведя всех глазами, остановился на докторе, внимательно его слушавшем.
– Очень интересно! – с таким видом, как будто съела конфету, поощрила Пенкина Марфа Николаевна. – Ну, что вы скажете на все это, доктор?
Доктор еще молчал.
Ненавидя молчание в своей гостиной сильней, чем природа в своем царстве пустоту, Марфа Николаевна обратилась к Косте, скучавшему, выдавая скуку за задумчивость, в своем кресле:
– Вы знаете, наш доктор – необыкновенный доктор. Он друг факиров.
– Вот как? – немного заинтересовываясь, поддержал разговор Костя.
– Да! И он может прокалывать себе горло и щеки простой шляпной булавкой.
– Ах, какой ужас! – взвизгнула Васса Петровна.
– Не визжи! – остановила ее Марфа Николаевна. – Кровь не идет при этом. Вы, кажется, хотите что-то сказать, доктор?
Каждое слово подавая, как повар вкусное блюдо, доктор сказал:
– Только одно, Марфа Николаевна! А именно: не удивляйтесь, но изучайте. Прежним людям все, что мы знаем теперь, как азбуку, показалось бы чертовщиной. Поэтому и мы не должны считать чудесами случаи, рассказанные господином Пенкиным и Вассой Петровной. Кое-что в этой области мы уже знаем. Телепатия уже наука. Подобно тому, как радий испускает безостановочно лучи, излучает какую-то энергию и ваш мозг. Мы только не умеем еще улавливать эти мозговые лучи. Только случайно, когда удачно слагается обстановка, мы их улавливаем. Но бессознательно мы и теперь кое-что подметили и употребляем в повседневной жизни. Мы любим картины великих художников. В них есть для нас притягательная сила. Должно быть, они хороши не только тем, что их краски красивы, но и тем, что на них наслоилась энергия, излученная мозгом и глазами художника. По тому же самому волнуют нас предметы старины и вещи великих людей. Все это еще не изучено. Но когда будет изучено, мы будем пользоваться лучами нашего мозга легче, чем почтой и телеграфом. Повторяю, нужно усовершенствовать восприемники, ибо отправители действуют с сотворения мира. Я думаю, что нынешняя война, когда психическая жизнь целых наций находится в повышенном возбужденном состоянии, даст много нового в области телепатии, даст много такого, перед чем рассказанные здесь случаи будут казаться детским лепетом. Я, по обыкновению, заговорился и произнес целую лекцию вместо одного слова. Я его повторю и им закончу: не удивляйтесь, но наблюдайте и изучайте, в мире много еще тайной правды, которую мы должны открыть. Засим, позвольте закурить.
– Пожалуйста! – сказала Марфа Николаевна, подвигая доктору пепельницу. – Вы удивительно интересно все объяснили!
– Не понимаю, – опять обижаясь, сказала Васса Петровна, – как это может мозговой луч за звонок дернуть?
– А вы наблюдали уже что-нибудь за время войны? Или, может быть, вам сообщали о каких-нибудь фактах? – спросил доктора Пенкин.
Доктор задумался, как бы скупясь рассказывать.
Костя был несколько растревожен рассказами доктора. Весь день сегодня был он в странной сосредоточенности. Не от того ли, что друг его думает о нем? Может быть, он сегодня в опасности? Но ведь большого боя нет. И потом вся эта телепатия вовсе еще не наука, как уверяет доктор. Просто это непроверенные факты. А странное состояние сегодня от усталости. Надо пойти к себе в комнату и лечь спать.
Костя встал и начал прощаться.
– Как, вы не хотите еще слушать доктора? – задержала его Марфа Николаевна.
– Я очень устал. Я извиняюсь, – ответил Костя и прошел к себе.
Доктор не хотел больше рассказывать, как его ни упрашивали.
3
Костя прошел в свою комнату, которая прежде была Витиной, быстро разделся и лег в кровать. Но уснуть не мог.
– Переутомился, – подумал он, – надо забыть про то, что пора спать, тогда сон придет.
Он встал, надел халат и сел за стол.
Стол стоял посреди комнаты, все в нем было, как при Вите, только прибавился портрет Вити в рамке георгиевских цветов.
Небольшая зеленая лампочка уютно освещала комнату. В углах гнездились мягкие, зыбкие тени.
«Наверное, – подумал Костя, – когда являются привидения, так они начинают в тенях, то есть мы сами хотим что-то увидеть в тенях и, наконец, видим. Но почему я думаю об этом? Все глупые рассказы и докторские фантазии. Нужно же поддерживать разговор в гостиной! Лучше бы о войне говорили».
Костя придвинул блокнот, начертил течение Бзуры и стал проектировать обходы. Ведь стратегу можно быть хромым, и сладкая надежда чудом попасть в какой-нибудь штаб и там удивить всех знанием стратегии и талантом к ней, не покидала Костю. Он углубился в чертежи.
Прошло, – никогда не знал он сам потом, – сколько времени, и вдруг он поднял глаза по неодолимому внутреннему велению.
Перед столом, в нескольких шагах перед ним, стоял Витя. Он не из теней сгустился, не от стены отделился, а вошел, как входит всякий человек, и, поднимая глаза, Костя, казалось, успел заметить последние его шаги перед тем, как он остановился.
Он был совсем такой, как на вокзале в минуту отъезда, такой же бледный и с той же не то извиняющейся, не то обещающей что-то улыбкой. Впрочем, ничего частного ни в одежде, ни в выражении Костя не заметил. Костя увидел и понял только одно, что перед ним стоит Витя.
И в ту же минуту он услышал два слова, сказанные Витей обычным голосом, как он всегда звучал в этой комнате:
– Я убит.
И больше не было его в комнате. Он ушел так же мгновенно, как вошел.
В тоске, более сильной, чем страх, выскочил Костя из-за стола, пробежал по комнате и коридору до столовой. Никого нигде не было. Гости давно ушли, и огонь везде был погашен. Из комнаты Марфы Николаевны шел узкий красный свет. Это она молилась под лампадами о сыне своем.
Первым движением Кости, когда он опомнился, было броситься к ней, но у него не хватило мужества. Все, что случилось, было слишком реально для того, чтобы Костя сам мог не поверить. Но матери сказать он не решился.
В тягчайших муках дождался он дня. Под пыткой ожидания стал он жить. От Вити по-прежнему пришло письмо, но было оно последним. Через несколько дней он был опубликован в списке без вести пропавших. А потом стали известны и подробности того, как он погиб на разведке, в ту ночь, когда привиделся Косте.
Даже глядя на траур и слезы Марфы Николаевны, Костя не сказал ей про то, что было. Тайна явления друга стала самым важным в его жизни. Он усиленно стал изучать душевную человеческую жизнь, чтобы ускорить будущее, когда откроется тайная правда.

ПОРТРЕТ УМИРАЮЩЕЙ
Илл. Е. Нимич
В огромном, заставленном книгами и завешенном портретами кабинете доктора каждый четверг собирались его друзья– писатели, художники и актеры. Доктор и себя самого считал более артистом, чем врачом, потому что его специальность была хирургия. Он не чужд был и поэзии: писал шутливые стихи, а большие, в красном сафьяне, тома его мемуаров давно составляли предмет вожделения историков литературы.
В один из зимних четвергов зашел горячий спор о том, как трудно стать настоящим, уверенным в себе художником. Много говорили на эту тему, час был уже поздний. Доктор, против обыкновения, слушал молча. Наконец, когда гости собирались уходить, он попросил их остаться и выслушать рассказ об одном его пациенте.
Случаи в его практике, действительно, бывали необыкновенные. Он обладал чуткой ко всему человеческому душой, он во многом напоминал московского доктора Гааза, и судьба за это часто давала ему возможность заглядывать в тайники жизни.
Все охотно, несмотря на усталость, стали его слушать.
– Да, – сказал доктор, – трудно стать художником. Но еще труднее, – знаете что? Перестать был художником. Чей мозг узнал, что такое творчество, тот никогда не избавится от особенной, странной болезни, – поэзомании, как я бы ее назвал. Вот один из примеров. Несколько лет тому назад я был приглашен на юг, в имение, к забытому мною прежнему приятелю, обладателю великолепного имения. Впрочем, нет, я должен начать не отсюда. Я должен попросить вас перенестись мысленно к началу нашего, двадцатого века, то есть лет на двадцать назад, к тому времени, когда все мы были молоды, не лысы и не седы. Я был тогда домашним врачом у дряхлой графини, прикованной к постели. Это было мучительно – состоять при ней. Каждый вечер я должен был являться к ее особняку на набережной и оставаться там до утра. Каждую минуту меня могли будить и звать к больной. Это была настоящая школа терпения. Пустынные залы со старинной мебелью, лакеи, похожие на мумий, музыкальный бой часов, все это, правда, создавало известное настроение, но пытка бессонницы мало способствовала восприятию тонких настроений.
Графиня была в параличе. Только при том уходе, который ее окружал, могла еще теплиться жизнь в этом полумертвом теле. Она с трудом говорила и могла одной рукой делать знаки, стучать по столу. Но я, кажется, вдаюсь в подробности, удаляющие от рассказа. В один прекрасный день она пожелала, чтобы с нее был написан портрет. Это было странное желание. Портреты ее в молодости и в средних годах украшали галерею дома. Были отличные фотографии последних перед болезнью лет. Но писать с нее портрет теперь могло бы заинтересовать только художника вроде Гойи. Трудность заключалась еще в том, что даже теперь в графине сохранялось женское кокетство и быть на портрете прикрашенной ей хотелось, наверное, не менее, чем лет в тридцать или сорок. Представьте себе голый череп в чепчике из драгоценных кружев, сморщенный лоб, два седых клока над глазами, из которых один сильно косит, крючковатый и немного вбок нос, провалившиеся щеки, тонкий длинный рот и маленький заостренный подбородок – и вы поймете, какую натуру я мог предложить художнику.
Сначала мы предложили обратиться к знаменитостям, но Серов был уже давно в могиле, а смелые приемы Репина никогда не нравились графине. Тогда я вспомнил про одного молодого, совсем еще неизвестного художника, который специализировался на передаче эпидермы, то есть кожи. Пушистую девичью щеку он умел нарисовать так же хорошо, как сморщенную старушечью. Я не скажу вам больше ничего, потому что он и теперь здравствует, и картины его вы можете видеть в наших музеях на видном месте. Будем звать его Вадимом. Так звали его сына, которого родила ему служанка и которого я при всех стараниях не мог спасти для жизни. Это был короткий и тяжелый роман, но не в нем дело. Вадим жил в мансарде. Его комната была мала, сыра, темна. Как сейчас помню неуклюжий шкаф, стоявший посередине, к которому он прикреплял свои холсты. Постель была завалена платьем, а в шкафу на дне стояли грязные тарелки и стаканы, пустые бутылки. Пол завален был этюдами. Вадим числился учеником академии, но работал самостоятельно. Бедствовал он страшно. После некоторых колебаний графиня согласилась пригласить его. Мне даже показалось, что ей было приятно соглашаться позировать молодому художнику, и ломалась она из упрямства. Вадим принял этот заказ, как знак милости к нему высших сил, в которые он, увлекаясь оккультизмом, верил. Он приготовил холст, и я его повез на первый сеанс. Встреча художника с натурой была замечательна. Графиня, казалось, насквозь его пронизала острыми своими глазами, и на губах ее появилась гримаса, которой я раньше не замечал. Она старалась скрыть свое волнение и рассердилась, когда я попробовал пульс. Вадим готов был отшатнуться, увидав ее в первый раз, но художник поборол в нем человека, и он принялся за работу далеко не с холодом. К концу сеанса она попросила меня оставить ее наедине с художником для окончательного разговора об условиях. Я был удивлен. Вадим вышел от нее с видом человека, продавшего душу черту. Он мне сказал, что плата за портрет, и без того значительная, ему будет удвоена, если он передаст желаемое выражение лица. Какое именно, он не сказал. Я остался в недоумении. Сеансы продолжались, но я на них не присутствовал. Портрет стоял в комнате графини, всегда закрытый! Она все время беспокоилась, чтобы кто-нибудь не опрокинул мольберта, не подсмотрел бы работу. Сеансы, как я заметил вскоре, изнуряли одинаково сильно и художника и натуру. Для Вадима ничего не существовало более, кроме этого портрета. Графиня позировала два раза в день, а остальное время отдыхала. Организм ее, как будто потрясаемый какими-то слишком острыми переживаниями, разрушался все более. Она торопила Вадима. Он исхудал, и чем ближе работа подвигалась к концу, тем больше становился он похожим на сумасшедшего. Душевный мир его никогда не отличался равновесием, а теперь был окончательно растревожен!.. Графиня спешно заказала раму для портрета и ящик для упаковки его. Когда Вадим узнал, что портрет куда-то отправляют, он пришел в ужас. В эту ночь я его не отпустил домой и оставил в своем кабинете. Он был возбужден и говорил многое, что в другое время не поведал бы никому. Меня уже начинала сердить вся эта история с портретом.
– Хотите, я вам скажу, что я должен изобразить на портрете графини? – спросил меня внезапно Вадим.
И прежде, чем я ответил ему, им овладел припадок смеха. Такой хохот я наблюдал только в палатах душевнобольных.
Оправившись, Вадим сказал:
– Я должен придать лицу графини на портрете, по тексту нашего условия, выражение нежное и страстное.
Как только он это сказал, лоб его насупился, губы задрожали, он готов был разрыдаться.
– Я понимаю, – сказал он, – графиня хочет отправить портрет кому-то, кого любила, и весь этот заказ не что иное, как развязка любовного приключения в старинном духе. Но, понимаете ли вы, я не могу расстаться с портретом. Он мне нужнее, я в нем поборол форму. Да! Я исполнил ее желание. Я нарисовал это чудовище с нежным и страстным выражением. Если у меня отнимут портрет, я брошу живопись, потому что для меня будут потеряны все пути. Я не отдам портрет, не отдам!
Он стукнул кулаком по маленькому столику, около которого стоял. Несколько камешков инкрустации выскочили и упали на пол. Раздалось три мелодических звонка: так меня звали к графине. Я был, как всегда, в белом халате, и тотчас вышел. Графиня обнаружила беспокойство. Ей, как бывало это часто, показалось, что она умирает. Она велела открыть мне портрет и, не смотря на него, сожалела, что он еще не окончен вполне.
Я имел неосторожность сказать, что художник здесь. Она тотчас пожелала позировать. Потом она сказала мне, показывая какой-то конверт голубого цвета:
– На случай нежелательного исхода (так всегда она говорила о своей смерти) вот письмо, – по этому же адресу я прошу вас отправить и портрет.
Я молча поклонился и привел ей Вадима.
Минут двадцать я провел у себя в кабинете, перебирая народные песни своей записи. Вдруг ко мне вошел лакей и с обычным видом доложил:
– Графиня скончалась!
Я бросился к ней. Мольберт был пусть. Вадима не было. Графиня лежала на постели, как будто отброшенная сильным ударом. В одной руке ее, судорожно сжатой, виднелись обрывки того голубого конверта, который она мне показывала. Тело ее еще не остыло. Я констатировал смерть от кровоизлияния в мозг – это был тот конец, которого я ожидал. Мои обязанности были окончены, я переехал на свою квартиру.
На другой день я пошел к Вадиму. Он не пустил меня в свою комнату, мы переговаривались через дверь. Он сознался, что портрет у него, но не показал мне его, несмотря на все мои просьбы. Я рассердился и ушел, решив забыть о всем этом.
Прошло полгода. Вдруг ночью меня вызывают по телефону в дом графини. Я еду со странными предчувствиями. Молчаливый, полутемный зал перед комнатой графини – все тот же. Я вхожу в комнату, в ней все по-прежнему. На полу сидит человек, связанный полотенцами по рукам и ногам, волосы закрывают его лицо. Он бьется и кричит. Перед ним, на мольберте, портрет, которого я еще не видал.

Я не могу сказать, что было страшнее: то ли, когда я в связанном душевнобольном узнал Вадима, или то, когда я увидел графиню на портрете. Но обязанности врача заслонили все остальное. Вадим меня не узнал. В карете скорой помощи я его отвез в больницу. Около двух лет провел он там…
Я до сих пор не вполне отчетливо знаю, что случилось. Мне удалось установить следующие факты. После смерти графини Вадим работал вдохновенно и все, что он создал, – он создал в это время. Месяцев через пять вернулся из поездки в Индию сын графини. Он узнал о существовании портрета. Вадим отказался продать его. Через некоторое время мансарда Вадима сгорела в его отсутствие. Осталось только то, что он успел продать из своих картин. Несомненно, что тут был поджог: портрет, как вы уже знаете, оказался в комнате графини. Вадим пришел туда, я думаю, желая восстановить свои переживания.
История его душевной болезни свелась к борьбе художника с человеком. Он был здоров – он и сейчас отлично хозяйничает в своем имении – тогда, когда забывал про существование живописи. Но один вид красок или палитры делал его сумасшедшим. За эти двадцать лет были четыре острых приступа болезни и несколько слабых. Но, к счастью, lucida intervalla, то есть промежутки здорового сознания, делаются все длиннее. Я не рассказываю, как я вылечил Вадима – это тема нового моего специального исследования – скажу только, что все лечение сводилось к одному, чтобы Вадим перестал быть художником. И еще скажу, что курс его лечения, хотя и увенчался успехом, но был труден беспримерно. По-видимому, черты, присущие художнику, свойственны самой человеческой природе…
Когда доктор кончил свой рассказ, кто-то спросил:
– А что же было в голубом конверте?
– Я не знаю, что именно, – ответил доктор, – но это был любопытнейший человеческий документ: любовное признание полутрупа. Наверное, оно было не менее ужасно, чем выражение лица на портрете.








