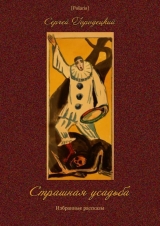
Текст книги "Страшная усадьба (Избранные рассказы)"
Автор книги: Сергей Городецкий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)

БРИЛЛИАНТ
Илл. А. Соборовой
I
Княгиня Агриппина Юрьевна Седых-Лютая уже много лет лежала без движения в своем великолепном особняке на набережной. Построенный ее предками со всей красотой екатерининского искусства, он уже давно утратил свою яркость. Закрашенная в серо-зеленый цвета, колоннада его казалась покрытой вековою пылью, лепные украшения под толстыми слоями краски потеряли форму, дремучим сном дремал дворец и даже перестал видеть сны о прежней своей блестящей жизни.
Такой же тяжкой дремой овеяно было все внутри него. Целые анфилады комнат оставались навсегда закрытыми. Огромные окна старинного стекла потускнели. Снаружи похожие на мертвые глаза, изнутри они напоминали частую паутину, протянутую в рамах. Никогда их не открывали, и только, когда от времени выпадало какое-нибудь стекло и разбивалось с жалобным звоном, его заменяли новым, казавшимся заплатой.
Мебель ветшала на своих местах, установленных от века. Позолота на ней серела, шелка теряли краски. Иногда отваливалась какая-нибудь розетка, делая переполох в ненарушимой тишине дворца. Тогда подбегал старый лакей и, осторожно подняв отвалившийся кусочек, клал его в ящик столика, выдвигавшийся еще безопасно, или в вазу. Ничто не должно было здесь пропадать. Зеленые зеркала отражали пугливую фигуру лакея, и опять все погружалось в сон.
Комната, в которой лежала княгиня Лютая, находилась рядом с огромным залом. Этот зал был увешан портретами. Острая, насмешливая улыбка отличала издавна черты князей Лютых. И было жутко в зале от этой родовой насмешки, которая перелетала с уст прапрадеда к прадеду, от прадеда к деду, от деда к отцу, от отца к сыну. Портрет сына, последнего отпрыска князей Лютых, был еще совсем свеж: он был сделан перед его отъездом на войну, наспех, дешевым художником. Но и от заурядного глаза не ускользнула родовая усмешка: князь Ипполит Матвеевич Седых-Лютой, красавец с голым черепом, улыбался так же, как его предки.
Княгиня Агриппина Юрьевна возлежала на высоком ложе. Восковое ее, иссохшее, обтянутое умирающей кожей лицо резко выделялось на белоснежной горе подушек. Огромные глаза горели ненавистью и страхом. Ненавидела она все, боялась смерти. Смерть давно поселилась в ее комнате, лежала под ее шелковым одеялом, холодила ей руки, обратила в две неподвижные деревяшки ее ножки, к которым склонялось когда-то столько поклонников, заострила ей нос, выставила все ее кости напоказ, всю комнату наполнила запахом тления и лекарств, отравила душу ужасом, смерть давно победила княгиню. Но Лютая не сдавалась. Она боролась, она еще хотела жить и сильнее, чем когда-либо. Ее сухонькие, шуршащие, как раздавленные змеи, пальчики еще шевелились, еще могли протянуться к звонку, нажать кнопку и вызвать ближайшую горничную, сиделку, лакея, сестру милосердия, постоянного врача, мученика в белом халате, других врачей, целый консилиум, – о, еще много было власти в этих отмирающих пальчиках – последнем, что шевелилось у княгини – еще стоило жить, жизнь еще была прекрасна, хоть и выражалась только в хриплых звуках, давно уж не похожих на человеческую речь, и в молниях ненависти, вылетавших из огромных черных глаз, красоту которых воспевали ученики Пушкина.
Память давно уж изменила княгине, покрыла все, что было, голубым туманом. Изредка какие-то облики выплывали из этого тумана, но княгиня гнала их: она не любила своего прошлого. Она любила то прошлое, по отношению к которому она была молодой. Она любила играть в игрушки, которые подарила ее прапрабабушке Екатерина Вторая. Это были удивительные игрушки из драгоценного фарфора. Маленькие статуэтки подавались ей на серебряном подносе. Одну за другой брала она их и подносила к глазам. На мгновение впивалась в них горящим взглядом – и неужели можно назвать улыбкой эту жуткую гримаску, которой подергивалось тогда ее лицо?
В ящике столика, стоявшего у изголовья, лежала еще одна вещь, которую любила княгиня. Так любила, что доставала сама, никому не доверяя. Выдвинуть ящик и вынуть из него старинный сафьяновый футляр было для нее большим трудом, и потому делала она это очень редко, обыкновенно глубокой ночью, когда бессонница мучила ее, и все ее окружающие, как бессердечные, жестокие люди, спали, забыв про нее. А она чувствовала себя одной во всем мире, наедине с пустотой, с ночной тьмой, с огромным, чуждым ей городом, со всем прошлым, со всеми предками и с невыразимо страшным ей будущим, с единственным, что ей осталось еще пережить – со смертью.
Тогда она из последних сил, путем сложных движений пальцами, доставала футляр, клала его себе на грудь, открывала и впивалась глазами в черный бархат на котором лежал крупный, старинного гранения, бриллиант. Камень ее утешал. Он был ее единственным другом. Он ей светил, он ее убаюкивал. Злоба переставала ее душить. Дыхание ее становилось ровнее. Она засыпала, плотно прильнув костлявыми пальцами к футляру.

II
Не так далеко от набережной, в улице, пролегшей между задворками дворцов, в маленькой, неказистой на вид лавочке жил ювелир. Это был глубокий старик с подвижными глазами и каменным, красным лицом. Всю свою жизнь провел он над камнями. Итальянский еврей, он вышел из темных лавчонок Понте-Веккио в Флоренции, где, как нигде в мире, понимают, что такое драгоценные камни в жизни человеческой. Оттуда он вынес свою страсть к камням. В его черных глазах отразились и остались, казалось, лучи всех прошедших перед ними алмазов, рубинов, изумрудов, сапфиров, александритов. Может быть, он не так любил сами камни, как запечатленные в них людские страсти, падения, предательства, преступления. Он верил, что нет ни одного порядочного бриллианта, не запечатленного убийством. Он веровал, что только кровь, пролитая за камень, дает ему настоящий блеск. Он знал, что для камня можно все сделать. Кража камней была в его глазах добродетелью… У него не украли ни одного камня, так он их берег. Но если б украли, он уважал бы вора.
Как хищный сыщик, выслеживал он владельцев камней. Были у него древние книги с биографиями бриллиантов. И сам он вел такую ж книгу. Лет двадцать, как стала ему изменять память, а до этого он знал все бриллианты Петрограда. Он мог бы иметь огромное состояние, быть первым ювелиром столицы, но он презирал оправу. Вынуть камень из кольца, из ожерелья, из похожих на птичьи когти тисков золота, было для него священнодействием, подобным тому, какое совершают, выпуская весной птицу на волю, освобождая узника. Сколько он уничтожил, изломал оправ! Это был полусумасшедший старик, потому что он лечил камни, замученные оправой, холил их, лелеял, подвергал их особому режиму, держа то в вате, то в замше, то в хрустале. Ювелиров с Невского и Морской он презирал и ни одному из них не уступил ни одного камня. Его лавочку знали немногие. Он был большим другом одного из первых русских символистов. Последнее время, когда началась бешеная скупка бриллиантов, в его лавку стали заходить люди, каких он раньше не видал. Нельзя сказать, чтобы встречал он их приветливо. Это были новые для него люди, спекулянты, нажившие себе капиталы, поставщики армий, банкиры, биржевики, подставные лица больших чиновников, это была свора тех людей, которые, как пиявки, присосались к миллиардам, выбрасываемым на войну, и высасывали свои миллионы.
Старый Франческо был хорошим психологом: камни читать труднее, чем лица. В новых своих посетителях он не видел настоящей любви к камню, – увлечения, страсти, азарта. Их глаза не загорались от хорошего бриллианта, их ладони не дрожали, держа сокровище сокровищ, тайну тайн – алмаз. Неохотно вел с ними дела Франческо и слыл среди них скрягой и сумасшедшим.
Но был среди них человек, которого и Франческо уважал – Филипп Прохин, сибиряк, утроивший за время войны свое и без того огромное состояние. Сутулый медведь на вид, грубый и удачливый в делах, он в душе презирал свою жизнь. Время от времени на него находила тоска. О его мрачных кутежах знала и Сибирь и обе столицы. Он часто захаживал к Франческо, и до глубокой ночи сидели два старика, беседуя о бриллиантах.
III
Вешние, зеленые сумерки затопили город.
Франческо был в мрачном настроении. Весна всегда его томила, северная, медлительная весна напоминала ему другую – итальянскую. Зеленые волны Арио звали его к себе. Часами он просиживал в полудреме, вспоминая Понте-Веккио и залитые солнцем набережные. Это было у него вроде весенней болезни. Так он сидел в кресле, когда вошел Прохин.
Старики поздоровались.
Прохин был тоже нахмурен.
– Мне нужен камень, – сказал он.
– Есть камни! – ответил Франческо.
– Мне нужен такой, каких нет, ни у кого нет.
– Не верите бумагам? Бриллиант надежней золота? Это верно! А на какую сумму?
– Не в том дело. Мне нужен камень для себя, для подарка.
– Женщина? – тихонько спросил ювелир.
– И какая женщина! Ах, Боже мой, Боже мой! Мало ли я их видал. И вот, как малый ребенок, ни бе, ни ме перед ней. Стою, смотрю и умираю.
– Весна! – мечтательно сказал ювелир. – Блондинка?
– Черная.
– Итальянцы сходят с ума по блондинкам. Мальчиком я был влюблен в одну англичанку…
– А глаза светлые, как вода у нас в Сибири, в черных озерах. Жутко смотреть, броситься хочется!
– Англичанка каждый день приходила что-нибудь покупать…
– К черту англичанку! Есть камень или нет?
– Для женщины все найдем. На какую цену?
– До полумиллиона.
У итальянца пальцы стали сухими и жаркими. Он схватил карандаш и написал пять с пятью нулями.
– До пятисот тысяч? – ослабшим голосом спросил он. – Вы хотите отдать за камень пятьсот тысяч?
Они сели: ноги ослабели.
– А хоть бы и так! Жить не моту без нее. А в поклонниках у нее и министры, и депутаты, не считая князей. Только с камнем таким в руке и прошибешься к ней. Без него нельзя мне.
– А возьмет она камень?
– Мне такой и надо, чтоб взяла, чтобы в голову ударило, чтоб глаза ослепило, чтоб разум она потеряла, чтоб околдовал ее камень, и всех бы она прогнала, одного меня оставила.
– Да… – сказал раболепно итальянец, – да… Но где же взять такой камень?
Он нервно ходил за прилавком.
– Нет, значит, камня? – мрачно сказал Прохин. – Эх вы, ювелиры! К мелочам привыкли!
– Нет, но надо достать, непременно надо!
Глаза Прохина загорелись надеждой.
– Можете?
Итальянец рылся в пожелтевшей книге.

– Вот запись девяностых годов… Да, так и есть… «Князь Ипполит Матвеевич Седых-Лютов лично приносил бриллиант весом…» Мадонна! Вот то, что надо!.. «Оценен в… Продан не был. Князь желал только определить стоимость». Я вспоминаю, да…
Он поднял глаза и важно возгласил:
– У князей Седых-Лютых есть такой бриллиант, какого вы хотите.
– Сколько задатку?
– Я не могу принять. Может быть, они не пожелают продать родовую драгоценность.
– Князья-то? Продадут!
– Я узнаю. Придите завтра… Мадонна! Я помню, как этот бриллианта лежал у меня на руке, как он горел! Это замечательный камень! Равного ему я не знаю. Он так сверкает, как будто внутри его маленькое солнце. Он околдует вашу даму! Я достану его!
Прохин, как пьяный, вышел от ювелира. Мечты, одна другой огненней, волновали его. Что деньги? Он их сделает, сколько хочет. Велев откинуть верх в автомобиле, он, как бешеный, долго носился по городу, набережным и островам. Голова его горела.
IV
Княгиню Агриппину Юрьевну Седых-Лютую мучила бессонница.
Сквозь двойные окна, занавески и портьеры в ее душную комнату пробивалась весна. Княгиня ее чувствовала и ненавидела. Если б ее воля, она запретила б солнцу светить и навсегда завесила б небо плотными облаками. Но днем от солнца еще можно было спастись портьерами. От весенней же луны, ночью, не было никакого спасения. Лунный свет проскальзывал в самые узкие щели, белыми острыми полосками ложился на ковры, стены и мебель. После полуночи луна залетала так высоко, что светила в верхние круглые окна. Вся комната наполнялась ее холодным голубым светом. Она сама видна была княгине, мертвая, страшная, наглая.
Было полнолуние.
Княгиня уже два раза требовала доктора. Сонный, белый, он приходил, давал ей лекарство, говорил несколько успокоительных слов и уходил, как призрак.
Княгиня не могла уснуть.
Она пугалась собственной тени на подушке. Она велела остановить стенные часы, так как в мелодичном звоне колесиков ей слышались какие-то пугающие звуки. Она прислушивалась к беззвучной тишине лунной ночи и последним слухом угасающей своей жизни чуяла в ней весну.
Бессильная ярость ее охватывала, грудная клетка ее вздымалась. Она успокаивала себя, взывая к чувству самосохранения.
Память ее пробуждалась, мозг выходил из обычного полусонного состояния, воображение остро начинало работать.
Вся ее долгая, внешне блестящая, втайне – развратная и несчастная жизнь вставала перед ней. Она видела себя институткой, бойкой, ловкой, хорошенькой, получившей комплимент от самого императора, потом фрейлиной красавицы-принцессы, только что привезенной в Россию, потом невестой блестящего князя Матвея Седых-Лютого. Вереница балов, маскарадов, спектаклей, интриг и невинных романов промчалось в ее памяти. Она вспомнила недолгое счастье супружеской жизни, измены мужа, свои слезы, потом своих любовников, начиная с первого, взятого от отчаянья, без страсти и восторга, как берут в рот яд, и кончая последними, на итальянской Ривьере, покупаемыми жадно, почти без разбора, как покупают последние места в театр на блестящее представление. Она вспомнила начало своей болезни, мотовство сына, поиски денег, заклад дворца, всеми силами стараясь не вспоминать этого. И вот ее мысль вернулась к тому же, откуда она улетела: к этой лунной, весенней ночи, зовущей всех к наслаждению, а ее, княгиню, к смерти.
Она заметалась головой по подушке.
Ее сухонькие пальцы судорожно перебирали край одеяла.
Какая тоска, какой ужас, какое бессилие!
А луна стояла прямо над ней и очертания лунных гор складывались в насмешливую гримасу.
Вдруг княгиня вспомнила про бриллиант.
Он спасет! Он поможет.
Как две белые змеи, мешающие друг другу, ее руки потянулись к ящику столика, выдвинули его со страшными усилиями, пошарили в нем, нащупали футляр, достали его и, дрожа, принесли на грудь.
Княгиня закрыла глаза, отдыхая от тяжелой работы. Губы ее скривились: сейчас она увидит камень.
Она нажала кнопку, футляр открылся…
Камня не было.
Княгиня пошарила руками вокруг себя, думая, что он скатился.
Но камня нигде не было.
Злоба, ненависть, бешенство прихлынули к сердцу княгини и остановили его. Она открыла рот, чтоб закричать, и не успела. В судорогах скрючились пальцы. Глаза закатились. Луна бесстрашно глядела в пустые белки мертвой.
Футляр скатился по шелковому одеялу на ковер, глухо щелкнув затвором.
Какой-то чуткий прохожий, пробегая но набережной, в страхе обернулся на дворец, испуганный мертвым взглядом его окон.
V
Франческо не спал в эту лунную ночь.
Он сидел над камнем.
Получить его стоило ему не так уж дорого, особенно в сравнении с той суммой, которую завтра утром должен был принести ему Прохин. Франческо сказал ему, что получит камень завтра, чтоб насладиться одному блеском дивного, как он был уверен, бриллианта.
Но наслаждения от камня он не получил никакого.
Бриллиант был поддельный.
Франческо убедился в этом с первого взгляда. Исследование подтвердило это.
Оттого Франческо и сидел над ним.
Лицо его выражало одновременно и огорчение и презрение. Граненое стекло лежало прямо на столе.
Как это могло случиться, что камень оказался поддельным? Очень просто. Наверно, тогда же, когда князь Ипполит приносил бриллиант Франческо, он и продал его. Княгиня могла и не заметить подмены.
Франческо не то беспокоило.
Он не знал, как поступать ему дальше с Прохиным. С одной стороны, честь старого ювелира не позволяла ему продать стекло за бриллиант. Но, с другой стороны, та же честь не допускала, чтоб у него не оказалось обещанного камня.
Тем более, что он был так нужен Прохину.
В лютой борьбе с самим собою проводил ночь Франческо.
Он брал камень на руку. Легкий вес раздражал его опытную ладонь. Он подкидывал камень слегка, наблюдая за его гранями.
Подделан камень был изумительно, рукой искусной; только знатоки могут заметить, что он не настоящий. Особенно, если его оправить. Франческо задумался.
Он ненавидел оправу. Но если отдать Прохину камень без оправы, тот понесет его к другому ювелиру и тогда… Но неужели Франческо продаст стекло за бриллиант?
Он закрыл электричество, подошел к окну. Загляделся на луну. Весенняя луна что-то будила в нем неясное. Память о лунных ночах на Лунгарно? О поцелуях итальянок, таких же, как он, подростков? Да, о каком-то другом мире затосковал он под вешней луной. И потянуло его, потянуло куда-то…
Он продаст камень и уедет!
Теперь трудно ехать, но все равно, он доедет. Как сквозь сон, видел он весеннюю Флоренцию, ранние вечера, огоньки на Фьезоле, цветущие деревья; в горах тает снег, полноводная Арно, кипя, несется в высоких берегах. Если есть еще жизнь для него, то она там, на родине!.. Пятьсот тысяч! Да на что ему столько? Он и за половину продаст свою душу.
Франческо потянулся к луне, открыл свет и принялся за работу с жаром. Он умел работать, и к утру кулон был готов.
VI
Что такое счастье?
Это знал Прохин на следующий день.
Купить такой бриллиант за двести тысяч! Это ли не счастье? Послать его любимой женщине и не получить отказа! Это ли не счастье? Ждать вечером свидания, обещанного по телефону – и каким голосом? Это ли не счастье? Конечно, это оно привалило к Прохину.
Ну и чудесный же старикашка, этот Франческо! Как получил деньги, задрожал весь. Италией бредит, чемоданы вытаскивает. Первый друг он Прохину. Такой камень выискал и по своей цене отдал! Никогда не оправляет камней, а этот оправил!
С полудня во фраке, Прохин ждал вечера в радостном возбуждении, долго катался по городу, делал визиты, целовался со всеми, сорил деньгами, мечтал о своей красавице.
Наконец, настал вечер.
Прохин приезжает, Прохина принимают, он входит в атласную гостиную. Хозяйка выходит, подает ему обе ручки.
Но нет, не такой встречи он ждал.
Она холодна, беспокойна, его красавица, ее глаза то насмешливы, то печальны.
И камня на ней нет.
– Тяжел, должно быть? – ухмыляясь, спрашивает Про-хин.
– Кто?
– Камешек-то мой?
– Нет, – рассеянно отвечает красавица, – замок на цепочке слаб, я послала к ювелиру. Вы не беспокойтесь, сейчас принесут.
– Замок слаб? Да, тут замок нужен покрепче, на полмиллиона!
Красавица недоверчиво смотрит на Прохина.
Горничная вносит пакет и письмо.
Прохин оживляется, тяжело дышит.
Красавица раскрывает пакет, достает футляр, берет из него кулон.
Прохин жадными глазами впивается в нее.
– Моя, моя! – огненными молотками стучит у него в висках. Сердце бьется так, что даже неприятно. Радужные круги плывут у него перед глазами, собственная кровь кажется ему тяжелой, как свинец. Выхватить бы ее, красавицу, из этой комнаты с мебелью, в которой и сидеть нельзя, да умчать куда-нибудь в темноту…
Но какое ж это письмо она читает?
И почему ее лицо покрывается пятнами?
Что?
– Обманщик наглый! Торгаш без стыда и совести! – кричит красавица, становясь страшной. – Посмешищем меня хотел сделать! Булыжник вместо бриллианта подносит! Бриллиант поддельный, поддельный, поддельный!
Скомканное письмо с фирмой известного ювелира и кулон летят в лицо Прохину.
– Бриллиант поддельный? – хрипит он. – Пятьсот… двести тысяч отдал, клянусь…
Лицо его наливается кровью, он тяжело падает с кресла, высунув пол-языка между хищными зубами, одна бровь у него дергается. «Поймаю старика! – проносится у него мысль. – В кровь изобью…» и радужными буквами прыгает перед ним слово «Италия, Италия, Италия…»
VII
Вскоре три известия промелькнули в газетах. В черной, жирной рамке извещалось, что Филипп Иванович Прохин, волею Божьей, скончался после непродолжительной, но тяжкой болезни.
В отделе происшествий, мелким шрифтом, сообщалось, что бывший когда-то известным ювелир Франческо Цимпи повесился в своем магазине от нищеты.
В городской хронике сообщалось, что в одно из крупных учреждений по оказанию помощи жертвам войны от лица, пожелавшего остаться неизвестным, поступило пожертвование в двести тысяч рублей.
О перевезении же тела княгини Агриппины Юрьевны Седых-Лютой в склеп церкви имения, когда-то ей принадлежавшего, даже не объявлялось в газетах. Но в списке убитых промелькнуло недавно имя ее сына.

ФИРС
Илл. Г. Заборовского
Много раненых прошло через наш лазарет. Были среди них и подлинные герои, вышедшие на войну с огненной верой и незыблемой решимостью победить; были и тихие души, которым трудно было военное дело, но которые делали его с той же безропотной покорностью высшей воле, с какой они все делали в жизни. Много красивых, славных, добрых, простодушных людей мы увидели, и вдоволь могли налюбоваться многоцветной русской душой.
Но один раненый особенно нам запомнился.
Звали его Фирс.
Это был немолодой уже солдат. Говорили, что ему было под пятьдесят.
Но про это никак нельзя было сказать по его наружности.
На старинных иконах, в глуши далеких деревень встречаются такие лица – с темной кожей, с небольшими яркими глазами, внушающие необычайное доверие к себе и вообще к человеческой жизни. Глядя на них, можно видеть, к какой долгой жизни способен человек, как прочно его тело и какая стойкая его душа.
Сядет, бывало, Фирс на своей койке, подергает небольшую свою бородку, посмотрит куда-то вдаль и начнет рассказывать певучим своим голосом.

Все его рассказы начинались одинаково:
– Фирс – я, крещеные! Так меня и зовут Фирс, что значить палка волшебная, виноградной ветвью обвитая.
Очень ему нравилось значение его имени.
Объяснит он его и потом обводит всех яркими своими глазами, спрашивая:
– Неужто не дивное имя у меня? Такого имени, наверное, вы и не слыхивали. В святцы теперь народ не заглядывает. А я из-за имени своего и на войну пошел.
– Как же случилось это? Расскажи! – скажет кто-нибудь со своей койки.
И начинает свою повесть Фирс, волшебная палка:
– Доброволец я, охотник. По летам своим призыву не подлежу.
Хвастал он немного своей моложавостью и, говоря о летах своих, улыбался, показывая полный частых белых зубов.
– А по жизни своей я – бобыль. Живу на краю деревни, почитай в лесу, в посте, в работе, да тишине. Помните, ребятки, какое сухменное лето ныне выдалось? Мгла стояла над землей, дождей не было. И молить не смел народ о дожде. Знал, что бездожье это не для того, чтобы засуху сделать, а знак подать: готовьтесь, мол, бдите! Сколько пожаров лесных было! Да что лесных! Сама земля-матушка горела, как в последние времена. И вот в ту пору одолели меня сны. Сплю и сплю. Думалось сначала, что от гари это, а вышло получше. Прилег я как-то ранним вечером и уснул. И снится мне сон необыкновенный. Стою я будто на высоте. Подо мною земля лежит, и города по ней диковинные с башнями. А над моей высотой еще выше стоят высоты, белым жемчугом сверкают, а над ними само небо, и такое синее, какого в наших местах не бывает. И сходит с неба воин крылатый. В правой руке у него меч огненный, а в левой – палка волшебная, виноградной ветвью обвитая.

Я и потянись, по человечеству своему, к этой волшебной палке и говорю: «Я – Фирс». А воин крылатый отстранил палку и приблизил ко мне меч, так что я жар его на лице своем почувствовал. Такой диковинный сон мне приснился, и ничего я сначала не понял, потому что не было тогда еще войны, только мгла и гарь стояли над землей. А как объявили войну, я все и уразумел и в тот же день заявился охотником. Говорили мне люди: «Куда идешь? Старик ведь!» А я, хоть и был стар, а юнее юных себя считать мог. И вправду, в герои не вышел, а солдатом не хуже других состою.
И опять он обводил всех своим светлым взором.
– Ты – солдат хоть куда! – говорили ему раненые.
– Когда в атаку бежишь, как лев, рычишь.
А Фирс продолжал рассказывать:
– И что ж вы думаете, ребятки? Сбылся сон мой весь, как есть. Как мы взяли город Львов, как увидел я его, так и пал на землю в радости и молитве: он самый, мой город с башнями, который я во сне увидел! И сподобил же Бог меня, никудышного, города брать! Как вы думаете, братцы, тут не без перста Божия? Одно у меня горе – Перемышль без меня взяли. А все по неверию моему.
– Как по неверию?
– Ранен я был по неверию своему, из строя выбыл.
– Вера тут не при чем. Пуля – дура, не знаешь, куда ее ждать! – задумчиво заметил один солдат.
– Это ты напрасно! – укоризненно отвечал Фирс. – Молод ты, оттого и в мыслях таких. У ангела-то, которого я во сне видел, в одной руке меч был, война то есть и смерть, а в другой – палка волшебная, виноградной ветвью обвитая, то есть жизнь и спасение. Вот о ней-то я все время и думал, и никакая пуля меня не брала, по вере моей. И не время бы, да суета одолела.
– Это аэроплан-то пролетел? – спросил солдат.
– Вот он самый! Мне бы на него не смотреть, пускай себе летает, гадина с крыльями. А я не удержался. Высунулся и смотрю. И так это невиданно, что я про свое, про душевное, и думать забыл. Тут пулей меня и шибануло. Ну, да это ничего, все пройдет, опять пойду в строй. И шалишь! Больше меня пулей не возьмешь!
– Скоро поправишься! – заметил тот же солдат. – Тут хорошо в лазарете, благодать! Вылечат скоро!
– Не в леченье дело! – как бы серчая, ответил Фирс, – а опять-таки во мне самом. Хочу – заживу, хочу – помру. Я б и в луже лежа, на грязной земле, мог бы рану свою заживить. Что там перевязка! Сверху прикрыто и все. Рана снизу заживает. Ты снизу и напирай, сам, значит, от себя. Без напора не заживет. Мало ли народа умирает?
Много смеялись у нас в лазарете над такими словами Фирса. Но – странное дело! – рана его, не очень, впрочем, тяжелая, заживала явно скорее, чем у других. Может быть, здоровье брало, а, может быть, и «напор» помогал Фирсу поправляться.
Как бы то ни было, поправился он скоро и выписался, и опять ушел к своей части. И стоит где-нибудь теперь под вражьими пулями наш Фирс, волшебная палка, защищая нашу Русь, столь же богатую верой, как его душа.
От таких, как он, пойдут в будущие времена легенды о нынешней войне, и хорошо он будет рассказывать о битвах и новых землях, если суждено ему вернуться в свою хату на краю деревни.
А если сразит его пуля в минуту, когда опять какая-нибудь «суета», вроде аэроплана, привлечет его внимание, то крылатый воин, который ему снился, опустит на мгновенье свой огненный меч и отведет его в лучший уголок рая.








