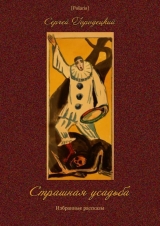
Текст книги "Страшная усадьба (Избранные рассказы)"
Автор книги: Сергей Городецкий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
СПЕЦИАЛИСТЫ
Чирок, встрепанный, долгоносый, чернизина на вид и ничего больше, угощает на своих владениях приятеля своего и товарища всякой снедью и зеленым зельем. Вечереет, ветер, изредка взлетит ворона, и опять все по-старому. Неумело шебуршит первый палый лист, да скрипят подгнившие, которым за двадцатый год.
– Сковырни-ка-сь медальку, – говорит хозяин.
– Есть!
И голова гостя закидывается, чтобы принять булькающую влагу в прямое горло.
– Колбасу нынче, видно, из псины месить стали.
– Не хай, хозяин, своего добра. Чем псина хуже свинины?
– Оно так-то так. Свинья еще и не в том копается.
– Магомет не ел и есть не велел.
– Ты, брат, про всякого зверя историю знаешь. Заедай псинкой или вот огурцом. Нечего пудриться, коли в гости пришел.
– Не рад, что ли? Я и уйти умею.
– Какое не рад! Одурел от соседства.
– Работы много?
– Да не так, чтобы. Старики беспокоят.
– Вот в чем минус! А ты плюнь! все тлен и прах, и никакого беспокойства тебе, живому человеку, от них быть не может.
– Я и оплевался, и очурался. А толку и с ноготь нет. Которые, слышь, по тридцатому году, и те шевельню заводят. Сковырни-ка-сь медальку, я те скажу!
Хозяин плотнее уселся на своем бугре и, приняв от гостя свежевскупоренную правой рукой, растопырил пальцы на левой в знак начала рассказа.
– Сидор Иванович Нечмокин, из потомственных, «спи, ангел мой, до милого рассвета», – это у меня первый номер насчет дебоша. Давний, еще при отце Федосье от почки успокоился, да все спокоя настоящего обрести не может. Запахнется это халатиком, выйдет и гуляет, как после обеда.
Я ему: «Вы бы, Сидор Иванович, полежали немножко».
А он только рукой махнет, а на рукаве дырка.
– Что ж, ты его так прямо и видишь?
– Так прямо и вижу.
– Да, может, это не он?
– Не он? Так и ты, может, не ты?
– Я живой, а он…
– Ты моих не трожь, у меня все живые! слушай-ка дальше, рот раскроешь.
– На колбасу.
– И после этого я ему опять говорю: «Вы бы, Сидор Иванович, про то вспомнили, что супруга ваша рядом почивает. Вместе б отдохнули».
– Известно, в панихиде сказано: вместе спокойней.
– А ты не подмазывай мне колеса, и сам докачу. И на это он мне ничего не отвечает, только рукой махнет, а на рукаве дырка.
– Ты б заштопал?
– Не ермолайничай, пожалуйста, и досказать дай!
– А ты про одно и то ж сто раз не кудахтай.
– И после этого я ему уж ничего говорить не хочу, а вытащу ладонцу и подкурю немножко. Только на него мало это действует, ходит себе, нюхает, иной раз даже язык покажет.
– Какое ж обличие у него?
– Ничего, приличное: где кость, а где и кожа. Волоса тоже, которые не вылезли, и после этого меня уж нетерпеж берет; как сорву хворостину, как побегу, как засвищу, тут Сидор Иванович мой и замается; скорей, скорей назад. Только ему-то хорошо – свой человек, а меня за ноги хватают. Жалко мне его станет, и говорю опять: «Чего ж вам ходить, Сидор Иваныч? Бросили бы вы это дело, я вам надпись подновлю». А он ничего не скажет, только жалко-жалко посмотрит, и махнет рукой…
– А на рукаве дырка?
– Смешной ты какой-то! Только б тебе крышки приколачивать да глумом заниматься, а нет того, чтоб на вольном воздухе посидеть с хорошим человеком и о чудесах побеседовать.
– Чудеса твои, приятель, не настоящие. Там вот, бесноватые, от мощей тоже, это все я, хоть ученый человек, а понимаю. А ты про Сидора Иваныча. Может, он жулик просто, а не Сидор Иваныч. Негде ему заночевать, вот и гуляет по твоему царству.
– И что ты выкидываешь! Какая же это днем ночевка?
– Так он и днем ходит?
– Днем ему самый ход. Или вот так, под вечерок.
– И сейчас ходит?
– Ходит.
Приятели затихают и оглядываются по сторонам. Гость несколько испуганно, а хозяин с хозяйским видом, как пастух, когда выглядывает корову за кустами.
– Вон халатик-то, вон он! Пестренький, старинного рисунка.
– Уж ты и рисунок разглядел!
– Теперь за дерево зашел. Ты не бойся, он, Сидор Иваныч, хороший. Нечмокин ему фамилия. Да перестань дрожать! Сковырни-ка-сь медальку, для храбрости. А я еще что скажу.
– Давай про другое разговаривать.
– Ну, говори про другое.
– Вот я намедни купчиху заколачивал. Сам колочу, а сам думаю: лопнет она сейчас, всего обрызгает, и крышку не удержу. До того толстая!
– Это ничего, потом обсохнет. Мощой будет.
– Ври больше! В неделю объедят и сами подохнут. Парча не успеет заржаветь.
– Непонимающий ты нигилис, скажу я тебе. Подвинь-ка ухо. У меня все мощи!
– Так и поверил.
– Да мне твоей веры не надо, я сам и знаю. Сказано: «Им же честь и слава и помин вовеки». Протрубит в трубу, и выйдут все, как надобно, в своем виде. У меня, брат, строго. Лежать – лежи, а гнить ни-ни! Ну, там переносица, или палец какой, а чтобы целость нарушить – не бывает.
– Ты им проверку уж не делаешь ли?
– Я чужое добро берегу. А захочу, и проверить могу. Вот, ты думаешь, на чем сижу? Отроковица Агния. А ты либо на Свищухинской тетке, либо на Митьке Подзатыльниковом. Не помню, как поставил. Агния-то в глазетовом – ты сам обивал. Вот!
Чирок схватил палку, воткнул ее глубоко в бугор и постукал там обо что-то.
– Слышишь? Она.
Гость вскочил с густой травы, в которой сидел.
– Будет тебе фокусы показывать. Ерунда все это.
– Ерунда?
Хозяин шагнул к нему ближе, свирепо смотря в глаза. Трудно им стоять друг против друга, наваливаются, где рукой обхватились, где плечом подперлись.
– Вот закопаю тебя, тогда увидишь, какая ерунда.
– Даст Бог, собственноручно тебя заколочу, и после тебя еще всяких.
– Ишь, о чем размечтался, гробовая крыса!
– И могильщику жить охота, вот новости! Да моя работа крепкая, уж я тебя замакедоню.
– Закопаю тебя – нельзя лучше. Сорок дней выцарапываться будешь!
Но вдруг руки Чирка слабеют, и он, обняв гостя, с плачем повисает у него на шее.
– Вот и охаились, грех непробудный! А ты в душу мою заверни. Только о том и думаю, когда встанут. Маялись, маялись, полегли, и конец тут? Не бывать никогда такому! Через день да на третий все несут новеньких, сам знаешь, и старых, и малых. Иная невестой укокошилась. Другой поцеловаться на роду не поспел, как следует. А которые детьми сподобились? И все это для червя? Не человек ты, коли так думаешь. С первой трубой все подымется. Я каждую зорю смотрю на восток, не видать ли хоть кончика крылышка. Как увижу, сейчас дам своим знак, первыми выйдем. А на этом месте сад-цветник разведем, любо-дорого смотреть будет, и всякому входить можно. Какие тут встречи произойдут, подумай только, Фома ты слепой! Какие радости! Отца, мать, дедов, прадедов, до самого Адама все свое колено увидишь!
– Тут и повернуться негде будет.
– А тебе б все вертеться да обмериваться? Там не заказ получать будешь, тесный ты человек! Да зачем и поворачиваться? Смотри прямо перед собой, все с самого начала начнется. Ты бесчувственный, у тебя аршин всегда из кармана торчит. А Сидор Иваныч меня понимает и всякий понимает, у кого за ребром не камень положен. Сидор Иваныч, пойди, я тебе рассказывать буду!
– Чур тебя, Чирок! Уйду, тогда называй себе выходцев. Так ты с ним еще и разговариваешь?
– Говорю-то я, а он слушает, за березкой где-нибудь. Особенно любит, как овцы пойдут направо. Я ему еще тут переделываю; про козлов забываю, говорю, что все пойдут направо. Жил он, как всякий потомственный; пьяница, должно быть, был, вот и мутит его сомнение. А я ему рассказываю, как пойдут все направо, руно на них белое, светлей его ничему не быть. Я мальчонкой пас овец, так все это знаю. Гонишь их под вечер через гору, и белеют они на заре, как на вратах царствия небесного. Я и тогда обо всем догадывался. А теперь насквозь вижу. Он это стоит за березкой, полой утирается, и я сам до слез ему рассказываю. И какая труба у ангела с ободком узорным, и как весь мусор земля съест и травой, что ковром, покроется, и какие весы высокие, где дела наши взвесятся. Ну про весы я ему тоже мало говорю. И про перья на крыльях, и про свет на ликах, и про все, про все, вот как тебе, непонимающему.
– Хороший ты, Чирок, только смешно мне до колики. Ты, как полководец над своим войском, вздыбился. А войско твое червь сел. Настругать тебе разве палок, да натыкать на них черепов, вот и все твое войско. Сползи с меня, пожалуйста. Ты мне весь борт обслюнявил.
– Вот ты что. О борте заботишься.
И Чирок, качаясь, разнимается с приятелем. Ему тошно от водки, еды и разговоров и хочется размахнуться да садануть. На глаза попадает последняя из целых бутылок. Косясь на гостя, будто нехотя, он нагибается, берет ее за горлышко и, размахнувшись снизу, бьет его по щеке.
– Сковырни-ка-сь медальку!
Потом внимательно смотрит, как текут кровь и водка по щеке огорченного гостя, еще не понимающего, что случилось.
Раньше, чем он сожмет кулаки, Чирок приседает на корточки – чернизина на вид, и ничего больше – и с улыбкой манит кого-то пальцем из глуби дорожки.
Гость смотрит в глубь дорожки в страхе и горе.
Там мелькает что-то, не то бежит, не то на одном месте прыгает. Гостю страшно. Он озирается, и вдруг, закрестившись мелким крестом по мокрому от всех угощений Чирка пиджаку, бежит в противоположную сторону, крича вместо обычного полубаска жестоким тенором:
– Чур меня, чур!
Чирок свистит ему вслед в два пальца и, когда он скрывается, трусливо начинает смотреть туда, где мелькало.
Но не оттуда, а из боковой тропки выбегает мальчишка с глазетовым поясом, запыхавшись и без шапки.
– Где господин гробовщик? По всему городу ищут. Спешный заказ.
– Кто?
– Тюрина племянник.
– Который?
– Брюнетный.
– Когда?
– В полдень.
– Какой?
– Дубовый, с выпушкой, на винтах.
– Чудны дела Твои, право! Беги скорей вон туда, видишь, кровью накапано. Где-нибудь нагонишь. Да скажи, чтоб поаккуратней в углах, а то рыть широко надо, и застревает при спуске. Живо!
Прогнав мальчишку, Чирок связывает в платок бутылки, вилку, тарелку, засовывает остаток колбасы в рот, а хлеб кидает воронью и с нахмуренным, соображающим видом пробирается, покачиваясь, по знакомым до надоедливости буграм и тропкам. Вечереет сильней, ветер стих, воронье дерется из-за хлеба, неумело летит с дерева раздумавший висеть до завтра желтый лист.

СТРАШНАЯ УСАДЬБА
Илл. В. Сварога
1
Мне уже более двадцати лет, у меня белокурые косы и очень большие серые глаза; все, что я умею, это выразительно читать, почти не уставая. Профессию лектриссы я избрала тотчас по окончании гимназии, и вплоть до прошлого года ничего особенного со мною не случалось. Эту зиму я провела в санатории. Я думаю, всякий на моем месте был бы принужден избрать именно такое местопребывание, если б пережил то, что пережила я. Теперь я уже достаточно оправилась от нервного потрясения, и воспоминания начинают даже доставлять мне некоторое удовольствие, тем более что доктора положительно мне запрещают возвращаться мыслями к событиям, которые послужили причиной моей болезни.
Как теперь помню ясный осенний день, когда я приехала в Варшаву, бросив хорошее место в богатом имении из-за несносных приставаний ясновельможного пана, которому было уже за шестьдесят. Мой отъезд вышел довольно бурным, мне даже не заплатили за последний месяц. Необходимость немедленно найти новое место ощущалась очень остро, потому что на свете я одна, и деваться мне было положительно некуда. Я дала несколько публикаций, обошла, кого застала в городе, из знакомых и уже начинала отчаиваться. Денег оставалось очень мало. Голода я не выношу совершенно, и если утром не съем пирожного, то начинаю немедленно проникаться психологией самоубийцы.
От тоски я ходила гулять на кладбища. Есть неизъяснимое очарование в этих жилищах мертвых, особенно осенью. Золотые листья на деревьях, в воздухе и под ногами, строгое голубое небо и печальные памятники нравились мне необычайно. Я ходила от могилы к могиле, читала надписи на мраморе и лентах. Однажды мое внимание привлек фамильный склеп Ясницких. Огромный белый ангел со стиснутыми в отчаянии и мольбе руками стоял над этой могилой. Я не раз видела приоткрытым вход в сам склеп, и жуткое чувство охватывало меня при мысли, что кто-нибудь навещает эту усыпальницу.
И, действительно, я вскоре увидела у этого памятника высокую женщину в трауре. Она сначала молилась, потом сошла в склеп и пробыла там довольно долго. Я сидела на мраморной скамейке невдали и думала о жизни и смерти.
Женщина в трауре заметила меня и подошла. Мы разговорились. Под густой черной вуалью я разглядела лицо, уже немолодое, но с явными еще чертами красоты, с воспаленными от слез, безумными глазами и выражением решимости в тонких линиях рта и подбородка.
Узнав, что у меня никого не умерло, женщина удивилась. Когда же я ей сказала про свое печальное положение, она тотчас же предложила мне место лектриссы у себя самой. Мы назвали друг другу свои фамилии. Ее звали пани Ясницкой. На следующий же день пани Ясницкая должна была сама зайти ко мне для окончательных переговоров. Она именно сама хотела прийти ко мне, уверяя, что ее номер завален покупками и что ей неудобно принять меня в нем. Она показалась мне интересной и умной, кроме того, мне ничего не оставалось делать, как согласиться на ее предложение.
Пани Ясницкая пришла ко мне на другой день, вечером. Не снимая шляпы и вуали, она сразу приступила к разговору. Меня тогда же удивило, что она больше старалась узнать о моих верованиях и взглядах на загробную жизнь, чем об условиях, на которые я согласна. Впрочем, когда я, улучив минуту, сказала ей о них, она приняла их тотчас и просила только быть готовой к отъезду во всякое время.
После этого наша беседа продолжалась еще более часа. Было похоже на то, что пани Ясницкая долго не имела никаких собеседников и торопилась высказаться. Ее более всего интересовали вопросы загробного существования. Она оказалась очень начитанной в теософии, в оккультных науках. В то же время ей очень нравился христианский миф о сотворении первого человека из глины, и она рассказала мне несколько увлекательных его вариантов. Я с некоторым недоумением слушала ее и думала, что моя должность лектриссы будет, вероятно, больше похожа на положение наперсницы, обязанной сочувственно выслушивать все, что говорит госпожа. Но и эта роль меня не пугала, потому что я от природы любопытна.
Уж не помню, как я перебилась два-три дня, прошедших до нашего отъезда. Поздно вечером за мной приехал мотор. Пани Ясницкая была очень довольна и говорила, что из-за границы ей выслали все, чего она в Варшаве дожидалась, а остальное вышлют в имение. Я не смела расспрашивать, что же именно такое это «все» и «остальное», хотя была заинтересована очень.
2
На вокзале я видела, как слуга гостиницы, где жила пани Ясницкая, сдавал в багаж три странных, продолговатых, тщательно упакованных и похожих на гробы ящика.
На рассвете мы были уже в имении пани Ясницкой. Я знаю хорошо запущенные усадьбы нашего края, но ничего подобного усадьбе пани Ясницкой я представить себе не могла.
Огромный дом с двенадцатью колоннами видел еще Наполеона в своих залах, как я потом узнала. Значительная его часть была заколочена. Строго говоря, жилым оставался только мезонин да одна комната внизу, столовая. Старый парк окружал этот дом. Он пришел совершенно в дикое состояние, никто о нем не заботился, дорожки заросли, и неожиданно, совсем в глуши, можно было встретить мраморную колонну или статую. Круглый, прекрасной формы пруд зацвел. Все дремало здесь таким непробудным сном, что я почувствовала себя, как в заколдованном царстве.
Слуг в доме было очень мало, они появлялись и исчезали незаметно.
Мне отвели комнату в мезонине, окном в парк. В первый же вечер меня до смерти напугала своим криком сова, облюбовавшая себе ветку совсем вблизи от меня.
Дни потекли очень однообразно.
По условию, я должна была читать два раза, утром, от одиннадцати до двенадцати, польских классиков, и вечером, от семи до девяти – французских. Но утренний час пани Ясницкая обыкновенно просыпала, а вечерние сокращались то из-за обеда, то из-за ужина. Делать мне было почти нечего. Я скоро привыкла ко всем странностям моей пани. Она тоже перестала на меня смотреть, как на чужую.
Однажды она повела меня показывать зал, где висели портреты ее семьи и рода. Предки мало меня заинтересовали. Но когда я увидела черноусого старика, ее мужа, молодого гусара с неестественно блестящими глазами, ее сына, и томную красавицу в кружевах, его жену, я поняла многое в темной душе пани Ясницкой. Она мне рассказала очень мало про всех них. Сказала только, что муж убит на войне, а сын и его жена утонули в океане.
В этот же день она мне показала две чудесной работы акварели на фарфоре, изображающие двух девочек пленительной миловидности. Это были младшие ее дочери. Она мне ничего но сказала про них, но по траурным рамкам, окружавшим акварели, и по ее глазам я поняла, что и они не в живых. По-видимому, все эти несчастья обрушились на пани Ясницкую в короткое время.
После этого дня я стала относиться к ней с особенным вниманием и теплотой.
Ужинали мы вместе, внизу, в столовой. Подавал полуглухой старик в нитяных перчатках.
Зная, что пани любит предаваться размышлениям и воспоминаниям в той же столовой, где, конечно, часто проводила она время со своей семьей, я не мешала ей и уходила к себе. Не знаю, что бы я делала без огромной библиотеки, предоставленной в мое распоряжение. Библиотека помещалась внизу, невдали от столовой, и часто, уйдя к себе, я потом опять спускалась вниз переменить книгу.
Один раз – это случилось довольно поздно, часов около двенадцати, пройдя мимо столовой, я увидела в щели свет. Удивившись, что пани сидит так поздно, я через минуту пришла в столбняк: сквозь закрытые двери мне ясно послышались голоса. Я наверно знала, что разговаривать пани не с кем. Слышался ее голос, и еще какие то, похожие на ее. Потом непонятный визг, похожий на детский.
Я в ужасе убежала наверх, не заходя в библиотеку. В скором времени я расслышала шаги пани, возвращавшейся к себе.
Меня серьезно напугала эта история. Со следующего дня я стала более зорко присматриваться ко всему. Я заметила, что посуды ставится на стол гораздо больше, чем для двоих. Я заметила скрытую обоями дверь в столовой. Особенно меня заинтриговала эта дверь.
Задержавшись после завтрака в столовой, я решила ее открыть.
Это не было трудно.
Гораздо труднее было ее закрыть, потому что у меня от страха одеревенели пальцы. Ничего особенного я не увидела. За дверкой я увидела обширный шкаф. В нем стоймя стояли те три похожих на гробы ящика, которые меня напугали еще в Варшаве.

Крышки их были приоткрыты, но мной овладел такой страх, что я ничего не могла разглядеть и отлетела от этой двери, как стрела с тетивы, к противоположной стене. Там я упала в кресло.
Вошел старик-слуга и, подозрительно поглядев на меня, плотно захлопнул дверь шкафа.
Мое спокойствие было потеряно.
Казалось мне, что и пани чем-то взволнована. Последние дни она чаще обычного посылала на почту и ждала чего-то. Акварельных портретов своих дочерей она прямо не выпускала из рук. Достала несколько альбомов с фотографиями и, вместо чтения, мы проводили время в разглядывании этих карточек. Отрывистые восклицания, невольно вырывавшиеся из уст пани, ничего мне не говорили о судьбе всех этих людей, но я очень хорошо изучила лица всех покойных Ясницких, вполне отчетливо представляла себе их рост, походку и фигуры. Не скрою, что мне особенно приятно было думать о сыне пани. При романтической моей мечтательности мне было сладостно думать, что этот красавец умер и что я никогда его не увижу, хотя, может быть, уже люблю.
3
В ветреные дни я всегда чувствовала тревогу в этой усадьбе. Скрип старых дубов, безнадежное качанье заметно оголившихся верхушек деревьев, целые вихри рыжей, красной и желтой листвы действовали на меня подавляюще.
И в то же время, я не могла оторваться от природы, уйти в свою комнату и забыться. Меня тянуло в парк, к пруду. Мучительны и приятны были мне такие дни, и особенная прелесть была для меня в том, что я одинока, что никогда ни души не встречу в парке.
Пани обыкновенно сидела в своей комнате в такие дни.
Тем более странно было мне встретить ее однажды в парке, на довольно глухой аллее. Как обычно, она вся была закутана в черное, и мне понравилась ее фигура на фоне осеннего пейзажа.
Мы пошли рядом.
Листья шуршали и хрустели под ногами. Мне, в моих тонких туфлях, было немного больно ступать на крупные желуди, сыпавшиеся с дубов.
– Я знаю, вы любите этот парк, – сказала пани.
– Да, – ответила я.
Я привыкла отвечать ей односложно.
– Мне мучительно в нем бывать, – продолжала пани. – Воспоминания связаны с каждым деревом, и тщетно я желаю, чтоб парк совсем зарос, обратился в дебри, в которых бы все спуталось и забылось. Деревья растут, но воспоминания тоже.
Она подняла желудь, задумчиво поглядела на него и опять заговорила:
– Вот и на желудь не могу смотреть. А их каждый год все больше и больше…
Я молчала. Я иногда любила ее слушать.
Она вдруг остановилась и с трудом выговорила:
– Сегодня именины одной из моих девочек. И вот помню день. Лет пять ей было. Такой же день был. Она играла желудями. Поднимала их. Давала мне.
Ее голос надрывался. Я в первый раз увидела слезы на ее глазах. Это с ее стороны было знаком большого доверия и дружбы, что она плакала при мне.
Я прикоснулась к ее руке.
– Я, кажется, плачу? – спросила она.
Я погладила ее тонкие выхоленные пальцы.
– Но сегодня у меня есть некоторое утешение, – сказала она.
Ее лицо преобразилось. Я прислушалась внимательней к ее словам.
– Я надеюсь получить сегодня то, чего давно ждала, чего мне не хватало.
Она высоко подняла голову. Опять, как при первой встрече, меня поразило выражение решимости в губах и подбородке.
– У меня есть еще надежда, – прошептала она.
Она была, как в экстазе. Я где-то видела гравюру, изображающую Екатерину Сиенскую в минуту молитвенного экстаза. Пани Ясницкая показалась мне теперь похожей на эту святую. Такими, должно быть, бывают лица у творящих чудеса.
Не нарушая молчания, мы долго потом гуляли по старому парку. Ветер несколько утихнул, листья шелестели жалобней и примиренней.
Мало-помалу у нас завязался разговор о теософии и магии, о тайных науках. Пани называла имя какого-то средневекового мудреца, который будто бы умел отделять от тела душу и вселять ее, куда угодно.
– Я не верю, – сказала я, как думала, – что душа отделима от тела, это одно целое, неразлучимое.
– Значит, мумии живут, а погребенные в землю умирают? – с неожиданной насмешливостью спросила меня пани.
Я ничего не могла ей ответить, потому что, по правде сказать, меня мало интересовали эти вопросы.
– Вы забываете, – сказала пани наставительно, – что тело человека было сотворено, а душа в него вдунута. И только потому, что тело было сотворено художественно, душа осталась в нем жить. И как только от болезни или старости это тело, это художественное произведение, начинает портиться, душа его покидает. Вы не думали об этом?
– Нет, – сказала я. Про себя я думала: «А твои дети? Разве они не были прекрасны? И разве они не умерли?»
Странной показалась мне эта теория. А пани еще спросила меня:
– Думаете ли вы, что искусство, с древнейших времен до нашего, беспрерывно улучшалось, все усовершенствовалось?
– Конечно, – ответила я.
– Вы еще не знаете, как оно всесильно, – загадочно сказала пани.
Глаза ее горели. Она похожа была на сумасшедшую.
Когда мы вернулись домой, оказалось, что с почты привезли два ящика. Это были два небольших, похожих на два детских гроба, ящика.
Меня передернуло, когда я увидела их. Пани бросилась к ним почти в истерической радости. По исступленным ее глазам я поняла, что единственное, чего она в эту минуту хочет, это остаться одной с своими тайнами.
Любопытство мучило меня, но я не стала ей мешать и ушла к себе.
Кроме того, все впечатления этого дня были так сбивчивы и странны, что моя восприимчивая натура не выдержала, и я должна была прибегнуть к испытанному еще с детства средству.
Уткнувшись головой в подушки, я всласть, бессмысленно и долго, не вытирая слез, стала плакать.
4
Когда я проснулась, было за полночь. Подняв голову с подушки, мокрой от слез, я почувствовала, что сон освежил меня и успокоил. Я зажгла свечи, открыла окно, и тотчас увидела полосы света, падавшие в парк, от освещенных ярко окон столовой. Так много свечей еще никогда не зажигалось в старинных канделябрах за все мое пребывание здесь.
Не скажу, чтобы мне хотелось читать. Мне хотелось, если говорить правду, сойти вниз, будто бы в библиотеку, а на самом деле, в надежде что-нибудь увидеть и услышать.
Свое желание я тотчас привела в исполнение.
Уже спускаясь с лестницы, я услышала громкие голоса в столовой. Опять все они были очень однообразны, как будто один человек говорил за нескольких, меняя голос. И этот голос был, несомненно, голосом самой пани Ясницкой.
Я осторожно, стараясь не шуметь, спустилась с лестницы. Дверь в столовую была плотно закрыта и завешена с внутренней стороны тяжелой бархатной портьерой. В щель ничего не было видно.
Голоса раздавались все громче. Я разбирала отдельные слова.
– Ян, родной мой, не хочешь ли еще чаю? – слышался голос пани.
И странный голос по-польски отвечал:
– Нет, благодарю вас. Вы знаете, я всегда один стакан пью.
От этих простых слов я пришла в неописуемый ужас. Я знала, что Яном звали сына пани, красавца, который мне нравился. Но любопытство пересилило страх. Я решила во что бы то ни стало увидеть все, что происходит в столовой. Из парка нельзя было увидеть, потому что деревьев вблизи не было, а окна были высоко, и стена без выступов. Я хладнокровно рассуждала так, но казалось мне в те минуты, что я седею от ужаса. Вдруг я снова расслышала голос пани:
– Крошка моя, цветик мой, наконец-то ты вернулась!
После этого ясно были слышны всхлипыванья и поцелуи.
Я выдернула шпильку из своих полос. Я люблю длинные толстые шпильки. Тихо просунула ее в замочную скважину, и, зацепив портьеру, заслонявшую отверстие, с счастливой ловкостью оттянула ее в сторону. Загнув шпильку, я могла теперь видеть.
Я прильнула к скважине правым глазом, который всегда у меня был более зорким.
Первое, что я увидела, было лицо девочки ослепительной миловидности. В то же мгновение я заметила целое общество за столом: старика с черными усами, блестящего гусара, белокурую красавицу в том же платье, что на портрете, и еще и девочку с дивными, как у куклы, локонами, сидевшую ко мне спиной.
Это было одно мгновение, это было короче мгновения. Молнией пронеслась в моей голове мысль:
– Мертвые!
И я без памяти упала па пол.
Доктора мне потом говорили, что в этот миг и началось мое душевное расстройство.
Я не помню, сколько времени я лежала на полу, перед дверью.
Очнулась я от сильных криков за дверью. Кричала пани, повторял почти одно слово:
– Живи! Живи! Живи!
Я ощущала страшную боль в голове, но, пересиливая ее, поднялась и прильнула к замочной скважине.
Все сидели, как прежде, в тех же позах, с остановившимися глазами.
Пани, с поднятыми руками, бегала вокруг стола и, останавливаясь, кричала то же слово:
– Живи! Живи!

Она прибавляла еще что-то, не по-польски и не по-русски. Свет в столовой был другой: только три огромных красных свечи стояли на столе. Серебряная чаша была до краев налита водой.
Не помня себя, я смотрела.
Вдруг пани схватила одну из девочек и прижала к груди своей, целуя исступленно и крича все громче то же слово.
У девочки беспомощно свисали ручки.
Пани кричала уже в истерике, она топала ногами и скрежетала зубами.
На лице ее невозможно было задержать взгляда. Полу-седые волосы ее растрепались. Напряжение ее достигало крайних пределов.
Вдруг она дико захохотала и, бросив девочку, в судорогах упала на пол.
Не теряя ни секунды, я распахнула дверь и вбежала в столовую.
Прежде всего я бросилась к Яну, сыну пани, моему Яну, которого я любила.
Отвратительной мертвой улыбкой были приподняты его красивые, ярко-красные губы. Прекрасная рука лежала на столе.
Я взяла ее и выпустила: она была ни теплая, ни холодная, ни твердая, ни мягкая. Я оглянула всех: это были восковые куклы. Я еще нашла в себе силу наклониться к тонкой золоченой пластинке, прикрепленной к воротничку гусарского мундира. На ней были выдавлены слова: «Paris. Premiere qualite».
Как на крыльях вылетела я из столовой, взбежала наверх, схватила кошелек и накидку и помчалась через парк на дорогу, быстрее, чем если б за мной гнались все сидевшие в столовой.
Начинало смутно светать.
До станции было двенадцать верст.
Я не помню, как я прошла их, как садилась в поезд. Очнулась я в больнице, в незнакомом городе. Доброта врачей дала мне возможность провести в ней время почти до полного выздоровления, а потом даже отдыхать в санатории.
Только теперь, когда я начинаю возвращаться к жизни, я поняла все безумие мечты, овладевшей панн Ясницкой. Ведь она хотела воскресить этих кукол, вдунуть в них жизнь! Она говорила с ними, сама отвечала за них.
Я ничего не знаю и не хочу знать про нее, но думаю, что навсегда я сохраню способность проникаться беспредельным ужасом при каждом воспоминании о ней.








