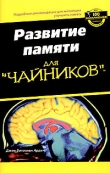Текст книги "Отпечаток перстня"
Автор книги: Сергей Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)
НА ВЕРЕСКОВОЙ ПУСТОШИ
Разговор этот, в сущности, мы затеяли с самого начала, как только приступили к знакомству с теми, у кого дощечки побольше. У нас с вами они, очевидно, поменьше или в меру: мы чаще жалуемся на плохую память, чем– на невозможность забыть. Но, кроме тех, у кого они побольше и поменьше, есть еще и миллиарды существ, у которых они совсем крошечные или же такие ничтожные, что их обладателям во всем приходится полагаться только на свои «врожденные идеи», то есть на инстинкт. Вот уж кто настоящие неучи! К счастью для них, это их нисколько не беспокоит. Инстинкт их подводит редко, а если вдруг и подведет, они этого не поймут. Выпущенный на волю неучем, павиан нервничал: он силился понять, что же ему следует делать. Выдра же была безмятежна. Она чувствовала, что ломать голову нет смысла – небольшая заминка, и все пойдет как по маслу. Ее дощечка была поменьше, погрязнее и пожестче, чем у павиана.
Хорошая дощечка и хорошо развитый мозг это не совсем одно и то же. Скорее это хорошие мозги. Далеко не всегда удается найти изъян в мозгу у патологического идиота. Это и не просто хорошая память: половина идиотов обладает феноменальной механической памятью. В одном из московских издательств часто появляется старик Л. Кормится он всю жизнь тем, что вылавливает из исторических романов неточности и ошибки. Он помнит, сколько орденов было у Нессельроде, в какой церкви венчалась великая княгиня такая-то, что было надето на Иване IV, когда он уехал в Александрову слободу, и кем приходился Рюрику Шемяка. Если Л. прочитал рукопись, можно головой ручаться за то, что ошибок в ней не осталось. Но хороша ли она, интересна ли, нужна ли кому-нибудь, судить он не в состоянии. Он вообще мало о чем в состоянии судить. Нет, мы должны подразумевать под хорошей дощечкой такую память, которая, обогащаясь сама, обогащает и ум, делая его подвижнее, основательнее, целеустремленнее. Отпечатки могут быть и четки, и «свободно расположены», по ведь надо еще уметь пользоваться ими – распределять их соответственно существующему, как говорил Сократ. А это зависит не только от чистоты, глубины, обилия и податливости воска. Короче говоря, хорошая дощечка это способность учиться в самом широком значении этого слова. Разумеется, эта способность немыслима без хорошей памяти и без развитого мозга. Чем лучше развит мозг, тем потенциально восприимчивее и богаче память его обладателя, тем большему он научится при прочих равных условиях.
Рассмотрим хотя бы бегло спектр дощечек, которыми природа наградила живые существа. Вот перед нами обладательница самой ничтожной дощечки – гусеница Prthesia chrysrrhea. Никто не учил ее искусству вить кокон, она в глаза не видела ни родителей своих, ни сверстниц. Кокон она вьет, повинуясь одному инстинкту-генетически заложенной в ней программе. Программ у псе несколько, и все они совершенно механические. Весной гусеница покидает гнездо и ползет к кустам, где появились первые листочки. Она вовсе не испытывает мук голода: если вы подогреете ее гнездо зимой, она тоже выползет наружу. Из гнезда ее выгоняет не голод, а тепло, и гонит оно ее не к листочкам, а к свету. Но пища ее находится там, где светлее всего. Добравшись до верхушки куста, она съедает положенную ей порцию, программа насыщения выключается, и теперь она может ползти куда угодно. Биологи взяли однажды из гнезд несколько еще не насытившихся гусениц и положили их в стеклянную трубку. Один конец трубки был освещен, а другой нет. И хотя у темного конца гусениц ожидали заветные листочки, они, подобно персонажу известного анекдота, сгрудились там, где было светлее. Они предпочли бы умереть с голоду, только бы не ползти от света.
Так же бестолковы дождевые черви, пауки, мухи, комары, бабочки и мелкие обитатели океанов и морей. Все они наделены механизмами для реакций на сигналы внешней среды. Какой-нибудь асцидии о приближении врага сообщает фотоэлемент: когда на нее падает тень, она сжимается в комочек. Морскому ежу сигнализирует хеморецептор: почуяв в воде вкус врага, он выставляет свои иглы. Но это не проявление разума. Ощетиниваться будет и отрезанный от ежа кусочек с одной иглой. В свое время немало было высказано восторгов по поводу тонкости обоняния у самцов шелкопряда, которые чуют самку за десять верст и мчатся к ней сломя голову. Обнаружилось, что привлекающий самца запах испускают две железки, расположенные на брюшке самки. Жестокие экспериментаторы вырезали у одной самки эти железки, положили рядом с нею и стали ждать, что будет делать самец. Самец кинулся к железкам, не обратив на самку никакого внимания. Потом у него у самого отрезали усики-антенны, которыми он воспринимает запах, и он стал безучастен ко всему на свете. Нечем воспринимать сигналы! А без сигнала сама собой ни одна программа работать не начнет. Но между автоматической реакцией и программой есть разница. Реакция это всего-навсего ответ на физическое раздражение рецепторов, передающееся по нервам к мышцам. Подобные рефлексы свойственны и нам: случайно прикоснувшись к раскаленному утюгу, мы мгновенно отдергиваем руку. Однако если мы заметим утюг вовремя, рука наша и не пошевельнется. Асцидия же будет сжиматься от тени всегда. Раздражители такого рода безлики, и реакция на них не похожа на узнавание: рецептор не может не узнать своего раздражителя. Если асцидия сожмется без видимой причины, это будет означать не то, что она обозналась, а то, что в ее нервных клетках произошел самопроизвольный разряд. Иное дело программа. Это уже не единичная реакция, которая может состояться в любое время или не состояться совсем, если в окружающей среде не произойдет перемен. Это целая цепочка взаимосвязанных действий, целое поведение. Сигнал, запускающий программу, приходит «изнутри», в определенное время, когда завершается подготовка гормональной системы и природа говорит организму: «Пора!» Приказ этот неумолим, не выполнить его нельзя. Выполняется же он в такой строгой последовательности, что, если записать весь ритуал на языке математики, самый искушенный программист примет эту запись за настоящую машинную программу.
Программы поведения роющих ос описаны в десятках книг. Поэтому мы остановимся на них очень коротко. Обойти их молчанием нельзя: осы такой же классический объект для этологов, как дрозофила для генетиков. Дощечки ос – неисчерпаемый кладезь открытий, которым пот уже сто лет не видно конца. Одной из первых в поле зрения натуралистов очутилась оса Sphex. Когда сфексу приходит время откладывать яйца, он роет норку и отправляется на поиски сверчка. Ему нужен только сверчок – ни кузнечик, ни гусеница, ни пчела не годятся. На них охотятся осы другой породы. Сверчок найден, и сфекс наносит ему три своих знаменитых удара – прокалывает жалом три его нервных узла. Сверчок остается жив, он парализован осиным ядом и превращен в живые консервы для будущей личинки сфекса. Сфекс подтаскивает сверчка к норке, оставляет его у входа и скрывается под землей, возможно, для того, чтобы проверить, не заполз ли туда кто-нибудь во время его отсутствия. Через минуту сфекс показывается наружу, хватает сверчка за усики, стаскивает его в норку и откладывает на его брюшко яйцо. Потом сфекс летит за другим сверчком, и вся операция повторяется. Два яйца отложены на двух сверчках. Когда личинки съедят свои консервы, мать их будет давно мертва и, в свою очередь, съедена жучками и муравьями. Личинки превратятся в ос, выберутся из своих норок, которые мать заботливо замуровала песком и мелкими камешками, и полетят за своими сверчками.
Энтомолог Жан-Анри Фабр нарушал эту церемонию на разных ее этапах и смотрел, что из этого выйдет. Выходило одно и то же: сфекс не умеет приспосабливаться к новым обстоятельствам, это не разумное существо, а запрограммированная машина. Фабр обрезал у сверчка усики, и сфекс, вместо того чтобы схватить его за лапку или за брюшко, полетел за новым сверчком. Когда сфекс исчез под землей, оставив сверчка у входа, Фабр отодвинул его в сторонку. Сфекс поискал его, нашел, подтащил к норке и снова нырнул в нее один. Фабр проделал этот опыт сорок раз, и сорок раз сфекс нырял в норку, так и не догадавшись прихватить сверчка с собой. Да и о чем тут догадываться и как можно браться за очередное действие, если предыдущее выполнено небезупречно: пока сверчок подтаскивается, норку могут занять! Не успел сфекс замуровать норку, как Фабр размуровал ее и извлек оттуда сверчка вместе с яйцом. Сфекс еще разгуливал поблизости. Заметив непорядок, он скрылся в норке, потом выполз из нее, замуровал норку и улетел. Неважно, что замуровывать некого, важно замуровать, удостовериться, что сооружение не рухнуло, а если рухнет, починить, и тогда можно улетать. Ни тени разума! Только слепое выполнение запущенной инстинктом программы, которая настолько совпадает с машинной, что даже принцип выполнения у них одинаков: сигналом для запуска каждой последующей подпрограммы служит окончание предыдущей.
Сравнение с программой принадлежит американскому кибернетику Вулдриджу, автору книги «Механизмы мозга», вышедшей в 1963 г. Между тем тот же Фабр упоминает вскользь, что ему попадались осы «с хорошей головой», которые распознавали его хитрости. Фабр описывает также, что происходит, когда сфексу случается промахнуться. Начинается яростная схватка, из которой не всякий сфекс выходит победителем. На этот счет природа не снабжает ос подробными инструкциями, каждая должна действовать в зависимости от обстоятельств. Голландскому этологу Нико Тинбергену удалось найти этому подтверждение в наблюдениях за другими осами, Philantus triangulum Fabr., которых в Голландии зовут «пчелиными волками». Волею случая, пишет Тинберген, «они превратились в моих близких знакомых, чья жизнь и дела стали для меня… предметом самого жгучего личного интереса». Как вы поняли, филантус запрограммирован природой на пчел. Каким же образом он распознает свою жертву среди тысяч насекомых, пирующих на вересковой пустоши в жаркий летний день? Программа охоты оказалась негибкой. Сначала филантус замечал движущийся предмет размером с пчелу, повисал над ним и прннюхивался. Если запах осу не обманывал, предмет попадал в ее объятия, и вслед за обонянием включалось осязание и «уточняющее зрение». Последовательность операций филантус соблюдал так же строго, как и сфекс: обоняние включалось только после окончания работы «общего зрения»; пока филантус не замечал пчелу, почуять ее он не мог, даже если она находилась подле него. Но все преображалось, если пчела решала дорого продать свою жизнь. Движения филантуса, пытающегося повернуть пчелу в удобное для ужаливания положение, были такими же бессистемными, как и у человека, не знакомого с приемами борьбы. В этой вольности крылась своя целесообразность: в ситуации, где действия среды не предугадаешь, машннообразная жесткость была бы для филаитуса гибельной. Филантус, вышедший из схватки победителем, переставал быть неучем. Это был стреляный воробей, с дощечкой, заполненной отчетливыми отпечатками.
Но только ли во время трудной охоты становится гибким поведение осы? Попадались же Фабру сфексы с хорошей головой. Попадались ему и толковые жуки-могильщики. Фабр подвешивал к верхушке прутика мертвого крота, и жуки догадывались перегрызть шнурок, на котором висел крот. Когда же Фабр заменил шнурок проволокой, жуки после тщетных попыток перегрызть ее начинали подкапываться под крота, трясти его, делать все возможное, чтобы перетащить его на удобное, по их мнению, для трапезы место. Фабр, который не придал особого значения сообразительности некоторых ос, истолковал неудачу жуков как результат негибкости инстинкта: крота ведь можно было и никуда не перетаскивать. Однако нельзя же подходить к жукам с человеческой меркой, да и люди часто не в состоянии отказаться от своих привычек и подладиться к обстоятельствам. Нет, жуки сделали все, что было в их силах. Точно так же ведут себя и пчелы, если попадают в неожиданные условия. В своей известной книге «От пчелы до гориллы» Реми Шовен рассказывает, как он и его сотрудники поставили соты не вертикально, а горизонтально, чего пчелы никогда не видывали. Пчелы же продолжали невозмутимо укладывать мед в опрокинутые ячейки. Экспериментаторы не верили глазам своим: жидкий нектар не выливался из ячеек, пчелы «знали» законы поверхностного натяжения жидкостей! Люди разрушали соты – пчелы переделывали их заново, люди совали пчелам вместо сот кусочки дерева-пчелы научились откладывать мед в ямки на этих кусочках. Одну семью пчел, летавшую за нектаром в определенном направлении, сбили с толку, заставив лететь в неурочное время, когда их врожденный ориентир солнце находилось не там, где обычно. Пчелы, хотя и не сразу, сообразили, в чем дело, и переучились. Нет, не может быть, чтобы и осу нельзя было чему-нибудь научить. Что она станет делать, если и ее сбить с толку? Но надо прежде узнать, как она находит дорогу, возвращаясь с добычей к норке, запоминает ли она что-нибудь в нашем, человеческом понимании этого слова.
Тинберген заметил, как филантус, перед тем как отправиться к пустоши, описал над норкой несколько кругов. Может быть, он старался запомнить местность? Филантус улетел, а Тинберген передвинул все камешки и шишки, валявшиеся вокруг норки. Прошло около часа, и филантус появился с добычей. Подлетев почти к самой норке, он замер, а потом заметался в растерянности. Он описывал и описывал круги, но найти норку так и не мог. Тогда он бросил пчелу и вновь принялся за поиски. Вскоре он наткнулся на норку, слетал за пчелой, вернулся и скрылся с ней под землей. Настоящее разумное поведение! Из дальнейших опытов стало ясно, что филантусы действительно запоминают ориентиры вокруг своих норок, причем всем ориентирам предпочитают шишки. Следуя по пятам за филантусами, Тинберген установил, что вся дорога от норок до пустоши усеяна для них ориентирами. Пока филантусы охотились, Тинберген со своими товарищами успевал пересадить с места на место молодые сосенки, росшие по дороге, и филантусам приходилось напрягать весь свой крошечный разум и крошечную память, чтобы сообразить, где находится норка. К их чести, все их поиски завершались успешно. Друзья Тинбер-гена, продолжившие его наблюдения, обнаружили и вовсе неслыханное явление. Наблюдая за поведением ос Атmphila campestris Fur., охотившихся на гусениц, они открыли, что эти осы выкапывают не одну норку, а несколько, причем не все в один день, а постепенно. В одной норке уже живет личинка, в другой еще никого нет, но свежую добычу приходится тащить не в пустую норку, а в первую: прожорливая личинка уже съела гусеницу. Рассказывая об аммофиле, Тинберген не сравнивает ее ни с кем, а просто восхищается этой крошкой, которая хранит в памяти сочетания ориентиров, указывающих на местоположение двух, а то и трех норок, вырытых среди сотен других, и точно знает, каких именно забот требует каждая норка в данный момент. Окажись на месте Тинбергена специалист по проектированию систем «человек и машина», сравнение бы пришло к нему само собой. Да поведение этой крошки как две капли воды похоже на работу того же диспетчера аэропорта, которому надо постоянно держать в памяти местоположение нескольких объектов и тоже знать, каких забот требует от него каждый объект,-в данный момент. Правда, норки, в отличие от самолетов, неподвижны, зато подвижны ориентиры: ведь не только натуралист может передвинуть все шишки, но и ветер, и стадо коров. Оса, как и диспетчер, должна быть готова ко всяким неожиданностям, которые не предусмотришь пи одной инструкцией. И программа ее поведения должна быть устроена так, чтобы в ответственный момент можно было переключиться на гибкий, свободный режим, чтобы вся система могла стать самоорганизующейся, умеющей переучитываться и запоминать все, что нужно.
ЗАКРЫТЫЕ И ОТКРЫТЫЕ ПРОГРАММЫ
П
оведение играет ведущую роль в любом эволюционном процессе. Представим себе маленьких грызунов, миллионы лет живших на сочном лугу. Внезапно начал меняться климат. Век за веком засуха жгла траву, превращая луг в бесплодную пустыню. Грызуны должны были приспособиться к новым условиям жизни или погибнуть. Приспособиться значит научиться запасать впрок то, что успевало вырасти на лугу. Те, кто жил сегодняшним днем, были обречены, а те, кто стал делать запасы, выращивали потомство. Так возникла новая схема поведения, а с нею и необходимость в кладовых. Переход к подземному образу жизни сопровождался тем же естественным отбором, благоприятствовавшим зверькам, у которых волею случая лапки были лучше приспособлены к рытью, а меховой покров к жизни под землей. И вот мало-помалу обитатели луга с нежными лапками и мягким мехом превратились is грубошерстных зверюшек с сильными лапками и коготками. Грызун и его нора стали одним целым. Новый образ жизни вызвал глубокие перемены в организме грызуна. Постороннему нечего делать в норе! Проще всего, конечно, встретиться с ним нос к носу и самолично прогнать его. Но тут хозяин норки рискует попасться в когти ястребу. Нет, гораздо лучше, если посторонний даже не приблизится к норке, узнав по запаху, что попал на чужую территорию. И вот отбор проводит очередную дифференциацию внутри вида: выживает потомство тех, чей помет обладает едким запахом или чьи железы выделяют остро пахнущие вещества. Устанавливается и новая схема поведения, указывающая грызуну, каким способом проводить границы вокруг своей территории.
Так вырабатывается и закрепляется в потомстве всякая программа поведения. Мы можем представить себе, под влиянием каких обстоятельств сложились программы у всех существ и почему в одних случаях программа остается жесткой, а в других смягчается и дает возможность ее обладателю почувствовать себя свободнее и -пошевелить мозгами. Заметим в скобках, что слово «свободнее» мы употребляем в переносном смысле: свобода – благо лишь для тех, кто желает ее. С той свободой, о которой идет. речь, сопряжены одни хлопоты. Если бы оса умела говорить, она бы сказала, что ее вовсе не устраивают ни своенравные сверчки, ни движущиеся ориентиры. Она могла бы процитировать известный афоризм Клода Бернара: «Условием свободного существования является постоянство внутренней среды». Если это постоянство нарушается, если, например, становится слишком жарко или t слишком холодно, организм пытается восстановить равновесие и пускается на всевозможные выдумки. Когда улей перегревается, пчелы вентилируют его своими крылышками и окропляют прохладной водой, а когда наступают холода, собираются в большой клубок, внутри которого поддерживается постоянная температура. Этот способ предусмотрен одной из программ их поведения. Но как откладывать нектар в перевернутые ячейки, конечно, ни одна программа не знает. Невозмутимость пчел в этом случае была скорее всего кажущейся; это слово не более, чем наша неизменная дань антропоморфизму. Когда пчела оказывает сопротивление осе, невозмутимой ни ту, ни другую не назовешь. Автоматизм растворяется в активных поисках утраченного равновесия, сопровождающихся, и быть может, выражением самых недвусмысленных эмоций.
Равновесие, которое больше всего устраивает эти создания, есть тот же автоматизм. Подлинная свобода заключена для них в минимуме отклонений от привычного образа жизни. Неожиданные приключения не их стихия. Соединив определенным образом их нервы и мышцы, надев на многих из них панцири и латы, природа закрыла для них путь к совершенствованию мозга и к проявлению индивидуальности. Часть из них, те же пчелы или муравьи, вообще не могут существовать вне гигантских коллективов, а внутри них – преступать пределы своих обязанностей. Муравей не может ни предаться гордому одиночеству, ни отправиться воевать, если ему на роду написано быть фуражиром: воевать будут те, кто родился солдатом. В этом благо муравья и всего муравейника. У большинства насекомых дети не встречаются с родителями. Учиться не у кого и некогда: жизнь коротка, опасностей тьма, а надо и есть, и позаботиться о потомстве. Тут не до приключений, не до свобод и не до развития памяти и разума. Единственное спасение в подробных инструкциях-программах. Все программы передаются по наследству и все выполняются неукоснительно. Иное дело – формы поведения, или подпрограммы. Когда сфекс бросается на сверчка, он действует точно по программе. Но вот он промахнулся, и пошла рукопашная. Программа предоставляет ему право действовать как угодно и даже удрать, но – не переменить объект охоты. У филантуса тоже нет выбора: только медоносные пчелы. Но драться с ними можно как заблагорассудится и запоминать дорогу можно любым способом. У всех у них поведение строится на одном и том же принципе: более жесткие основные программы и менее жесткие подпрограммы, позволяющие приспосабливаться к непостоянной среде – кое-чему учиться и кое-что запоминать.
Птица ткач, лишенная на протяжении четырех поколений привычных условий и строительных материалов, все равно сумеет построить свое затейливое гнездо. Это жесткая программа, не нуждающаяся ни в каком дополнительном опыте. Два вида маленьких морских рыбешек mucus живут в одних и тех же местах. Их внешне ничем не отличишь друг от друга, и однако два вида никогда не смешиваются между собой. Чтобы понять, почему это происходит, американский зоолог Д. Тодд поместил в одно отделение аквариума самца, а в другое впустил сначала самку того же вида, а потом соседнего. В обоих случаях реакция самца была одинакова: завидев самку, он начинал «щеголять» перед нею – выписывал в воде кренделя. Жесткая программа включалась автоматически, хотя в одном случае включаться ей вовсе и не следовало. Тодд предположил, что самец окончательно узнает свою самку не по виду, а по запаху. Так оно и оказалось: когда самца впускали в воду, где только что побывала его самка, он опять начинал щеголять. Этот завершающий штрих в узнавании программа оставляет опыту, не генетической, а индивидуальной памяти. Память же эта у многих животных, хотя и отличается строгой избирательностью, но прочна необыкновенно. Один из сомов в питомнике Тодда перескочил через край своего бассейна и очутился в садке с маленькими рыбками. Спасаясь от преследования, рыбки выпрыгивали из садка и, оказываясь без воды, погибали. Сом был пойман и водворен на место, когда в садке остались всего две рыбки. Каждая выделила себе территорию в разных концах аквариума, но стоило в садок влить воду из бассейна, где жил сом, как они уже метались по садку вместе. Воду меняли, и рыбки уплывали каждая к себе. Химическое вещество, выделяемое сомом, они не могли забыть и через полгода.
Способность дополнять врожденную структуру поведения сведениями, получаемыми из опыта, тоже инстинктивна, тоже предусмотрена генетически. Это и есть дощечка в платоновом и в нашем понимании. Существо рождается с такой способностью и упражняет ее в течение жизни. Эту способность Ардри называет открытым инстинктом, или открытой программой. Начиная с роющих ос и двигаясь к высшим группам животных, мы видим, как закрытые инстинкты уступают место открытым, а открытые пополняются опытом, приобретаемым в процессе обучения. В структуре нашего собственного поведения обучению отведена максимальная роль, а закрытому инстинкту минимальная. Среда испытывала нас жестокими и разнообразными способами. Были такие эпохи, когда целые века проходили без перемен, и время, казалось, стояло на месте. В такие эпохи испытывалась консервативность живых существ: если вы сегодня поступали так же, как вчера, вы выживали скорее, чем ваш менее постоянный собрат. А потом наступали другие эпохи: менялся климат, ледники и морозы переделывали лик континентов, дожди превращали пустыни в леса, а засуха снова превращала их в пески. Через эту панораму коварных времен шли маленькие группки боровшихся за свою жизнь существ, которым суждено было стать людьми. Большинство из них были консервативны; они погибали на берегах высохших и вдруг забурливших рек, они замерзали, когда внезапно налетали снежные бури. Они не были нашими предками. Нашими предками были существа, умевшие распознавать признаки надвигавшихся перемен, включать новую информацию в программы своих инстинктов и обогащать опытом свою структуру поведения, существа разумные и гибкие, понимавшие, что сегодняшний день может быть непохож на вчерашний, а завтрашний на сегодняшний. Они умели предвидеть и развивать эту способность в потомках.
Сама по себе эта способность не человеческая привилегия. Программами наделены все существа, все зависит от степени их «открытости». До недавних пор некоторые этологи не желали замечать, как запоминают осы и пчелы, и чересчур догматически толковали опыт с выдрой и павианом. Они считали, что элементы поведения одних животных либо врождены, либо благоприобретены, третьего же не дано. Конрад Лоренц, Нико Тинберген и их последователи доказали, что альтернативы здесь быть не может. Даже когда поведение содержит в себе элементы, приобретенные опытом, оно все равно следует программе, которая заложена при рождении. Структура программы направляет ход обучения, программа записывается в той форме, которая выработана генетическим фондом вида. Моно говорит иронически, что, если мы не желаем признавать свои собственные инстинкты, нам «из уважения к самому себе не остается ничего другого, как запретить обследование некоторых конструктивных сторон своего образа жизни». К счастью, биологические теории, построенные на эмоциональных запретах и альтернативах, больше не принимаются всерьез, а те, кому не хватает поводов к самоуважению, предпочитают не мешать разумным речам. Речь – вот уж действительно наша привилегия и лучшее основание для самоуважения: речи-то мы главным образом и обязаны той степенью «открытости» и предвидения, которая недоступна никакому животному.
Проблема предвидения начинается с парадокса. Чем жестче программа и детерминированнее поведение, тем ярче видны в нем элементы предвидения. Глупости и оплошности совершают только те, кто наделен развитым мозгом и индивидуальностью. Нет ведь ни беспечных ос, ни ленивых муравьев, попрыгунья-стрекоза поет все лето только в басне. И однако трудолюбивый муравей или запасливая белка – это только антропоморфические символы. За целесообразность поступков естественному отбору заплачено миллионами промежуточных форм и отказом от умения как следует пораскинуть мозгами. Завтрашнего дня, которым учатся жить обладатели мозгов, для закры тых инстинктов не существует. Мы создаем себе представление о завтрашнем дне, сознательно или бессознательно анализируя все, что знаем о вчерашнем. Они же не выходят за пределы сегодняшнего дня, и все их хлопоты о будущем, хотя они и составляют смысл их существования, это повиновение программе, о которой им ничего неизвестно. Они не предвидят, потому что видят не дальше собственного носа, предвидят не они, а за них. Чем больше целесообразности, тем меньше воли и воображения.
Еще раз подчеркнем: здесь нет альтернативы. Меньше – это меньше, и все. Оса, которая кружит над норкой, запоминая расположение шишек, в известной мере предвидит, что ей придется искать норку. Вы можете сказать, что нет ос, которые не успели научиться этому кружению: запоминать велит им инстинкт. Да, но инстинкт велит им запоминать ориентиры, а не шишки. Если вы уберете шишки, оса запомнит камешки. В любом случае она постарается создать образ ситуации, включающий в себя и ориентиры, и намечаемый маршрут, и цель путешествия. Это предвидение, пусть в такой же зачаточной форме, в какой пребывает ее мозг, но предвидение. Если инстинкт чуть-чуть приоткрыт, в него уже входит информация извне, входит затем, чтобы сложиться в модель ситуации и предвидимого будущего и помочь ее обладателю хоть немного, а распорядиться будущим самому. Нет ос, которые не пытались бы запомнить дорогу, но все ли они запоминают ее одинаково? Тем не менее сомнительно, чтобы оса была способна долго обдумывать ситуацию и воспроизводить в уме все последствия своих возможных реакций – вспоминать то, чего еще не было. На это неспособен даже наш ближайший родственник шимпанзе. Обдумывать это значит контролировать свои ощущения и становиться независимым от среды. Мозг шимпанзе порабощен чувствами. Чувства владеют и нами, но нам удается их сдерживать. Мы помним о том, что может случиться, если дать им волю. Это уже настоящее, неметафорическое предвидение.
Предвосхищение и угадывание свойственны всем. Щенок, который радуется при виде хозяина, собирающегося на прогулку, живо воображает, то есть представляет себе «с опережением» приключения, которые его ожидают. Потом он переживет их заново в своих сновидениях. Шимпанзе без всяких «проб и ошибок» догадывается о том, что банан, подвешенный к потолку, можно достать вон той палкой, если влезть на ящик да еще поставить на него вот этот ящик поменьше. В чем же тогда отличне нашего предвидения от предвидения, свойственного собаке и обезьяне? Психологи говорят: для животного нет мира, а есть только окружение. Если расположить банан и палку так, чтобы они не попали одновременно в поле зрения обезьяны, искать палку она не станет: она не имеет о ней представления. Если на ящике будет сидеть одна обезьяна, другая не воспользуется им как подставкой. Для нее этот ящик не подставка, а сиденье. Нам известно, что есть палки вообще и ящики вообще, а обезьяне неизвестно. Собаке тоже. Закат солнца, говорил один психолог, напоминает ей не о гибели богов и героев, а о том, что пора ужинать. Она знает только ассоциации по смежности, но не по сходству. Двойная честь, о которой писал поэт, ей неведома. Воображение может нарисовать перед ней яркую картину предстоящей прогулки или ужина, но оно не нарисует ей картину прогулки, которая состоится через неделю, или прогулки, в которой будет участвовать не она сама. Неведомо ей и то, что хорошую прогулку можно предпочесть званому ужину.
Наше воображение опирается на речь, которая помогает нам давать оценку предстоящим действиям и строить такие модели мира, которые не снились ни одному животному. Самое разумное животное не в состоянии оценить до конца предстоящее и в случае необходимости отказаться от своего намерения. Оно не может отвлечься от собственного опыта и поразмыслить над опытом других. Вспоминая о чем-нибудь или представляя себе, что его ожидает, оно никогда не догадается о том, что предается воспоминаниям или пытается предвосхитить будущее. Эта двойственность, умение думать и одновременно знать, что думаешь, свойственна только человеку. В ней-то и заключено могущество нашего разума, способного освобождаться от оков настоящего момента и уносить нас в любую точку времени, которую мы только можем представить себе.