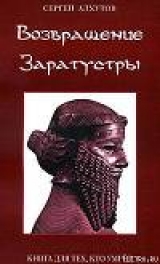
Текст книги "Возвращение Заратустры"
Автор книги: Сергей Алхутов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)
Сергей Алхутов
Возвращение Заратустры
Предисловие Заратустры
Когда Заратустре исполнилось семьдесят семь лет, он вернулся к своей пещере, где расставался он с высшими людьми и где оставлял он новые скрижали. И увидел он рядом с пещерой брусчатку, и была она стёрта кирзовыми сапогами, и хруст подкованных каблуков прилип и присох к ней. И увидел он напротив пещеры пивную, и головомойку пивным шампунем устраивали в ней, и берёзовая каша пивного путча заваривалась в ней, и красный язык оратора полыхнул в ней и прижарился к ней. И увидел он скрижали, и написанное на них было написано расплывчато, а ныне по большей части стёрлось. И сказал Заратустра в сердце своём:
“А ведь знал, пишущий кровью, что кровь свернётся и засохнет и истлеет! Ибо кровь, когда выводишь ей письмена, становится мёртвой”.
И увидел Заратустра, что четыре записи остались разборчивы на его скрижалях.
“Бог умер”, – гласила первая.
“Сверхчеловек”, – гласила вторая.
“Разбейте старые скрижали!” – гласила третья.
“Так говорил Заратустра”, – гласила четвёртая.
И рассмеялся Заратустра, и смеясь, говорил так:
“Бог умер? Но разве фраза ”Бог умер” сама ещё не стала богом?
Сверхчеловек? Я знался с ним, но он знался с черепашками и летучими мышами. Теперь они вместе спасают мир, будто тот нуждается в спасении.
Разбейте старые скрижали? Не старцем для этого должно быть, но мышью. И кто же из моих учеников признал в себе мышь?
Так говорил Заратустра? Но эта фраза сказана не Заратустрой.
Вот что бывает, когда пишут кровью. Ибо кровь, когда выводишь ей письмена, становится мёртвой.
Прах к праху, тлен к тлену, моё к чужому. Ибо кровь, которой выведены письмена, больше не кровь.
Кровь к крови – вот что хотел бы слышать Заратустра! Но имя тому, что за этим следует – анафилактический шок.
Кто нуждается в переливании, тот нуждается во враче. Если бы по рецепту врача отпускали также и книги! Но то, чем выведены письмена, больше не кровь.
И Заратустра больше не пишет кровью”.
Так говорил Заратустра и покинул свою пещеру.
Об отбросах
Долго шёл Заратустра на север и остановился в большом городе, который назывался: “Мокрая Вода”.
И ходил Заратустра по его улицам, и были прекрасны его башни и его подземные ходы, и его быстрые повозки, и светильники его ночей, и у каждого дома видел Заратустра баки для отбросов, и в каждом доме вёдра для отходов, и в каждой конторе мешки и корзины для мусора. И многие жители его сами были подобны отбросам и мусору.
И среди мусора нашёл себе Заратустра писчие принадлежности, и писал так:
“Я поведаю этим листам, откуда они берут своё начало.
Также поведаю я всем читающим о начале их века и их существования.
Не я ли некогда говорил: “Нужно ещё иметь в себе хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду”? Воистину, Заратустра имеет в себе достаточно хаоса.
Сколь многие жаждут ещё устроить порядок! Ко всему прикладывают они линейку и циркуль, их слово – инструкция, их ритм – марш, их образец – кристалл.
И о кристалле говорят они так: “Лучший из углов его – прямой, лучший из цветов его – белый”. Можно ли придумать лучшую надгробную плиту?
Вслушайтесь! Когда стоит мёртвый штиль и гробовая тишина, воздух чист и подобен кристаллу. Тогда всякая соринка знает своё место.
Но вот рождается свежий ветер, и он поднимает в воздух пыль и сор – так начинается хаос.
И ветер крепчает, и хаос растёт, и сучок может попасть в глаз брата твоего, и бревно в твой глаз. Вынь же бревно из глаза твоего, ибо близится то, что рождается хаосом.
Вот оно грядёт – круговращение, что не нуждается больше в ветре. Ибо оно само рождает ветер и само поддерживает свои обороты.
Форма его идеальна, и втянувшееся в него движется кругообразно, а исторгнутое падает. И в сердцевине своей имеет оно глаз, и разве место в этом глазу сучкам и брёвнам? Нет, они движутся кругообразно и падают.
Рождённое рыхлым, носит оно имя бури, рождённое плотным, называется торнадо и смерч. И люди видят смерч, будто это тело – но нет, он всего лишь движение.
Так порядок рождается хаосом.
Всё, что есть в мире живого, по сути своей торнадо и смерч. Видел ли кто-нибудь живое без самоподдержания и круговорота? Воистину, люди видят живое, будто это тело – но нет, оно всего лишь движение.
Есть также то, что, будучи исторгнуто из движения живого, падает. Испражнениями зовут это люди – но это ещё не отбросы и не мусор.
Посмотрите! На испражнениях селится плесень и мухи. Выброшенное из одного торнадо и смерча находит свой круговой путь в другом.
Посмотрите! Человек потрошит рыбу и птицу, и бросая кишки, говорит: “Вот отбросы и мусор”. Нет, это не отбросы и не мусор – это пища для крыс.
Битые горшки и битые танкеры, зола костров и зола атомных котлов – вот что зовётся мусором. Впрочем, археологи зовут это культурным слоем.
У отбросов и мусора есть история. Некогда возникли и зажглись звёзды, из легчайшего газа возникли они. И, горя, оставляли по себе золу, что не могла больше гореть. Тяжёлыми элементами зовётся эта зола. Ныне из неё устроена твердь и миры, и человек ходит по тверди и мусору.
Некогда возникли и родились водоросли, водой питались они. И, питаясь, оставляли по себе ядовитый газ, что убивал живое. Кислородом зовётся этот газ – и воистину жизни пришлось кисло от него. Ныне из него устроен воздух, и человек дышит воздухом и мусором.
Некогда папоротники были деревьями, на болотах росли они. И, умирая, оставляли по себе отбросы, что не могли переварить плесень и мухи и почва. Углём зовутся эти отбросы. Ныне на нём построена промышленность, и стал он топливом, и человек кидает в топку топливо и мусор.
Укажите же мне, что ещё не было отбросами и мусором, прежде чем стать частью сущего. Может, человек? Человек, что был отбросом у обезьян и ютился на опушке, когда обезьяны жили в лесу?
Воистину, всё сущее было отбросами и мусором и всё сущее рождено хаосом. Не стыд и не гордость должно это вызывать, но осознание.
Но вот на какой вопрос не знает ответа Заратустра: что за миры породит хаос из того, что мы знаем как отбросы и мусор? Что за лучшие из миров?”
Так писал Заратустра.
Об истине
Заратустра остановился на постой у некоего человека. И человек, когда на глаза ему попались листы, исписанные Заратустрой, прочитал письмена и сказал:
“Заратустра не пишет больше истины”.
Рассмеялся Заратустра. Громко он смеялся, самозабвенно и долго, до колик и до икоты. И, икая, говорил так:
“Я пишу меньше истины, а всю истину было бы дорого издавать – что же говорить о том, что больше истины! Зато я пишу больше ответов, ибо не истец я сегодня, но ответчик – ещё бы, ведь ты меня судишь! И отвечу я тебе так: чем меньше истину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Так с ней и надо: поквакал – и в истину!”
И, отсмеявшись, говорил так:
“Сказать ли тебе теперь что-нибудь всерьёз?”
“Лучше напиши”, – ответил владелец жилища.
И Заратустра написал так:
О порядке писал я на прошлых листах – теперь пишу об истине.
Однажды бог сказал людям: “Я есмь истина” – так записано в книге о нём. Истина этого бога – не “что”, но “кто”.
Слышал я также о богах, чьи вопросы к истине были “когда” и “где”. Знал я и людей, говоривших о ней “как” и “каким образом”.
Был некогда человек, почитаемый всеми мудрецом, который сказал: “Платон мне друг, но истина дороже”. И вот вопрос его к истине: “Почём?”. Не трёх ли Платонов просит он за истину? Или ещё двух богов впридачу?
Впрочем, и тут легко продешевить – ведь истина, как думал он, оценивая, всего одна.
Многие думают так и по сей день. И вот их вопрос к истине: “сколько?”.
Говорю вам, счетоводы, считающие до одного, проверьте, не залипли ли костяшки на ваших счётах. Ибо счёт ваш ведётся не костями только, но и кровью, а кровь – липкая субстанция.
В самом деле, если высказывание “истина всего одна” само есть истина, то тем самым уже та единственная, и такая ли, на которой стоит залипать костяшкам? – нет, и даже то, что к ней надо стремиться, уже не истина. Если же говорит оно о другой истине, то само уже истиной быть не может – иначе их было бы две, та и эта.
Неужели найдётся ещё выбирающий одну бессмысленную истину, говорящую лишь о себе самой?
И написав так, показываю я ещё один вопрос к истине: “зачем?”. Впрочем, и не только к ней.
Вот, есть нечто, что один полагает истиной. Другой же ход т вокруг неё и выискивает её слабые места. “Разве это истина?” – говорит он первому, – “Посмотри, ты же ошибаешься”.
Истину ли ищет второй? Нет, он ищет чужие ошибки. Зачем? Чтобы возвыситься.
Впрочем, и первому не мешает спросить самого себя: “Зачем бы моей истине мог понадобиться этот человек?”
Но первый занят: он занят тем, что полагает нечто истиной. И надевает он её каждому на голову, и у принявших её на свою голову лица становятся одинаковыми, а глаза стеклянными. Так истина становится противогазом.
Истину ли ищет первый? Нет, он ищет чужие головы. Зачем? Чтобы возвыситься.
Впрочем, и то, что пишу я о намерениях этих двух людей, никак не истина.
Но зачем бы, в самом деле, мог понадобиться истине второй из этих людей? Чтобы проверить её на точность. А первый? Чтобы проверить её на всеохватность.
Воистину, не так давно закончились времена, когда жалел Заратустра о том, что не сочетаются эти качества в полной мере. Но они закончились. И теперь я всякий раз спрашиваю себя: “зачем?” – и выбираю должную пропорцию точности и всеохватности.
Так, путешествуя между гордой частицей и мудрой волной, рождает Заратустра своё знание. Не это ли означают собой и мои животные, орёл и змея?!
И теперь, после заданных к ней вопросов, что есть истина, как не ответ? И, как ответ, зависит она от выбора языка.
Изучая ответные движения, всё более и более тонкие миры познавал Заратустра. И вот однажды заглянул он в микроскоп.
Диковинное животное предстало взору Заратустры. Любые формы принимало оно и бесконечно гибким было оно. И в этом танце форм не знало существо, движет ли оно ложноножками или истинноножками, ибо главное в танце – движение.
И если ты хочешь, чтобы твой язык был танцующим, не знай об истине и лжи. Ибо главное в танце – движение. Тогда лучшие из фигур опишет язык твой, танцуя.
Впрочем, некоторые полагают ещё, что язык описывает реальность. Что ж, может быть, он и говорит о том, КАК она устроена. В этом случае он её не только описывает, но и ОБКАКИВАЕТ”.
Написав эти слова, рассмеялся Заратустра, довольный такой шутке и такому танцу языка. И продолжил писать так:
“Шутка мимолётна. Шутка зависит от языка, а язык меняется.
Два будущих ждут всякую шутку, когда в достаточной мере изменится язык.
Одно из будущих – стать никому не понятной. Когда звучат шутки даже и прошлого века – клянусь, и я не всегда их понимаю. А сколь часто можно прочесть в толкованиях к написанному на мёртвых языках: “Непереводимая игра слов”!
И вот второе из будущих. Хорошо раскрученная шутка становится истиной. Впрочем, затем и ложью.
Одно будущее не исключает другого. На смерть готовы идти люди за шутки древних богов, веря в них и не понимая их ни как шутки, ни как истины.
Но не самую ли забавную из шуток сыграли с человеком боги, умолчав ему о том, что истины не бывает?”
Так писал Заратустра.
О тонком
Прочтя то, что успел написать Заратустра, некто сказал:
“В твоей рукописи есть слишком тонкие места. Вот, например, про смерч – ты уверен, что это порядок? Или вот, где истину уподобляешь ты противогазу. Это слишком тонкие места”.
“И что же?” – спросил Заратустра.
“Что, что, разве непонятно? Где тонко, там и рвётся”, – ответил некто.
“Что ж, я напишу и об этом”, – сказал Заратустра. И написал он так:
“Сегодня повстречался я с человеком, жаждущим надёжности. Не из желающих возвыситься этот человек – нет, я даже вижу, как хочет он блага другим. И Заратустре хочет он своего блага.
Так ищет он воздвигнуть Заратустре толстую стену и щит от всяких неприятностей. Но ещё не знает он, что это кровь к крови.
Однако почему же сам Заратустра не воздвиг себе стену и щит, и почему остались в нём тонкие места?
Потому что где тонко, там и рвётся.
Где тонко, там и рвётся – так говорил некто, стоя в аптеке в очереди за презервативами. “Да-да, но добавьте: и гнётся!” – поддержал сзади старческий голос.
Где тонко, там и рвётся – так выдохнул скрипач, порвав первую струну. “Скорее, застревает”, – возразил органист, оставив попытки извлечь звуки из флейты-пикколо.
Где тонко, там и рвётся – так решил балалаечник, порвав струны на скрипке. “И если бы только там!” – воскликнул он, едва лопнула струна на бас-гитаре, что пытался он перестроить под балалайку.
Воистину, нет такого тонкого, что было бы предназначено для испытания на прочность.
Вот тонкое лезвие меча, а вот и толстая оглобля. О воины! Или вы до сих пор предпочитаете сражаться по-крестьянски?
Вот тонкое лезвие топора, а вот его толстый обух. О трудящиеся! Рубите ли вы обухом? Впрочем, где надо, уместен и он.
Тонка указка картографа, и на тонкие линии карты указует он ею. А накрыв ладонью пачку “Беломора”, можно сказать: “Мы где-то здесь”, – но много ли в том толку?
Тонок луч лазерного прицела – и пуля, следуя ему, льнёт к телу политического лидера. А накрыв город ядерным зарядом, не разрушить его бункер.
Тоньше всего точка. И само тонкое предназначено для точности. Но к чему приложить саму точность?
Приложить ли точность, трогая пальцем толстейший из рычагов? Или пытаясь нитью удержать корабль на якоре?
Но это не будет точностью. Проведи линию от самого тонкого к самому толстому, размести на ней всё сущее по толщине – точка, выбранная на этой линии, будет точностью.
Итак, тонкое и точное создано делать выбор и отделять. А тончайшее и точнейшее создано управлять.
Но даже когда тончайшее не правит, разве рвётся оно?
Посмотрите: тончайшие жилки вплетены в древесный лист – и разве не толстый черешок обламывается осенью?
Посмотрите: тончайшими космическими лучами пронизан мир – вы видели хоть один из них порвавшимся?
Дерево, что отрывает буря от корней его и от земли его, не в самом тонком месте ломается, но в самом сухом.
Отсыревшая бумага, что тянут и разглаживают нечуткие руки – та рвётся в самом сыром месте.
Лёд, что в зимнюю стужу скалывают ломом с асфальтовых дорожек – тот легче ломается в самом толстом месте.
Находятся такие, что говорят: самое тонкое место у льда в самом толстом месте. Но тем, кто знает столько о способах сломать и уничтожить, к чему ещё нужно присловье о тонком?
Присловьем живёт ученик, постигая мудрость учителя. Говорю вам, учителя разрушения, учите учеников ваших, что рвётся толстое! – ибо тонкое само порвёт и порежет учеников ваших.
Когда придумывали присловье “где тонко, там и рвётся”, – о, верившие в мудрость потомков создатели языка! – то забыли указать, что именно рвётся. Не тонкая ли тетива рвёт толстую руку неопытного лучника?
Но даже когда тончайшее рвётся, разве стоит забывать о вопросе: “зачем”?
Кто из вас настолько крепок руками, чтобы в одной из ладоней раздавить сырое яйцо? Посмотрите: всякий птенец ломает его изнутри. Зачем яйцо таково?
Кто из вас имеет настолько прочные когти, чтобы содрать ими толстейшую кору у основания дерева? Посмотрите: спящая почка, просыпаясь и превращаясь в побег, пронзает её изнутри. Зачем кора такова?
Были времена, когда говорил Заратустра: “Поистине, советую вам: уходите от меня и защищайтесь против Заратустры! И ещё того лучше: стыдитесь его! Может, он вас обманул”.
Но чтобы бежать от Заратустры, должно прежде самому стать побегом – тогда пронзишь кору его изнутри.
И чтобы улететь от Заратустры, должно прежде самому стать птенцом – тогда сломаешь яйцо его изнутри.
Итак, зачем же писанное мною таково? Затем, чтобы, разорвав белые нитки, разлететься на куски и рассыпаться в прах!”
Так писал Заратустра.
Об ошибках
Был некий человек, прочитавший написанное Заратустрой и сказавший:
“Я не поборник вечных истин и не противник тонких мест. Но вот, я нашёл у Заратустры три ошибки. Что с ними делать?”
“Что это за ошибки?” – спросил Заратустра.
“Вот первая из ошибок. В главе “Об отбросах” написано у тебя, что папоротники, умирая, оставляли по себе торф. А ведь они оставляли уголь. Должно быть, Заратустра плохо знает историю Земли”, – сказал человек.
“Заратустра тогда был ещё маленьким и мало что запомнил. Поэтому спасибо за сведения из первых рук”, – ответил Заратустра, нашёл в листах ошибку и исправил её. Затем сказал он:
“Бывают ошибки, которые ещё можно исправить. Не ошибками следует их называть, но попытками или пробами”.
“Что ж, вот вторая ошибка Заратустры. “В аптеке в очереди за презервативами”, писал ты, но разве презервативы продаются отдельно от прочего? Или очередь за ними стоит отдельная?” – сказал человек.
“А разве в товарные свойства презерватива входит несгибаемость?” – ответил Заратустра. Затем добавил:
“Две ошибки рядом – это много. До того рядом, что одну из них ты не заметил, и до того много, что, считая найденные тобой прочие, это половина всех ошибок. Но тогда две ошибки рядом – это не ошибки, а новый миф. Или, если тебе так удобно, анекдот”.
“Что ж, вот третья ошибка Заратустры. “Лёд, что в зимнюю стужу скалывают ломом с покрытых им дорожек”, – писал ты. И это ошибка стиля, ибо непонятно, чем же из двух покрыты дорожки”, – сказал человек.
Заратустра взял рукопись и нашёл в ней указанное место. И слова, сказанные на это Заратустрой, были словами искренней благодарности человеку.
Благодарности – ибо то была новая задача. Слова “покрытых им” ложились в ритм, и ломать его не следовало. Заменить ли лёд наледью, стужу холодом, а “им” – “ей”? Или же “покрытых им” на “оледеневших”?
И решив эту задачу, вставил Заратустра в рукопись нужное слово и сказал так:
“Я люблю свои ошибки за то, что они вовремя приходят и вовремя уходят. И я напишу об этом”. И написал так:
“Блаженны те, кто ошибся, ибо их есть путь к совершенствованию.
Блаженны укоряемые, ибо всякий укор станет им рукою помощи – и уже есть, имеющий уши да слышит.
Блаженны совершающие всякий раз одну ошибку, ибо не совершают вторую – признать первую поражением и крахом. Воистину, каждая их ошибка – новинка на рынке ошибок!
Некоторые слышали или читали об англичанине, развесившем свои шары. Теперь к его фамилии приставлены приставки, а где их нет – числа, и пишут её на ламповом стекле.
Чем же любопытны шары этого англичанина? Тем, что служили своего рода укоризной паровому котлу. Ибо стоило ему ошибиться в давлении, как шары поднимались либо опускались на стержне, давая отмашку: вот тебе, котёл, обратная связь!
Заратустра писал как-то, что живое – всего лишь движение. Он написал – а вы и поверили? О, нет! Живое – всего лишь обратные связи.
Посмотрите: найдётся ли в мире такое живое – да и просто живущее своей жизнью, – что не развесило бы, подобно англичанину, свои шары?
Воистину, даже отхожее место в городских квартирах развесило свои шары. Ибо сливной бачок его наполняет себя, когда пуст, и не наполняет, когда полон. Так бачок живёт своей жизнью.
Однажды ко мне пришёл человек и принёс с собой своё горе. “Люди меня не понимают, – сказал мне он, – ах, я такой тонкий и такой творческий, а люди этого не ценят”.
Вы скажете, тонкое создано делать выбор и отделять? Тончайшее создано управлять, скажете вы? О, сколь многим ещё не хватает собственной тонкости, чтобы различить чужую тонкость и чужую болезнь! Ибо человек этот спутал тонкость с болезнью и творчество с кашлем и отрыжкой.
Я пошёл за этим человеком в город, и следуя за ним по пятам, видел, как наступает он на ноги прохожим. Ибо человека поглотили его тонкость и творчество. И видел я, как он наступает на грабли и как бьётся он о придорожные столбы. Ибо поглощён он был тонкостью и творчеством.
И я, забежав вперёд, бросился к человеку и обнял его, ибо видел его насквозь и чуть жалел. И воскликнул я: “О, как я тебя понимаю!” И человек, не узнав меня, отшатнулся и испуганно пролепетал: “Ты тоже врёшь. Все всегда врут”.
Воистину, и для Заратустры умер этот человек. Ибо что есть смерть как не отсутствие обратной связи?
И вот какие надгробные слова сказал я ему: “Стань унитазным бачком и паровозным котлом. Стань им – и ты воскреснешь. Иначе пусть твоя закрытость будет тебе пухом”.
И вот какие надгробные слова пишет Заратустра своим мёртвым читателям:
Станьте, о, станьте сливными бачками! Станьте паровыми котлами! Замените слово “всегда” на слово “если-то” а слово “если-то” на слово: “Бди!” Замените слово “ошибка” на слово “проба” и слово “ругает” на слово ”сообщает”. Развесьте свои шары! Иначе – пусть ваш внутренний мир будет вам пухом”.
Так писал Заратустра.








