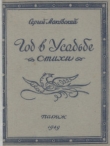Текст книги "Портреты современников"
Автор книги: Сергей Маковский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Как я упоминал уже, зиму 87 года мы провели в Ницце, на вилле d'Ormesson (угол бульвара Гамбетта и rue de France), отдав взамен на это время владельцу виллы, первому секретарю французского посольства графу д-Ормессону, свою петербургскую квартиру.
Отец только навещал нас, занятый окончанием «Выбора невесты» по заказу того же Шумана, который так доволен был «Боярским пиром», что задарил всех членов нашей семьи драгоценными сувенирами. Картину я видел в мастерской отца весною 1887 года. Она выставлялась в Академии и тоже вызвала восторги почитателей Константина Егоровича.
На вилле д-Ормессон я промаялся довольно долго в злейшей скарлатине (мне исполнилось девять лет). Мать боялась за исход болезни и выписала мужа. Я запомнил этот приезд отца и склоненное надо мной лицо его с таким горьким выражением, какого я никогда не видел прежде. Всегда бодрый и веселый папа, и вдруг чуть не плачет! К любовной встревоженности матери я давно привык, малейшее мое недомогание сводило ее с ума, но отца не слишком озабочивали мои детские хвори… А болел я много, особенно лихорадкой, схваченной еще в младенчестве на Кавказе.
Только оправился я от скарлатины, продолжая занимать отдельную комнату в верхнем этаже виллы д-Ормессон, как обрушилось на Средиземное побережье знаменитое землетрясение (к концу февраля, на утро последней ночи карнавала). Больше других городов пострадала Ментона, но задета была и Ницца. С месяц переживали мы всякие ужасы. Первое впечатление было так сильно, что врезалось в память до мельчайших подробностей…
Проснулся я от сильного толчка, и тотчас посыпались, наполняя комнату пылью, куски извести с треснувшего потолка. Широкая постель отодвинулась от стены и привскочила подо мной в два-три приема, а через несколько секунд донесся с улицы многоголосый вопль. Ничего не соображая, даже не испугавшись, так всё это было ново и непонятно, я выскочил из постели, подбежал к окну, раздвинул ставни и увидел зрелище, повергшее меня в изумление: по улице, только начинавшей светать, бежала сумасшедшая толпа: мужчины, женщины, дети, кое-кто в маскарадных домино, но больше в одном белье, иные и вовсе голые, неслись толкая друг друга куда глаза глядят и кричали, нет – выли, выли как звери, охваченные ужасом. Высокий пронзительный вой то замирал, то усиливался, и ему вторило что-то похожее на далекое угрожающее гудение. Тут я испугался и полетел кубарем в нижний этаж к матери…
Толчки, хоть и слабее, повторялись еще несколько раз. Ницца обезумела. Жители покидали дома, боялись комнат, устраивались на ночь в подвалах, в садах (какими в то время еще зеленели прибрежные кварталы), спали на скамьях вдоль бульваров и в извозчичьих каретах. В одну из первых ночей меня с сестрой и гувернанткой на ночевку отправили в фургон каких-то ярмарочных лицедеев на пустынном дворе, окруженном невысокими строениями. Было тесно за занавеской, – она отделяла нас от ютившихся рядом хозяев фургона, – но уютно, и всё дальнейшее переживалось нами, детьми, уже как увлекательное приключение.
Петергоф и «Смерть Иоанна Грозного».
Наступило лето, мы вернулись в Россию на дачу в Петергофе. Этот петергофский сезон, насколько я помню, был самым оживленно-светским нашим летом. Отец усердно работал у себя в мастерской, заканчивая «Выбор невесты» и несколько портретов, но часто навещал нас и был особенно в духе.
«За завтраком, – вспоминает сестра, – он развивал мысль, намерение свое написать картину: «Екатерина Великая у фонтана на празднике в Петергофе». Он никогда ее не написал, но вероятно его вдохновляли петергофские водометы. «В нашей детской, – добавляет сестра, вспоминая дачу в Петергофе, – и на веранде, завешанной густой зеленью, березы лезли в окна. По утрам веселая перекличка разнощиков, а на стене яркая олеография: итальянец в красном колпаке, вытянув губы, целует свою итальянку, да так убежденно! Более двадцати лет позже я съездила в Петергоф, уже будучи Frau Luksch, с братом Сергеем. Мы и дачу с садом разыскали и нашли с умилением итальянца на том же месте». Этого и я не забыл, конечно…
Знакомые петербуржцы наезжали к нам постоянно: Зиновьевы, Вольфы, Федосеевы, Фелейзен, генерал П. А. Черевин, гусары Молчанов и Воронов, кавалергард А.М. фон-Кауфман, Сабуров и сколько еще… Эти фамилии мало говорят теперь, но тогда носившие их петербуржцы составляли тот столичный круг, который можно назвать «околопридворным», и жили беззаботно в своих особняках, разъезжаясь весной по столичным пригородам, по заграничным водам и родовым поместьям. Отец в этом кругу чувствовал себя своим, хоть и не принадлежал к знати, а мать умела как никто обвораживать своим светским тактом. Домашние приемы, крокет, танцы, parties de plaisir, пикники, прогулки по парку «на серых» и, по вечерам, стояние в экипажах на «музыке», заменявшее поездки на петербургские весенние «Острова» – всё это шумно врывалось и в наши детские комнаты, в часы свободные от рисования, уроков и чтения книг, не всегда разрешенных старшими. Первые французские романы (входивших в моду Буржэ и Мопассана) я проглотил в Петергофе, хотя плохо понимал, о чем собственно в них речь. Нашей наставницей в то лето была пожилая вдова m-me Potelette. Она учила меня с сестрой иностранным языкам, но занята была больше великовозрастным сынком своим André и вскоре покинула нас. Для уроков русского приезжал брат Ильи Андреевича Черкасова, рыжий одутловатый студент, – его мы не любили.
Наступила осень. Опять Петербург, новая гувернантка – Алиса Штромберг; те же учебные предметы, но с прибавкой английского языка; дружба с детьми архитектора Васина и сестрами Ауэр, уроки танцев у Зиновьевых, игры в Александровском саду, рождественская елка, масленица, великопостные службы в «Уделах», вербное гулянье и пасхальная полночь около Исаакия – факелы, горящие высоко над храмом, празднично счастливая толпа и гулкий звон…
Зимой отец писал «Смерть Иоанна Грозного». Ни над одним холстом не работал он с таким упорством, много раз менял композицию, пытаясь выразить некий синтез русского исторического драматизма и живописной ярко-реалистической правды.
Перед тем он тщательно подготовился к выполнению замысла, изучая эпоху Грозного, прочел Карамзина, Соловьева, Ключевского, Забелина. Для царя, впавшего в агонию за игрой в шахматы, позировал старик, удивительно подходящий по типу; Годунов писался сначала с Коссаговского, затем с кн. М. М. Кантакузена; для Ирины Федоровны, жены Федора Иоанновича, позировала моя мать; для шута – как я сказал выше – Горбунов. Лицо Грозного, мертвенно-бледное с закатившимися, уже невидящими глазами, написано очень убедительно сильно.
Но сложная композиция, надо признать, несостоятельна: картина изображает не один, а ряд последовательных моментов события. Боярин над шахматным столиком у постели, где умирает (или уже умер?) Грозный, словно вот только заметил, что с царем худо, и шут не успел вскочить на ноги, а уж врач-чужеземец стоит на коленях перед царем, пытаясь пустить кровь из его повисшей бессильно руки, и слепая нянька, опираясь на клюку, подходит к царской кровати, и бредут из соседнего покоя монахи с зажженными свечами. Единство минуты нарушено, при реалистической трактовке сюжета – промах немаловажный. В свое время это и было отмечено критикой. Картину приобрел тот же С. П. Дервиз, одновременно с мифологическими панно, о которых я уже упомянул.
Крым и последний ПетербургЛето этого 88 года мы провели опять, в последний раз, в Каченовке, в том же обжитом нами левом крыле ее ампирного дома. У Тарновских всё было по-старому, но сама хозяйка, Софья Васильевна, начала заметно слабеть. Нашей очередной гувернанткой оказалась m-lle Marie, прескучная старая дева с причудами, неумная, но считавшая долгом посвящать детей в тайны мироздания: часами рассказывала, как умела, о звездных мирах и о существах бесконечно-малых в капле воды. Мы над ней посмеивались, но слушали внимательно. Тогда-то и зародилось мое влечение к естествознанию, я пропадал в пахучих лугах Каченовки, коллекционируя жуков и бабочек. Соня Тарновская к тому времени подросла и меня влекло к ее бледному, продолговатому, задумчивому лицу. Сестра Елена сочинила даже театральную пьеску ко дню моего рождения, – в ней Соне предстояло произнести чувствительный монолог по моему адресу. Спектакль готовился втайне от взрослых – для меня, единственного зрителя. Но тайна открылась, и пьеса вместе с монологом испарилась.
Помню еще, как мы зачитывались Тургеневым, пели хором под аккомпанимент Софьи Васильевны, ездили в соседнее имение к Скоропадским, к Кочубей и еще к кому-то.
Это лето окончилось раньше, чем обыкновенно. Мать взяла меня с собой в Крым. На осень в грозную бурю приплыли мы в Ялту из Севастополя. Из Ялты сейчас же двинулись в Гурзуф и остановились в Губонинской гостинице. Черное море не произвело на меня особого впечатления. Средиземное – оставалось куда роднее… Но «гурзуфским» Пушкиным я увлекался, повторял – «Шуми, шуми послушное ветрило», сидя с книгой под его кипарисом. Отец не приезжал.
В зиму 1888-89 года, последнюю зиму в России до семейной катастрофы, отец писал «Демона и Тамару» и следующую свою большую «боярскую» картину – «Убор невесты» (обе стали собственностью А. Г. Кузнецова). Для невесты позировала моя мать. Понадобился опять и «русский мальчик». Но я уже вырос для этой роли, заменил меня брат Владимир (на шесть лет моложе); он фигурирует на первом плане, слева, в этой незамысловато-цветистой, мало выразительной картине, хотя всё-таки она значительно лучше позднейших: «Поцелуйный обряд», «Хмелем посыпают», «Смерть Петрония» и несколько холстов поменьше – «Боярышня за пяльцами», «Берега кисельные, реки молочные». В них легковесная красивость кудреватого письма и узорная пышность аксессуаров преобладают уже всецело над художественным замыслом. Я видел на выставках эти «сочно» написанные жанры старевшего отца и огорчался…
Впрочем, бывали и удачи: написанный в 1912 году большой холст «Жмурки» (тоже пышный и цветистый боярский жанр).
С осени 88 года мать серьезно заболела, простудившись на возвратном пути из Крыма, недомогания в области брюшины перешли в тяжелый перитонит. Наша детская жизнь продолжалась по-прежнему, но дом опустел, приемы прекратились, приходили только близкие друзья, всё чаще озабоченно проскальзывали в спальню матери доктора. Она почти не вставала с кушетки, наконец слегла совсем, и перед домом маркиза Паулучи разостлали солому. Отец постоянно уезжал в Париж, где заканчивал после «Суда Париса» свою «Вакханалию», одну из наименее удавшихся ему картин, – приятен в ней только пейзажный фон с завитыми виноградом «развалинами» Каченовки; фигуры пляшущих полуобнаженных вакханок вокруг идола Силена нарисованы слабо, и уж никак не веют Элладой кокетливо улыбающиеся лица вакханок с Монмартра. «Вакханалия» была передана впоследствии моей матери, вместе с несколькими уцелевшими холстами отца, в обеспечение семьи по личному распоряжению Александра III; картина долго висела в моей петербургской квартире (за неимением другого места) вплоть до революции, когда была приобретена Фельтеном, а затем очутилась опять в Париже среди многих других картин отца, каким-то образом вывезенных из советской России; кажется и до сих пор находится она в мастерской мужа моей покойной полусестры, Марины Константиновны (от третьего брака отца) – Агабабовой.
Вторая НиццаВ начале июня 89 года больную мать врачи решили отправить в Киссинген; ее внесли на руках в железнодорожный вагон. Отец поехал с нами. Перемены в нем ни я, ни моя сестра еще не замечали, но уже тогда встреча его в Париже с молодой девицей М. А. Матавтиной (ставшей пятью годами позже его третьей женой) приобрела характер прочной связи.
Киссинген был очень оживленным курортом. Больные съезжались отовсюду, но встречались на «музыке» и попросту любители модных вод, и праздная международная знать; процветали теннис, крокет, volant. Семья Вильгельма II находилась поблизости; в самом городе, на отлете, в роскошной вилле доживал свою славу железный канцлер князь Отто фон Бисмарк. Его невысокая плотная фигура в сопровождении огромного серого дога мелькала часто в аллеях парка.
Наставницей моей сестры была упомянутая уже Р. Н. Манаева, служившая до того у последнего в роду гр. Чернышева компаньонкой его дочери Софи. Старый граф, приехав ненадолго, обворожил нас своей барственной простотой и любезностью; такими были, вероятно, иные вельможи в век Екатерины… Приезжали проведать мать, выздоравливавшую после грязевых ванн, и друзья из Петербурга; между ними самым неизменно-верным оставался А. П. Плетнев (родной сын «пушкинского» Петра Александровича Плетнева и Александры Васильевны, которой А. Ф. Кони посвятил несколько страниц в своей книге воспоминаний, а Тютчев, за год до смерти, свое удивительное стихотворение – «Чему бы жизнь нас ни учила», – старушка воспитывала своего внука лицеиста и умерла только в девяностые годы).
Мы с сестрой уже пользовались известной свободой, знакомились с однолетками-иностранцами и много рисовали, уходя с походными «плиянами» в глубину парка. Отец интересовался нашими этюдами с натуры и воодушевленно рассказывал об операх Вагнера в Байрейте, куда он съездил из Киссингена; ничто не предвещало, что так скоро он расстанется с нами навсегда.
В августе мы всей семьей двинулись дальше, сначала – в Saint-Jean de Luz (на границе Франции и Испании), затем – в Биарриц, где заняли виллу на скале, на самом берегу океана. День и ночь оглушительно шумели волны, бури были часты, свирепствовал северно-восточный ветер. Просторный пляж то пестрел разноцветными кабинками и весь жужжал толпой купающихся в часы отлива, то быстро сокращался, и дети с криком убегали от приближавшихся к набережной волн.
Замелькали опять знакомые петербуржцы; между ними выделялась исключительная красавица М. П. Бенардарки, к тому же и превосходная певица: она завораживала своим драматическим сопрано с глубокими контральтовыми нотами и фразировала в совершенстве (была ученицей тенора, поляка Жана Решкэ, блиставшего в парижской Большой Опере). Константин Егорович написал с нее несколько портретов (еще до Биаррица). С ней были две дочери-подростка – Мария и Елена (первая вышла замуж за кн. Радзивилла, вторая – за виконта де-Контад). Я ходил пить чай с ними в соседнюю кондитерскую: мне нравилась Елена, но Мария была красивее… Не так давно, в Париже, я зашел к кн. М. Д. Радзивилл; она одиноко доживала свой век разоренной эмигранткой, сильно располневшая, неузнаваемая, но сохранила кое-что из прежней обстановки: в спальне висел один из отцовских портретов Марии Павловны Бенардаки – небольшой, эскизный, самый удачный. Тогда в Биаррице отец написал ряд очень красивых пейзажей гвашью, заодно – и мой портрет и портрет сестры; и тот и другой оставались у него до смерти.
Но стряслась опять беда, мать снова простудилась, на этот раз подкосил плеврит. Знаменитый Сергей Петрович Боткин (уже больной, – мать была его последней пациенткой) считал возвращение в Россию опасным для нее и отправил нас опять на Средиземное море. Отцом была нанята в Ницце, – на углу бульвара Carabacel и засыпанного теперь, у впадения в море, потока Paillon, – квартира в вилле Франчинелли. Водворясь в ней надолго, мы отправились на лето в разные курорты Швейцарии и Северной Италии. Отца уже не было с нами, он только наезжал от времени до времени.
В первый же год Средиземного моря мать заболела повторным плевритом; образовался эксудат и постепенно заливал легкие. Положение казалось безнадежным, выкачивание серозной жидкости было делом необычным в то время – примитивной была антисептика, местные врачи от рискованной операции отказывались. К задыхающейся матери поспешила тетя Катя (Е. П. Султанова) и вызвала отца из Парижа. Он сейчас же приехал и пригласил к больной профессора по легочным болезням (из Кенигсберга), состоявшего при «чайном» богаче Кузнецове. В тот же вечер ее оперировали, и это спасло мать, можно сказать, – в последнюю минуту.
Выздоравливание длилось долго. К весне мы отправились в горы. Сначала – в Бруннен на Vierwaldstättersee, затем поднялись выше в Аксенштейн, где целыми днями больная мать лежала на солнце. «Отец пробыл некоторое время с нами», – рассказывает в своих мемуарах сестра Елена о случае, который и я не забыл. «Помнится мне «Луг» отца, весь цветущий, и другие этюды с натуры. Раз мы увязались за ним; он взял нас с собой! Залезли мы в самую гущу леса, где между соснами торчали мшистые камни. Облюбовав один такой, громадный, весь поросший мхом камень, за который уцепились корнями горные сосны, Константин Егорович сел на свой складной стул и тотчас принялся рисовать гвашью. Слева я примостилась, справа – Сережа. Мы работали молча, затаив дыхание; отец, по своей повадке, посвистывал. Жужжали мухи и комары. Покаюсь, я изредка бросала воровской взгляд на быстро оживавший лист отца. Кончили мы все одновременно. Я долго хранила этот памятный мне мой рисунок».
Из Аксенштейна – спуск на озеро Комо в Белладжио. Поправка матери шла медленно. Когда мы опять поднялись в горы на высоту 800 метров (Monte-Generoso), она была настолько слаба, что не могла ступить ни шагу; с помощью Р. Н. Минаевой я переносил ее на руках с места на место.
Зиму 90–91 года – снова Ницца в вилле Франчинелли. Отец наведывался еще реже и бывал явно озабочен чем-то, необщителен. Но вокруг нас вновь закружилась беспечная, веселая, русская «вся Ницца» с элегантной толпой на Promenade des Anglais, где почти все знали друг друга, с чаепитиями у Румпельмейера, с боями цветов, с буйно-красочным карнавалом под «президентством» П. А. Базилевского (впоследствии московского предводителя дворянства), со многими русскими друзьями и несколькими завсегдатаями из иностранцев. В той же вилле Франчинелли жили Салтыковы – генерал Александр Михайлович, вышедший в отставку после смерти Александра II, и две его дочери, очень дружные с моей матерью, Шура и Соня. Над нами жили Суханов и Дерфельден, адьютанты вел. кн. Николая Николаевича старшего, с женами. Вспоминается еще семья Плещеевых. Фигуру А. А. Плещеева вижу четко, он жил с отцом, поэтом, и сестрой, вышедшей замуж за бар. Сталя, адьютанта герц. Юрия Максимильяновича Лейхтенбергского. Помню также посетившую нас молодую чету Мережковских, княгиню Куракину (она рассказывала нам, детям, как изобрел ее дед любимую нами «гурьевскую кашу»), мать Марии Башкирцевой, генерала Гейне с женой, чету Козен. Портрет старика Козен мы с сестрой писали маслом, как заправские художники.
Каким-то из моих масленых портретов отец заинтересовался. Но я понимал, что выходило у меня плоховато. Отец взял палитру и в несколько минут, едва касаясь холста кистью, двумя-тремя мазками здесь и там, сразу оживил мою мазню; из плоского и раскосого лицо старика стало выпуклым и нарисованным правдиво и вдруг – удивительно похожим. «Нет, – подумал я, – не быть мне художником, папа куда лучше писал и в двенадцать лет». Мне шел уже четырнадцатый.
Среди ниццких русских, посещавших медленно выздоравливающую мать, отчетливо выделяется, на фоне виллы Франчинелли, фигура вел. кн. Николая Николаевича-старшего. Он часто заходил к своим адьютантам, жившим над нами, и приносил матери цветы. Не раз видел я его (в 1890 г.) в нашем садике, где пальмы чередовались с апельсинными деревцами, около нее, лежавшей перед домом в складных креслах. Он был уже стар тогда и неизлечимо болен, но всё еще строен и быстр; усы и раздвоенная борода с проседью, один глаз прикрыт черной повязкой.
Отец был близок с Николаем Николаевичем издавна, еще до своего второго брака. Великий князь любил и его и его живопись, заезжал к нему в мастерскую на Гагаринской запросто, без предупреждения. Когда отец объявил, что женился на юной Летковой, красавец в ту пору князь захотел познакомиться. Мать тут же вышла к нему; он ласково с ней поздоровался и сказал отцу: «Где вы, профессор, нашли такую удивительную?».
Но ярче всех запомнился наш друг из Болье, навещавший нас довольно часто, очаровательно веселый и непомерно тучный эмигрант старейшего призыва – Максим Максимович Ковалевский. С неподражаемым юмором рассказывал он о своей молодости, о скитаниях по белу свету и о платоническом своем романе с гениальным математиком Софией Ковалевской.
– Она непременно хотела, – повествовал Максим Максимович, тяжело дыша от астмы и захлебываясь от смеха, – чтобы я объяснился ей в любви, став на колени. Но и тогда я был толст и неловок… Каково было бы мое положение? На колени-то встану, а подняться и не могу. Так роман и кончился ничем. Да, по правде сказать, в ее увлечение мною я не так уж верил. Какой я Ромео? И София Васильевна была не Джюльета, а существо действительно одержимое страстью к математике. Бывало, в самый разгар романтической беседы замолчит, нахмурится и, не сказав ни слова, бежит стремглав домой: блеснула новая идея.
У М. М. Ковалевского и мы бывали в Болье, в его со всех сторон обросшей цветами вилле. Никогда не встречал я, кажется, человека более обаятельного и со всезнающим умом, и отзывчивым сердцем (уже в 1905 году я очень сблизился с ним, заведуя художественной частью в газете «Страна», которую недолго выпускал Максим Максимович).
Летом 91 года мы снова ездили на Комское озеро и лишь поздней осенью вернулись в Ниццу. Это была моя последняя зима заграницей. Мать уже настолько окрепла, что могла думать о возвращении на север, домой. Тогда был написан отцом в два сеанса и последний ее портрет (очень удавшийся) в большой черной шляпе. Я стал усердно готовиться к поступлению в Александровский лицей. Моим репетитором по русскому языку, латыни и математике оказался давнишний эмигрант по фамилии Алексеев, маленький, в огненно-рыжей бороде, очень знающий и приятный. Подготовил он меня настолько хорошо, что за целый лицейский год я мог не учить заданных уроков… Впрочем, занятия не мешали мне предаваться ниццким развлечениям: февральский карнавал этого года запомнился всего отчетливее.
Но больше всего увлекался я чтением, чтением «запретных» книг. На этот счет домашние правила были строгие. Мне уже разрешалось, однако, выходить из дому без всякого надзора. Не долго думая, я абонировался в ближайшей библиотеке и прочел залпом всё, что, казалось мне, раскрывает заповедную тайну любви, – забирался я в часы прогулок чаще всего на высокое кладбище с памятником Герцену над ниццким портом, в глушь какой-нибудь живописной дорожки по пути в Замок, с видом на море. Прочел я, например, вовсе «запретного» автора – Золя. Тогда, признаюсь, я ровно ничего не смыслил по существу в эротике, но всё казалось мне яснее ясного – и очарования «Нана», и прелюбодейства Ругон-Макаров.
В эту зиму мать, оправившаяся от плеврита и его последствий, заболела жестоким ишиасом и опять слегла. Отец продолжал навещать нас, ездил в Испанию, посылал оттуда письма. Но он становился хмур и как-то сконфуженно-неуверен. В последний приезд (весной 92 года) подолгу о чем-то совещался с матерью в ее спальне; голоса были необычайно тихи. Мы, дети, прислушивались, чуя недоброе, но никак не могли понять, что между ними происходит. Как-то утром я долго стоял у двери в спальню и, наконец, не выдержал, вошел. Мать лежала, вся обложенная подушками и думками, и взглядом укоризненно-строгим смотрела на мужа. Молчала. А он, сидя у постели в креслах, что-то бормотал, прикрывая глаза платком. Он плакал. Я тотчас повернул обратно, почувствовав, что случилось какое-то горе, но причины не угадывал.
Через день отец уехал, взволнованно простившись с нами. В последующие дни мать не казалась чрезмерно огорченной, она была убеждена, что он вернется. И на самом деле, как я узнал от нее гораздо позже, отец обещал вернуться. Он не вернулся.