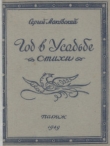Текст книги "Портреты современников"
Автор книги: Сергей Маковский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Творческий динамизм его обезоруживает. Трудно понять, как ухитрился он создать (и на заказ, и часто для себя, на память) этот рассеянный по миру портретный музей (часть его по всем вероятиям погибла в водовороте революции) – он, отдавший столько сил своим большим композициям и в то же время так полно пользовавшийся жизнью, постоянно путешествуя, охотно бывая в свете и устраивая у себя многолюдные приемы, посещая разные кружки (Художественный клуб, Мюссаровские понедельники и т. д.) и вдобавок чуть ли не ежедневно скитаясь по антикварам в поисках древностей русских и нерусских, на толкучке Александровского и Апраксина рынков.
Коллекционерство было всю жизнь его страстью, безостановочно покупал он «красивую старину» со вкусом знатока, но без особого разбора – и нужное и ненужное, и то, что могло пригодиться как аксессуар для исторической картины, и то, что просто «понравилось» своим изяществом, своеобразием или вычурой и что можно было куда-нибудь пристроить в жилых комнатах или в мастерских. Он собирал отечественную старину по преимуществу: сарафаны, душегрейки, шушуны, кокошники и кички, разубранные жемчужным плетением, поручни, ювелирные изделия с алмазами и стекляшками на разноцветной фольге, серьги, пуговицы, опахала, всякую настольную утварь из кости, меди, дутого и литого серебра с позолотой, финифтью и без украс, чарки, братины, солонки, блюда, подносы, хрусталь, фарфор, майолику, бронзу, подсвечники, канделябры, бра и шкатулки, ларцы и кружева, вышивки, бархат, атлас, парчу аршинами и кусочками, из которых делались подушки для диванов и скатертей на столики всех стилей, также – ковры и стенные ткани и всевозможные витринные безделушки: табакерки, образки с эмалью, флаконы для духов, замочки и шахматные фигуры… Обрывками старинных материй были набиты тяжелые комоды; в столовой в доме Паулучи во всю стену тянулся застекленный шкаф-витрина из черного дерева с витыми колонками, наполненный пестрой пышностью боярских веков. В комнатах находилось много и других, заграничных предметов минувшей роскоши, несколько ценных гобеленов и verdures и подвернувшихся по случаю за сходную цену высоченных ваз Императорского завода. Наконец, водворилась в зале мраморная статуя в натуральную величину Ставассера – «Нимфа и сатир» (с изъяном в мраморе, – статуя была повторена Ставассером), – ее с трудом втащили дюжие возчики на четвертый этаж нашей квартиры на Адмиралтейской набережной, и всё опасались, как бы под Нимфой не рухнул паркетный пол[5]5
Об этой группе Ставассера, еще в 1859 году, написал прочувствованные стихи А. Фет – «Нимфа и молодой сатир».
Постой хотя на миг! О камень или пеньТы можешь уязвить разутую ступень;Еще невинная, бежа от вакханалий,Готова уронить одну ты из сандалий.Но вот, косматые колена преклоня,Он у ноги твоей поймал конец ремня.Затянется теперь нескоро узел прочный:Сатир и молодой, – не отрок непорочный!Смотри, как, голову откинувши назад,Глядит он на тебя и пьет твой аромат,Как дышат негою уста его и взоры!Быть может, нехотя ты ищешь в нем опоры,А стройное твое бедро так горячоТеперь легло к нему на крепкое плечо.Нет! Мысль твоя чиста и воля неизменна;Улыбка у тебя насмешливо-надменна. —Но отчего, скажи, – в сознаньи ль красоты,Иль в утомленьи так неподвижна ты?Еще открытое, смежиться хочет око,И молодая грудь волнуется высоко.Иль страсть, горящая в сатире молодом,Пахнула и в тебя томительным огнем?
[Закрыть]. А рядом служила приемной так называемая «восточная комната», вся в коврах и тахтах, обставленная восточными раритетами, приобретенными отцом в Каире и у кавказских антикваров.
Непохожая на другие в Петербурге обстановка во вкусе всех Людовиков и Генрихов, вперемежку с Персией, Венецией, петровской Голландией, придавала особый колорит тому широкому, беспретенциозному гостеприимству, каким славился наш дом и каким ценили его и более или менее незаметные завсегдатаи, и представители музыки, театра, литературы, и друзья и знакомые из светского общества, до великих князей включительно.
В обстановке этого артистического уюта и благодаря исключительному такту и умению «принимать» матери, у нас встречались люди очень разных кругов, и никого это не смущало. Напротив, смешанность содействовала (в приемные «Вторники» матери, на раутах и вечерах с танцами и без танцев) общению какого-нибудь скромного по служебному положению любителя искусств с сановным бюрократом или отпрыском наследственной знати. Бывала у нас золотая молодежь – и штатская, и в гвардейских мундирах, – без которой танцевальным вечерам грозила бы вялость; бывали военные в генеральских погонах и превосходительные чиновники; бывали литераторы, художники, корифеи итальянской оперы и русские певцы и певицы, композиторы, музыканты, драматические артисты из Александрийского театра и французы из Михайловского; бывали очень светские дамы, говорившие с английским акцентом, и дамы попроще из чиновного и финансового мира… Но больше всего приходило друзей, горячо преданных и Юлии Павловне и Константину Егоровичу, всегда готовых делить с ними досуги. Дружеские отношения эти, возникавшие постоянно, крепли с годами и сообщали нашему дому характер сердечной спайки и праздничной непринужденности.
Помню из бывавших у нас художников – Шишкина, Ге, Лемоха, Брюллова, А. Соколова, Репина (писавшего портрет моей матери в черной шляпе); из певцов – Котони, Батистини, Маркони, баритонов Лассаля и Девойода, тенора Мержвинского, баритона Яковлева и баса Стравинского, чету Фигнер (долголетнего нашего друга, Николая Николаевича, и его жену Медею Мей), Славину, Фриде; из талантливых любительниц, помимо А. В. Панаевой – сестру ее Елену Валериановну Дягилеву с чудесным контральто (она была замужем за отцом С. П. Дягилева). Часто играл у нас скрипач Ауэр и виолончелисты Вержболович и Давыдов (большое впечатление произвело на меня исполнение последним, пианисткой Ментэр и Львом Ауэр трио Чайковского), и восхищал, ошеломлял вдохновенной бурей звуков Антон Рубинштейн.
Мать много рассказывала мне об Антоне Григорьевиче. Дружеские отношения с ним завязались прочно. С особым интересом она бывала у Рубинштейнов, на вечерах, где собирался цвет музыкального Петербурга. В свою очередь и он появлялся у нас и охотно садился за рояль перед любой аудиторией. Человек он был исключительно обаятельный, отзывчивый, по-детски добрый и, можно сказать, гипнотически притягивал к себе людей. Константин Егорович глубоко чтил его, хотя именно к живописи Рубинштейн относился более, чем равнодушно, – никаких выставок не посещал вовсе. Когда поклонники его музыкального гения, на одном из блистательных его концертов, поднесли ему картину Владимира Маковского, он искренне недоумевал: «Зачем это? Ведь я в живописи – круглый невежда».
Из драматических артистов приходил Сазонов, Давыдов, Варламов, неподражаемый рассказчик Горбунов; среди французов выделялись молодой, необыкновенно красивый Люсьен Гитри и Лина Мэнт; из композиторов-кучкистов остался верен семье Константина Маковского – Кюи. Но всех затмевал входивший в славу соперник их – П. И. Чайковский.
Из писателей часто заглядывал к нам (помню его еще в доме Менгдена) Иван Александрович Гончаров, незадолго до своей смерти. Он дружил с моей бабушкой Любовью Корнеевной и с тетей Сашенькой и особенно нравился ему верный слуга отца Алексеич (прослуживший у отца 38 лет). Гончаров, по словам матери, был стариком до нельзя приветливым и благожелательным. Не выносил только Тургенева, да еще как! Попросту ненавидел… По этому поводу вспоминается рассказ А. Ф. Кони, слышанный мною от него самого много раз: когда умер Тургенев, Кони находился на каких-то водах вместе с Гончаровым и, встретив его, первый сообщил ему о смерти нелюбимого Гончаровым писателя: «Пришла весть – Иван Сергеевич скончался». Гончаров махнул рукой и сказал, поморщась: «Притворяется!».
Бывал у нас нередко и смешивший своей рассеянностью высокий, длинноволосый Я. П. Полонский, и светский острослов Д. В. Григорович, и запальчиво-многоречивый П. Д. Боборыкин (в одном из своих ранних романов «Умереть уснуть» он описывает мастерскую отца, заодно и его самого с женой, выдуманно-эффектно по обыкновению). Свои стихи, никогда не появлявшиеся в печати, любил читать грузный А. Н. Апухтин, а к нам, детям, очень тепло относился ныне забытый поэт Величко. Из юристов назову Утина, кн. Урусова, Кони, Герарда, Андреевского, Нечаева.
Но из знаменитостей, в особенности тех, что позировали отцу, почему-то особое впечатление произвел на меня Айвазовский (в начале 80 годов) с его живописным черепом и белыми баками. Портрет его был написан в мастерской отца (еще в доме Менгдена) при таких обстоятельствах: в одно после-завтрака Айвазовский заехал навестить нас; отец предложил ему попозировать; он согласился, но под условием, что в то время, как будет писать его Константин Егорович, сам он напишет одну из своих излюбленных марин… И вот уселись они перед двумя мольбертами, взялись за палитры и кисти, работа закипела. Незаметно прошло часа два. В результате у отца осталось одно из бесчисленных «морей» Айвазовского с солнечным небом и лодкой, а маститый маринист получил свой портрет (поясной) за работой, очень удавшийся отцу; этот холст до сих пор находится в феодосийском Музее Айвазовского.
Хочется еще упомянуть об историке Костомарове; написанный отцом портрет его (1883 г.), не слишком удачный, перешел из нашей детской, где висел долго, в Русский Музей; о Джевецком, изобретателе первой подводной лодки, севшей на дно Невы после первого же пробного плавания, и о знаменитом Миклухе-Маклае, обретшем вторую родину в Новой Гвинее. Отец писал Миклуху в 1882 году, когда его по возвращении из Австралии чествовали в Петербурге. Между сеансами он завтракал с нами – невысокий, худой, рыжеватый, со строгим и добрым лицом, но патологически самомнительный после своих успехов в бухте Астролябии у дикарей, почитавших его за белого бога. Константин Егорович как-то предложил ему поехать в оперу и занять его место в партере. Подумав, Миклуха отказался: он не был согласен сидеть иначе, как один, в ложе…
Изредка устраивались у нас большие приемы, о них потом долго не умолкали толки в Петербурге. Два раза ставились оперные спектакли – наверху в отцовской мастерской, – она обращалась в театральный зал. Аркой в комнату рядом открывалась сцена, лишняя мебель куда-то пряталась, длинный коридор, мимо жилых комнат, из нашей столовой к «черному ходу» и лестница в мастерскую завешивались запасными бархатами и гобеленами, украшались зимними растениями и устилались коврами. Целую неделю перед тем дружно работали обойщики и плотники, весь домашний строй был нарушен; приходилось и нам, детворе, потесниться немного. Квартира была поместительна, но не слишком велика, а набивалось в нее человек полтораста, – выездные лакеи с шубами и ротондами загромождали парадную лестницу. Только благодаря распорядительности матери, заведывавшей всем устройством приема, порядок ни в чем не нарушался. Ее хватало на всё – на рассылку приглашений (чтобы никого не обидеть и соблюсти предуказанную помещением норму), на артистическую часть спектакля, на превращение мастерской в зрительный зал и на то, как разместить именитых гостей; среди них бывали – герцогиня З. Д. Лейхтенбергская с мужем, герцог Евгений Максимилианович и неизменно вел. кн. Владимир Александрович.
Хозяйка дома выступала и как певица на этих спектаклях. Помнится, я слушал ее в «Цыганских песнях», оперетке на сюжет Апухтина. Участвовали тогда Панаева, Дягилева, молоденькая Тилли Нувель, а из мужчин – обладавший красивым высоким баритоном кавалергард А. А. Стахович (впоследствии артист Московского Художественного театра), и лихо танцевала одна из красивейших петербургских дам – В. А. Афросимова (вторым браком за кн. Оболенским). Но всего удачнее, кажется, прошло в другой раз действие из «Аиды» в костюмах и декорациях, с Панаевой-Аидой и Мержвинским-Радамесом; Амнерис пела Е. В. Дягилева, а Константин Егорович превосходно справился с партией Амонастро. Тогда же исполнялся, в костюмах, знаменитый квартет из «Риголетто»: Маркони, Панаева, Дягилева и отец в роли Трибулэ. Вечер закончился живой картиной из «Боярского пира». «Аида» и «Боярский пир» имели такой успех, что спектакль был повторен в присутствии Александра III в особняке А. Н. Нарышкиной.
В период, начавшийся «Боярским пиром», в период больших композиций отца из древне-русского быта, в большой моде были его «живые картины», т. е. воспроизведение на эстраде или на театральных подмостках в «натуральном виде» того или другого холста, хотя бы только им задуманного. Впрочем, в подборе фигурантов о точном сходстве не было речи. Для своих станковых созданий отец пользовался всякими моделями – от великосветских дам и вельмож до конюха Ивана, если подойдет этот Иван своей красотой и статью. Случалось ему и «комбинировать» натуру, соединять двух, трех натурщиков в один тип. Для «живых картин» позировали подгримированные петербуржцы из общества, и эти маскарадные постановки грешили, думается мне теперь, любительством небезупречного вкуса. Зато костюмы из драгоценных коллекций отца были автентичны, и целый цветник светских красавиц восхищал зрителей. Отец ставил их не только у себя дома. Он любил эту бутафорскую забаву, порой и вдохновлялся ею, замышляя новое произведение. В кружках любителей художеств он слыл постановщиком блестящим и искал случая увидеть воочию то, что мерещилось его фантазии и казалось «живописной правдой». Так вспоминается ненаписанная им «живая картина» – завершившая один из спектаклей у нас в доме Паулучи. Раздвинут занавес – перед зрителями мастерская Рубенса; окруженный дамами избранного общества в костюмах эпохи – Рубенс (сам Константин Егорович) пишет портрет жены; позирует моя мать, стоя в стильной раме; на ней красный берет с белым пером, она такая, какой изображена на упомянутом мною первом ее портрете 83 года. «Живая картина» называлась – «Портрет жены художника».
Вас. И. Немирович-Данченко в газетной статье, появившейся лет двадцать тому назад, рассказывает: «В клубе художников мы виделись часто. К. Е. Маковский пользовался сценой клуба для задуманных картин. Так называемые «живые» здесь собирали лучшую публику столицы… Я помню, сколько раз Константин Егорович приходил с наброском и располагал участников этого немого спектакля; указывал, как должны были изображать то или другое задуманные им персонажи. Он наблюдал сочетание красок, соответствие лиц с декорациями»…
Воспоминание Немировича-Данченко красноречиво. Константин Егорович действительно представлял себе историческую картину как застывшую сцену, разыгранную подходящими по внешности актерами в одеяниях эпохи. К театральному эффекту сводил он, в значительной степени, изобразительное внушение, и весь замысел – к соединению более или менее гармоническому более или менее портретных подобий. Эти подобия зачастую позируют, но не живут; не возникают, как призрачные реальности, а принимают позы. Об исторической сути, пусть очень лично преображенной – сквозь видимость избранных типов, одежд и обстановочных предметов – он не слишком задумывался. В том различие его, я уже сказал, от таких мастеров, как Суриков или Репин, даже Ге, Поленов, Рябушкин и кое-кто из «мир-искусников». Различие, надо ли говорить, не в его пользу, с точки зрения психологического углубления.
Можно, конечно, не считаться с историческим психологизмом. У мастеров XVIII века, например, психологизм вовсе отсутствует. Мы привыкли ценить их за вдохновенность композиционных чар, красок, декоративного размаха и за соответствие архитектурному стилю эпохи. Они не стремились к историческому жанру… Но всё же реализм второй половины прошлого столетия не вычеркнешь из истории искусства, из истории русской живописи особливо; чем-то связан со всем культурным сознанием века этот исторический реализм. Театральное, «оперное» понимание истории, с подменой ее «живыми картинами» на полотне – грех существенный. Передовая критика начала века развенчала большие исторические картины отца, и если я говорю настойчиво о их «неправде», в связи с постановкой живых картин, восхищавших неискушенное в искусстве общество того времени, то чтобы пояснить, отчего изумительно одаренный Константин Маковский в конце концов пережил себя как исторический живописец, и всероссийская слава его померкла к концу жизни,
Забытый Париж и импрессионистыВ 1885 году, весною, я очутился впервые заграницей – с матерью, сестрой, младшим братом, Татинькой и гувернанткой. Заранее была нанята квартира на Avenue Montaigne. Но тотчас же по приезде сестра заболела скарлатиной, и мать, спасая меня с братом от заразы, переехала с нами в Пасси, оставив больную сестру на попечении Татиньки. Когда сестра поправилась, ее и брата Татинька увезла обратно, на дачу под Петербургом. Да и мать со мною вскоре вернулась в Россию. А в следующем году я опять очутился заграницей с нею и приставленной ко мне швейцаркой Susanne Stürcler, очень порядочной и милой. Я многим ей обязан. Кстати сказать, это она приохотила меня к французской поэзии, любимцами ее были Франсуа Коппе и Гюго. До того мы с сестрой упивались русскими классиками, – особенно, когда вслух читала мать, а мы, слушая, даже всплакнем бывало, не столько, думаю, от стихов, сколько от проникновенно-драматического ее чтения – до конца дней своих она обладала этим даром. Любимым поэтом ее был Лермонтов. Отец предпочитал Пушкина.
После Парижа поехали мы сперва в швейцарский курорт Bex-les-Bains. Влюбился я там в девочку-голландку – беззаветно, как влюбляются в восемь лет: я передавал ей тайком французские стихи. Пробовал сам сочинять, ничего не выходило. Тогда я старательно переписал: «Si tu m'aimais, si hombre de ma vie»… слова романса Тости, что пела моя мать. Вспоминается и «дебют» мой тем же летом в Интерлакене, на одной из прогулок с друзьями в горы; за чаепитием в каком-то ресторанчике поставили меня на стол и я с пафосом декламировал «l'Epave» Коппе.
Но ярче всего и как-то сразу запечатлелся Париж, «старый» Париж. Как мало похож на него теперешний! Каким он был тогда веселым, приветливым и красочно-шумным. С утра – проснешься, улица гудит-звенит бубенцами. Бесконечной лентой тянутся повозки со всякой живностью, запряженные откормленными першеронами, высокие двухэтажные омнибусы четвериком, извозчики в одну лошадь вперемежку с парными викториями… Каждая упряжка издает свой музыкальный звук, и ритм их отвечает ходу лошадей: звоны то четко прерывны, то льются сплошным дребезжащим теньканьем, и с этим гудом смешаны цоканье копыт, щолк бичей и покрикиванье возниц, громкие зазывы продавцов, предлагающих товары – все по-разному, с пением и прибаутками, выклики газетных разнощиков, визг школьников, голоса, голоса… Всякий раз позже, когда я попадал в Париж, – до того, как загудели в нем автомобили, – обвораживало меня это бубенчатое журчанье и этот уличный гомон, беззаботный и манящий, утверждающий радостную явь жизни.
В год моего «первого» Парижа умер Виктор Гюго. Город шумно переживал его смерть. Под фанфары военных труб, под грохот пушек и барабанов потоком лилось погребальное шествие. «Ohé, Victor Hugo est mort!»[6]6
«Слушайте, Виктор Гюго умер!»
[Закрыть], кричали мальчуганы на Елисейских Полях… Очередная гувернантка поднесла мне книги поэта, впервые увлекся я героями «Великой революции» (по «Quatrevingt-treize») и «Собором Парижской Богоматери». Огромное впечатление от романа Гюго еще усилила танцовщица Цукки в роли Эсмеральды: первое мое балетное увлечение.
С тех пор попадал я в столицу Франции в 86, 87, 88 и 89 году, проездом в Ниццу или из Ниццы, и восхищение Парижем по мере моего созревания только росло. Одиннадцатилетним и двенадцатилетним мальчиком я проводил долгие часы в Лувре, научился ценить ансамбли Османа, широкие перспективы, звезчатые площади города и его королевские окрестности. В то время он был и меньше по своей протяженности, но и куда больше, так как не только метро – и трамваев не было, а извозчики и омнибусы плелись рысцой и останавливались при всяком удобном случае. Даже «бициклов» не существовало, появились лишь первые велосипеды с огромным передним колесом и малюсеньким за ним, – любители вскакивали сзади, на ходу. Собственно город кончался Триумфальной аркой; Пасси, Отей, Нейи считались пригородами. Разрушенное недавно здание Трокадеро уже стояло, но Эйфелева башня выросла на моих глазах в год Всемирной выставки (1889).
На Елисейских Полях (до Rond-Point, приблизительно) ежедневно прогуливался «весь Париж», дамы еще в турнюрах щеголяли ненужными крошечными зонтиками, и чопорно раскланивались с ними кавалеры – снимали свои «Gibus à huit reflets» и медленно опускали до земли широким полукругом. Элегантные выезды – кучера в белых лосинах и маленькие грумы рядом, «тигры», как их называли, – следовали один за другим. В иных, с букетом цветов на коленях, раскидисто сидели прекрасные «камелии» и, чувствуя на себе общее внимание, рассеянно оглядывали встречных мужчин, никому не кланяясь. Амазонки в цилиндрах с длинной вуалью и всадники вереницами гарцовали по боковым песочным дорожкам… Словом, совсем так, как описывал еще Оноре де Бальзак.
Но детским моим упоением был сад в Tuileries. Однажды мы остановились в гостинице напротив, на улице Риволи. Местным тюльерийским «гиньолем» мы с сестрой не могли насладиться досыта, а когда гувернантка отпрашивалась по своим делам и сестры с нами не было, разрешалось мне одному переходить улицу и развлекаться у тюльерийского круглого водоема. Как и нынче, здесь процветал любимый спорт мальчиков, ровесников моих: пускание парусных корабликов по глади игрушечного моря. У меня было их несколько и один затейливый, трехмачтовый, совсем как настоящий – тонко сработанные снасти, каюты, пушки, матросики. Каким волнующим гонкам предавался я с моими случайными приятелями! И мерещились мне долгие плавания, когда я следил за парусами моего суденышка, вспоминая прочитанные книги Жюль-Верна о странствиях в неведомых морях. Страсть моя к путешествиям – с этих пор. Все годы, до Первой мировой войны, при всякой возможности я куда-нибудь уезжал без определенной цели, посетил многие места в Европе, Азии, Африке, Америке (хотя так и не довелось обернуться вокруг света).
Константина Егоровича в Париже я видел только урывками. Работы у него было много в России, пребывания наши заграницей не всегда совпадали. Мастерскую на бульваре Клиши, бывшую В. Верещагина (с кружащимися по солнцу стенами, чтобы не менялось освещение) помню куда хуже, чем петербургскую – на Адмиралтейской набережной.
Почему-то всего ярче вспыхивает на фоне этого далекого Парижа приезд отца в год, когда поразила всех выставка непринятых Салоном «des Artistes Français» импрессионистов. Париж долго не признавал ни Манэ, ни Монэ, ни Ренуара, ни Сизлея, ни Писсарро, не говоря уж о Гогэне, Ван-Гоге, Сезанне. Последнего избранная публика оценила впервые лишь на Осеннем Салоне 1906 года.
Удивительно запоминаются в детстве некоторые речи взрослых. Как далек я был тогда от мысли, что именно «новая» французская живопись возымеет решающее влияние на мои художественно-критические воззрения, и вот всё-таки запомнился спор отца, посетившего эту отдельную выставку импрессионистов, с кем-то из постоянных наших посетителей. Он уверял, что всё же у этих отщепенцев, смутьянов, отвергнутых блюстителями доброго вкуса, много интересной новизны: «Какие живые краски, сколько воздуха и света в их небрежно намалеванных полотнах!».
Импрессионисты несомненно повлияли на колорит отца и на позднейшую манеру его письма. Он почувствовал, один из первых среди русских художников, – почувствовал, хотя и не понял, – правду глашатаев импрессионизма, соблазны их светлых гамм, красочных переливов и эскизной легкости, их пристрастье к натюрморту с фруктами и цветами и такое языческое прославление женского тела. В своих наиболее удачных этюдах он как бы примыкает к ним, ищет солнечной прозрачности, хочет как можно дальше уйти от тяжелой несвободы академизма. Иные пейзажные этюды (особенно те, что написаны в Биаррице в 89 году), если смотреть на них без предвзятости, можно принять за какого-нибудь Будэна, столько в них непосредственной меткости и радостного динамизма. Если бы он пошел по этому пути природолюбия, без уступок отечественной или иностранной живописной «музейности» и не впадая в приторную манерность, он сделался бы очень большим мастером.
Но, разумеется, лишь ненароком достигал он того, что стало каноном для «новых» французов и для всех более или менее самостоятельных их выучеников. Импрессионистское видение, перенесенное на холст, он считал только предварительным подмалевком; когда дело доходило до картинного изображения, все плохие навыки, все академические привычки, снова брали верх, и самое ремесло страдало от этого.
Пороки этого ремесла верно отметил (в «Аполлоне», 1915 г., октябрь-ноябрь) Всеволод Дмитриев. Он говорит о масляной технике Константина Егоровича, что она зачастую сводится к «ненужным попыткам кистью воссоздавать карандашную технику», – о «ретушерских его приемах, об отталкивании его от чистого цвета… Колера становятся замешаны на белилах, потому – со свинцовым налетом (следствие пройденной в юности учобы у Зарянко и Тропинина, а также увлечения Перовым)»… «Эти московские влияния, – продолжает Дмитриев, – характерно перекрещиваются в развитии Маковского с деспотическим влиянием Брюллова, что позволяло сближать его дальнейшее творчество с брюлловскими эпигонами – Семирадским и Верещагиным».
Что касается до больших картин отца с историческим, литературным или мифологическим содержанием, то тут вдобавок не хватало ему ни вдумчивого терпения, ни творческого, преображающего воображения., Лучшее в этих картинах – это те же портреты, как, например, портрет кн. Вяземского в «Боярском пире» или портрет И. Ф. Горбунова в обличии шута в «Смерти Иоанна Грозного».
Рядом особенно неудачными кажутся декоративные панно, написанные по заказу Сергея Павловича фон-Дервиза для петербургского его особняка (были исполнены за 88–90 годы). Мне сдается, что сам художник сознавал свою неудачу: ни одного из этих панно (аллегории искусства, живописи, скульптуры, музыки и т. д.), сдавая заказ, он не подписал. Лет двадцать тому некоторые из них продавались за бесценок в Париже, подписи автора ни на одном я не нашел.