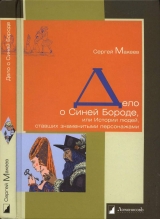
Текст книги "Дело о Синей Бороде, или Истории людей, ставших знаменитыми персонажами"
Автор книги: Сергей Макеев
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
Робинзон или Мюнхгаузен?
7 августа 1803 года «Надежда» и «Нева» вышли из Кронштадта в первое в истории русского флота кругосветное плавание. Перед экспедицией стояло несколько важнейших задач – военных, политических, экономических, научных. Но в памяти потомков остался в основном подвиг русских мореходов, совершивших кругосветное путешествие.
В связи с тем, что экспедиция должна была доставить посольство в Японию и необходимые грузы колонистам Русской Америки, заходы в порты и время стоянок следовало свести к минимуму. Однако в силу разных причин плаванье, и без того изнурительное, сильно затягивалось. Вынужденное безделье и эксцентричный характер Федора Толстого сделали его сущим наказанием для всей экспедиции. Как вспоминала его родственница, он «перессорил всех офицеров и матросов, да как перессорил! Хоть сейчас же на ножи!». Выходки Толстого, если верить рассказам о нем, приобрели какой-то дикий, необузданный характер.
Рассказывают, что корабельный священник отец Гедеон был слаб на вино. Федор напоил его так, что батюшка уснул на палубе. Тогда озорник стянул у капитана печать и припечатал поповскую бороду к палубе. Когда же батюшка проспался и захотел встать, Федор прикрикнул:
– Лежи! Видишь, государева печать!
– Помоги, Феодор! – взмолился поп.
– Как? Разве что бороду укоротить… – усмехнулся Толстой.
– Режь! – вздохнул Гедеон.
Сказано – сделано: была борода, стала бороденка.
На острове Нукагива в Тихом океане корабль посетил туземный король. Федор издевался над ним, бросая палку в море с криком «Апорт!», и монарх, рассчитывая на вознаграждение, послушно приносил палку.
На корабле была сообразительная обезьяна, и Федор Толстой учил ее разным штукам. Однажды он привел ее в каюту Крузенштерна, положил лист бумаги поверх записей капитана и начал марать лист чернилами. Потом убрал измазанный лист и вручил чернильницу обезьяне. Она тут же повторила действия человека. Записи капитана оказались испорченными.
Крузенштерн сразу догадался, кто виновник этой проделки. Он долго терпел выходки Толстого, но теперь не выдержал и высадил Федора на одном из островов у берегов Америки с небольшим запасом провианта.
Утверждали, что с ним увязалась и обезьяна, которая будто бы была ему больше чем подругой. По другим рассказам, оказавшись на острове, новоявленный Робинзон ее съел.
На этом острове жили, естественно, дикари. Сначала они будто бы решили гостя зажарить и съесть, но потом передумали и провозгласили своим царем. Там Федор Толстой изукрасил все тело татуировкой по местной моде. Впоследствии он всегда с удовольствием показывал всем желающим татуировку на руках и груди, а если просили показать всю картину в целом, никогда не отказывал – желающие удалялись в отдельную комнату, где Американец демонстрировал наглядные доказательства своего прозвища.
Однажды новый Робинзон заметил вдали корабль, зажег костер и тем привлек к себе внимание моряков. На этом корабле он перебрался на Камчатку, оттуда на материк и через всю Расею-матушку – где на оленях, где на лошадях, а где и пешком – добрался до Санкт-Петербурга. В это самое время будто бы в столице устроили пышный бал в честь завершения кругосветной экспедиции, и Толстой явился туда в каком-то диком наряде поздравить благодетеля Крузенштерна. По другим рассказам, Толстого-Американца задержали на заставе и сразу отправили в крепость, так как жалобы на него достигли уже столицы…
Эти байки о Толстом-Американце и сегодня кочуют по страницам периодики, появляются порой и в серьезных изданиях. А творил легенды о себе сам Толстой, его друзья и близкие разносили их по гостиным Москвы и Санкт-Петербурга. Одиссея Американца обрастала все новыми сюжетами и интригующими подробностями.
Но в этих фантазиях графа был и тайный умысел. Некоторые стороны знаменитого похода до сих пор известны немногим. Было что скрывать и Крузенштерну с Лисянским, и Федору Толстому.
Что скрывал Американец
Дело в том, что экспедиция снаряжалась по инициативе Русской Американской компании, крупнейшим акционером которой был сам император Александр I, поэтому государство предоставило и корабли и деньги. А камергер Резанов ко всему прочему являлся одним из директоров компании. Экспедиция должна была доставить в русские владения необходимые грузы, а оттуда забрать пушнину. Дипломатическая и административная миссии Резанова, его высокий чин (камергер приравнивался к действительному статскому советнику, а по военной табели – к генералу) ставили его в исключительное положение. Поэтому камергеру поручалось общее политическое и экономическое руководство экспедицией, а отчасти – и морское, например, решения о заходах в порты капитаны должны были решать совместно с Резановым. Полномочия Резанова за подписью императора были предъявлены Крузенштерну еще на кронштадтском рейде, однако капитан скрыл это от своих офицеров.
Неловкое положение Крузенштерна и Лисянского можно понять: «Надежда» и «Нева» были военными кораблями и шли они под Андреевскими флагами, на судах действовал военно-морской устав, согласно которому вся полнота власти на борту принадлежит капитану. Это верно лишь отчасти: согласно уставу, когда на корабль прибывает командующий флотом, верховная власть переходит к нему. Но Крузенштерн, по-видимому, считал унизительным для себя делить власть с сухопутным начальником. Вдобавок и капитан Лисянский ревновал к своему начальнику – Крузенштерну. Правда, оба капитана дружно объединялись против Резанова.
Резанов долго не вмешивался в дела капитанов, пока не вскрылись серьезные недостатки подготовки и командования экспедицией.
У берегов Бразилии оказалось, что на «Неве» необходимо заменить две мачты. Впоследствии и на «Надежде» приходилось устранять течи. Эти суда были приобретены Лисянским в Англии как довольно свежие, построенные два года назад. Но встреченные французские моряки опознали в «Надежде» и «Неве» гораздо более старые английские шлюпы «Леандра» и «Темза», вдобавок побывавшие в плену у французов. Лисянский отказался дать Резанову объяснения по этому поводу. Замена мачт на «Неве» заняла почти полтора месяца, были и другие вынужденные остановки. В результате миссия Резанова в Японию и в русские владения в Америке задерживалась. Ну а кому могло понравиться, если офицеры бывали настолько пьяны, что Крузенштерну приходилось самому вставать к штурвалу? В общем, Резанов считал, что экспедиция под угрозой. Но Крузенштерн отвечал на претензии Резанова своеобразно – притеснением не только его, но и спутников камергера, вплоть до запрета выходить из своих кают. Каково это было перенести в южных широтах, при скудном и однообразном питании! Резанов находился в напряженном ожидании новых бед, нервы начали сдавать, в каюте камергера постоянно находился кто-нибудь из его свиты.
«Благовоспитанная особа» Федор Толстой предал своего непосредственного начальника, принял сторону Крузенштерна и больше всех публично поносил Резанова. Не Толстой «перессорил всех офицеров и матросов», он только с жаром вмешался в драматический конфликт. То была его стихия! Вообще из всех офицеров экспедиции только лейтенант Головачев и штурман Каменщиков заступались за камергера. Кульминация наступила у Гавайских островов. Капитан и офицеры потребовали, чтобы Резанов явился на своего рода суд и предъявил свои полномочия руководителя экспедиции. Камергер поначалу отказывался. Федор Толстой порывался бежать в каюту Резанова, чтобы притащить его силой, но буяна удержали. Наконец Николай Петрович вышел к офицерам и зачитал инструкции императора. Ему и тут не поверили: императору, мол, что ни подсунут, он все подпишет! Посыпались оскорбления и угрозы. Это смахивало на мятеж.
Резанов больше не покидал своей каюты до самого порта Петропавловска-на-Камчатке. Там он сразу обратился к губернатору. Состоялось разбирательство, Крузенштерн признал свою вину. Оба капитана и офицеры явились к Резанову с извинениями. И камергер всех простил – исключительно в целях завершения экспедиции. Простил даже Толстого, но сам Крузенштерн «сдал» своего сторонника, ссадил на берег и отослал домой сухим путем. Н. П. Резанов писал Александру I: «…причиною была единая ревность к славе, ослепившая умы всех до того, что казалось, что один у другого оную отъемлет. Сим энтузиазмом, к несчастию своему, воспользовался подпоручик граф Толстой по молодости лет его… Обращая его к месту своему, всеподданнейше прошу Всемилостивейшего ему прощения…»
Вместе с Толстым сошли на берег еще двое путешественников из свиты Резанова – живописец Курляндцев и доктор ботаники и медицины Брыкин, они уже так натерпелись, что не верили в «исправление» Крузенштерна и его команды. Еще в самом начале конфликта доктор Брыкин писал другу: «После тех наглостей, которые сделаны капитаном Крузенштерном Николаю Резанову и которые я не намерен вам описывать, потому что вы и без того их узнаете, должно опасаться нам, которые придерживаются законной стороны…» Возвращались Курляндцев и Брыкин, разумеется, отдельно от Толстого.
Затем Резанов на «Надежде» отправился в Японию, а после окончания переговоров отпустил суда в дальнейший путь. Сам же отправился к берегам Америки, где задержался надолго по делам Русской Американской компании. Ему пришлось буквально спасать поселенцев от голода, налаживать снабжение всем необходимым. Для этого он купил у американцев корабль «Юнона» и на нем отплыл в Калифорнию. Там и произошла романтическая история, послужившая основой для рок-оперы «„Юнона“ и „Авось“». Впрочем, подлинные приключения командора Резанова далеки от сценической версии и заслуживают отдельного рассказа.
Он возвращался в Санкт-Петербург посуху. В столице Резанова ожидали графский титул, возвышение… Но еще в Сибири силы оставили его, он заболел и умер.
Кругосветное путешествие продолжалось. Резанов простил всех. А простили ли его? Офицеры буквально затравили лейтенанта Головачева, защищавшего законного руководителя экспедиции. Он застрелился у себя в каюте, завещав передать свой портрет Н. П. Резанову со словами: «Он будет знать, для чего я это делаю».
Первое кругосветное плаванье завершилось триумфально. Крузенштерн и Лисянский были увенчаны заслуженной славой. Н. П. Резанов навсегда упокоился на кладбище в Красноярске. Наш Робинзон явился в Санкт-Петербург гораздо раньше «Надежды» и «Невы», если не с комфортом, то без особых лишений. В Сибири его видели в исправном виде, в гвардейском Преображенском мундире. Уже там он поразил слушателей своими фантастическими рассказами. А в столице напустил еще больше туману. Собственно, установленной истиной является лишь его плаванье на «Надежде». Татуировку ему сделал на острове Нукагива местный татуировщик – он два дня без устали трудился на «Надежде», нашлось много желающих запечатлеть на себе экзотические узоры. Но Толстой, по словам знакомого, «во всем любил одни крайности. Все, что делали другие, он делал вдесятеро сильнее». Поэтому он велел татуировать все тело. Проделки с отцом Гедеоном не было, потому что священник пребывал постоянно на «Неве», а на флагман являлся всего пару раз и ненадолго. Кстати, капитан «Невы» Лисянский притеснял Гедеона так же, как Крузенштерн – Резанова. «Капитан Ю. Ф. Лисянский и мичман В. Н. Берх – люди нрава беспокойного, – писал о. Гедеон, – много мне причиняли обид, от коих лекарством моим было великодушное терпение». И далее перечислял оскорбления и богохульства, «многократное воспрещение в воскресные и господские праздники отправлять службу Божию…». Что довольно странно для командира, флотского офицера да к тому же сына нежинского протоиерея Лисянского…
История с обезьяной особенно будоражила воображение современников. Есть много людей, которые «ради красного словца не пожалеют мать-отца». Но Толстой являлся редкостным типом, который с удовольствием злословил и о себе самом. В его чудовищную развращенность верили. Верил Пушкин, когда писал в эпиграмме на Толстого: «Развратом изумил четыре части света». Верили даже родственники. Лев Толстой в «Войне и мире» наделил Долохова некоторыми чертами Американца, и в раннем варианте романа этот персонаж признается Анатолю Куракину: «Я, брат, обезьяну любил: все то же…» О связи Американца с обезьяной писали сыновья Льва Толстого, Илья и Сергей, правда, с оговоркой «говорят, что…». В действительности, думается, отношения Американца с обезьяной не зашли дальше проделки с бумагами Крузенштерна.
Много передавалось рассказов о том, как Толстого задерживали на заставе столицы, как его разжаловали в солдаты или переводили в гарнизоны крепостей. Однако по документам служба графа проходила гладко, его повышали в чинах вплоть до отставки по собственному прошению. Хотя не исключено, что Толстого временно командировали в другие полки или гарнизоны, в его же интересах – пока не уляжется очередной скандал. Вот и свою кругосветку Толстой завершил в том же чине, в каком начал. Только с прозвищем Американец.
Кому война, а кому мать родна
Людям неспокойным, мятущимся натурам необходимо дело, которое захватило бы их всецело. Таким делом для Толстого была война. Как раз в это время началась война со Швецией, которая была лишь эпизодом большой общеевропейской войны. Неизвестно каким образом, но Американец оказался адъютантом у князя М. П. Долгорукова, командующего Сердобским отрядом. Князь знал Толстого и прежде, поэтому называл его просто Федей. Отношения между ними установились почти приятельские. Толстой, конечно, выполнял необходимые штабные обязанности, но иногда участвовал в боях и вылазках.
15 октября 1808 года Долгоруков приказал Толстому с отрядом казаков захватить мост и завязать со шведами перестрелку до подхода основных сил. Операция прошла блестяще.
В тот же день Долгоруков был убит вражеским ядром. Он стоял буквально в нескольких шагах от Толстого. Адъютант с другими офицерами отнесли его на руках с поля боя. Толстой поклялся не смывать кровь командира и друга со своего мундира.
Он продолжил воевать в составе своего Преображенского полка. Однажды его послали в разведку. Он исследовал пролив Иваркен и нашел удобный проход для корпуса Барклая де Толли, в результате чего была одержана крупная победа. За военные заслуги в этой кампании Толстой был награжден орденами Св. Владимира с бантом и Георгиевским крестом 4-й степени.
Но как только кампания закончилась и полк ушел на зимние квартиры, опять начались попойки, карты и дуэли. Современникам особенно запомнились две, последовавшие одна за другой, – с капитаном генерального штаба Бруновым и с молодым прапорщиком Александром Нарышкиным, между прочим, сыном обер-церемониймейстера.
Чаще всему виною был язык Толстого, злой и несдержанный. Казалось, острое словцо вылетало из него, как пуля, минуя сознание. Так, он сболтнул какую-то пошлость о сестре Брунова. Они стрелялись, Брунов погиб.
Вскоре играли в карты. Толстой держал банк. Прикупая карту, Нарышкин попросил туза. «Изволь!» – воскликнул Толстой и, обнажив руку по локоть, показал ему кулак. Тогда кулак называли иногда тузом, отсюда выражение «тузить», то есть бить. Тотчас последовал вызов. Офицеры пытались их примирить, даже сам Толстой извинился перед Нарышкиным. Но юноша ответил: «Будь на его месте другой, я бы согласился. Но он привык властвовать страхом. Надобно драться». Уже встав к барьеру, юноша сказал: «Знай, что, если не попадешь, я убью тебя, приставив пистолет ко лбу!» – «Когда так, так вот тебе!» Толстой выстрелил и попал в бок Нарышкину (другие говорят, что в пах). Рана была смертельной, Нарышкин умер.
Опять пошли толки, что Толстой заточен в крепость, потом разжалован в рядовые. Никаких подтверждений тому нет. Доподлинно известно только, что гвардии капитан Ф. И. Толстой попросился в отставку и 12 октября 1811 года был «уволен от службы», правда, без чина и мундира.
Но скоро грянула «гроза двенадцатого года», и Толстой вступил в московское ополчение. Почти сразу оказался он на Бородинском поле. Тут много неясного. Даже близкие друзья писали, что он «надел солдатскую шинель, ходил с рядовыми на бой с неприятелем и получил Георгиевский крест 4-й степени». Впоследствии в застольных куплетах его воспевали так:
А вот и наш Американец!
В день славный под Бородиным
Ты храбро нес солдатский ранец
И щеголял штыком своим.
То есть Толстой изображался как рядовой пехотинец. Герой куплета сидел тут же за столом и не возражал. Так он творил еше одну легенду о себе: разжалованный и лишенный всех чинов рядовой ополченец в считанные месяцы дослужился до полковника.
Что в бой ходил – в том спору нету. Но не слишком ли большая роскошь – зачислять храброго и заслуженного капитана рядовым пехотинцем? На самом деле Толстой был принят командиром батальона 1-го Егерского полка Московской Земской силы в чине подполковника. Полк сразу отправился на Бородинское поле, где вошел в корпус Н. Н. Раевского.
Все разночтения о чинах Толстого и названиях полков объясняются просто: в Бородинской битве офицеры гибли сотнями; уцелевших назначали в другие полки, на месте повышали в должностях (но не в чинах – чины и награды догоняли героев много месяцев спустя). Героем показал себя и Толстой. Н. Н. Раевский писал о нем М. И. Кутузову вскоре после сражения: «Командуя баталионом, отличною своею храбростью поощрял своих подчиненных, когда же при атаке неприятеля на наш редут ранен Ладожского полка шеф полковник Савоини, то вступя в командование полка, бросался неоднократно с оным в штыки и тем содействовал в истреблении неприятельских колонн, причем ранен пулею в ногу». Раевский просил для Толстого чина полковника. Командующий ополчением генерал-лейтенант И. И. Мороков со своей стороны представил Толстого к награждению орденом Св. Владимира, который граф уже имел.
Раненный в ногу навылет, Американец оказался в обозе. На въезде в Москву подводы с ранеными встали, сгрудились. Толстой заметил знакомого офицера, скачущего с донесением в город, и окликнул его. Вместо жалоб и просьб Толстой предложил:
– Мадеры хочешь? – и только.
Знакомый кое-как вывел его повозку на свободный путь и поскакал дальше.
После лечения в госпитале Толстой вернулся в строй. Сражался под Красным и Оршей. После окончания войны вышел в отставку окончательно в чине полковника.
«На свете нравственном загадка»
Отставной полковник граф Толстой-Американец зажил в Москве, завел крупную карточную игру, обычно успешную. Рассказывают, он умел быстро понять тактику противника за карточным столом, оценить его эмоциональное состояние, а сам при этом оставался невозмутимым. Ну, и ловко передергивал, конечно.
– Ведь ты играешь наверняка? – спросил кто-то из своих напрямик.
Толстой усмехнулся:
– Только дураки играют на счастье!
Другому приятелю он признался, что в большой игре с ним участвуют «шавки», подручные. Они умело обрабатывали жертву, давали поначалу выиграть, а потом «раздевали» на десятки тысяч!
Какой-то смелый человек однажды сказал Толстому:
– Граф, вы передергиваете, я с вами больше не играю!
На что Американец ответил:
– Да, я передергиваю, но не люблю, когда мне это говорят. Продолжайте играть, а то я размозжу вам голову этим шандалом.
Смельчак струхнул, опять взял карты… и продолжал проигрывать.
Шальные деньги граф тратил на кутежи, цыган и свои знаменитые застолья. Стол у него был из лучших в Москве, он слыл тонким гастрономом. Продукты неизменно закупал самолично, знал мельчайшие приметы свежей дичи и рыбы. Например, выбирая живую рыбу в садке, он указывал на ту, что сильнее бьется:
– Подай-ка мне, братец, эту рыбину – в ней жизни больше!
Граф Толстой входил в шуточный «орден пробочников».
«Пробочниками» были Вяземский, Батюшков, Денис Давыдов и Василий Львович Пушкин, дядя А. С. Пушкина. За столом не только лилось вино и сменялись блюда, но и звучали веселые куплеты.
Все искрится – вино и шутки!
Глаза горят, светлеет лоб,
И зачастую в промежутке
За пробкой пробка хлоп да хлоп!
Да, этот человек, наводивший ужас на одних, умел быть товарищем и интересным собеседником для других. Как писал о нем Жуковский, «был добрым приятелем для своих друзей». Ценил поэзию, его близкими знакомыми, кроме названных, были поэты Дмитриев, Батюшков, Шаликов, а впоследствии и Пушкин. Князь П. А. Вяземский был особенно с ним близок и набросал такой стихотворный портрет:
Американец и цыган,
На свете нравственном загадка,
Которого как лихорадка
Мятежных склонностей дурман
Или страстей кипящих схватка
Всегда из края мечет в край,
Из рая в ад, из ада в рай…
Другую меткую характеристику дал ему Грибоедов в комедии «Горе от ума», в монологе Репетилова:
Ночной разбойник, дуэлист,
В Камчатку сослан был, вернулся алеутом,
И крепко на руку не чист:
Да умный человек не может быть не плутом…
Рукопись комедии ходила по Москве в списках, и как-то раз ее показали Толстому. Он посмеялся, но сделал исправления. Вместо «сослан был» написал «черт носил», пояснив: «Сослан никогда не был». Слова «крепко на руку не чист» исправил на «в картишках на руку не чист»: «А то подумают, что табакерки со стола ворую!»
После гибели Грибоедова комедию поставили в театре. На одно из первых представлений пришел и Толстой. Вот Репетилов начал свой монолог, и все зрители напряглись, уставившись на Американца. Когда Репетилов закончил, Толстой встал и, словно отвечая на обвинение, что «не может быть не плутом», обратился к залу:
– Взяток, ей-богу, не брал, потому что не служил!
Его реплика была встречена аплодисментами.
Но то, что дикий граф с улыбкой прощал Грибоедову и близким приятелям, могло дорого обойтись человеку малознакомому. Однажды в гостях у Нащокина кто-то напомнил Толстому грибоедовские строки «ночной разбойник, дуэлист». Глаза Американца блеснули тем самым огнем, который заставлял трепетать мужчин и женщин. Он подошел к говорившему и спросил:
– Не правда ли, я черен?
– Да! – едва вымолвил незнакомец.
Все ждали, что сейчас последует пощечина или вызов. Но Толстой неожиданно заявил:
– А перед своей душою – совершенный блондин!
Все рассмеялись и вздохнули с облегчением. Прав был поэт Е. А. Баратынский, так описавший свое первое впечатление об Американце: «Занимательный человек! Смотрит добряком, и всякий, кто не слыхал про него, ошибется».
Где «страстей кипящих схватка», там и дуэли. Часто драмы разыгрывались за карточным столом, а завершались у барьера. Рассказывали такой анекдот: один поэт, остряк и кутила, получил вызов. Тут же за карточным столом Толстой метал банк. Поэт попросил Американца быть его секундантом. Стреляться должны были наутро. Поэт уехал отсыпаться перед поединком, а Толстой передал кому-то колоду карт и вышел искать обидчика поэта… Утром поэт заехал за Толстым и нашел его спящим.
– Вставай, пора ехать! – позвал он.
– Не нужно. Я его уже убил, – пробурчал сонный граф.
Оказалось, еще вчера он влепил пощечину противнику поэта, стреляться решили тотчас, сели на тройки и поскакали за город. Там Толстой подстрелил несчастного и вернулся – одни говорят, что он продолжал преспокойно метать банк, другие – что завалился спать.
Где еще кипят страсти? Конечно, в цыганском таборе, в цыганском хоре. Однажды Толстой увлекся прелестной плясуньей Пашенькой Тугаевой из хора Соколова. Как положено, выкупил ее у хора и привез к себе. В ту пору такие отношения русских дворян с цыганками были нередки. Друг Пушкина – П. В. Нащокин в это же время жил с певицей Ольгой Солдатовой из соколовского хора. Но союзы эти были непрочны; цыганками увлекались – но ненадолго, да и свет предавал их анафеме. У Толстого с Евдокией Максимовной – таково настоящее имя Пашеньки – вышло иначе.
И на старуху бывает проруха – Толстой проигрался, да так, что ни отдать, ни занять. Вот-вот выставят на «черную доску» в клубе. А это позор для дворянина, тем более для такого игрока, как Толстой. Лучше пулю в лоб! Пашенька заметила, давай выспрашивать:
– Что с тобой, граф?
– Что ты лезешь? Ну, проигрался! Выставят на черную доску, а я этого не переживу!..
Пашенька не отставала и выведала, сколько денег он должен. Съездила куда-то и привезла деньги. Толстой удивился:
– Откуда ты достала столько?
– Откуда? Да от тебя! Разве ты мало мне дарил?! Я все прятала, а теперь возьми их, они твои…
После этого граф и цыганка обвенчались. После свадьбы, по обыкновению, поехали с визитами. В некоторых домах их не приняли. Толстой навсегда порвал отношения с этими снобами.
В 1821 году у графа и цыганки-графини родилась первая дочь. Ее назвали Саррой. С этих пор характер Американца начал понемногу смягчаться. Только проклятый язык подводил по-прежнему.






