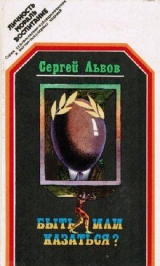
Текст книги "Быть или казаться?"
Автор книги: Сергей Львов
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)
Крик
Расскажу об этом случае с протокольной точностью. Инженера Н. на реанимационной машине «Скорой помощи» привезли в кардиологическую больницу и поместили в отделение интенсивной терапии. К вновь доставленному больному подкатывали передвижной аппарат и записывали ЭКГ на бумажную ленту. У него брали кровь из пальца и отправляли ее на срочный анализ. Ему измеряли давление. Его смотрели врачи и профессор. Ему вводили в вены иглы капельниц. Массажем сердца, мощным разрядом электротока и другими чрезвычайными мерами спасали его, когда он был в состоянии клинической смерти. Все это инженер Н. воспринимал сквозь боль, чуть ослабевшую после уколов, сквозь страх, который не отступал. Ему казалось, что он никогда не сможет по-настоящему вздохнуть. Сердечные приступы у него бывали и прежде, но не такие сильные. А подобного ужаса он не испытывал никогда. Казалось, сейчас все начнется сначала…
В истории болезни инженера Н. было записано, когда и как начался приступ, сколько времени не удавалось его прервать врачам «Скорой помощи», с каким диагнозом был он доставлен в стационар. Не было только записано, что же предшествовало этому приступу.
А предшествовало ему вот что: на работе на инженера Н. накричали. Громко и грубо. Едва Н. услышал этот крик, у него тяжело застучало сердце, голову сдавило железным обручем, стало трудно дышать. Крик был столь безобразен, слова так грубы, что Н. никак не мог понять сути дела – есть ли в беспощадном разносе дельное зерно, в чем и насколько он провинился? Кричавший распалялся все сильнее, а тот, кого разносили, чувствовал только одно: это надо остановить немедленно! Предвестники беды уже давали сигнал режущей болью в сердце.
Инженер Н. вышел из кабинета, едва дотащился до своего отдела, рухнул на стул и с трудом досидел до конца дня. Он то и дело брал в рот белую таблетку нитроглицерина, она щипала язык, но почти не давала облегчения. Дома на лестнице и случилось то, что превратило его, мужчину сорока пяти лет, дельного специалиста, хорошего работника, мужа и отца семейства, в тяжело больного человека.
Не все, что происходит после чего‑нибудь, происходит вследствие этого. Но дотошный врач докопался, что было «пусковым моментом» приступа, и усмотрел почти стопроцентную зависимость между грубым разносом и инфарктом у Н. Крик вызвал состояние стресса. Стрессу «безразлично», какая именно вредность его вызвала. Реакция на крик у того, на кого этот крик направлен, похожа на реакцию, вызванную ядом, сильной болью, ударом тока, ожогом: резко сужаются сосуды, повышается давление, начинает частить пульс. Для врача, лечившего II., было бесспорно: инфаркт, который подорвал здоровье пациента, надолго ограничил его трудоспособность, а может быть, и сократил ему жизнь, связан с обрушившимся на него криком. Теперь месяцами придется исправлять вред, нанесенный несколькими минутами безобразной несдержанности – несколькими минутами крика. Если бы злоумышленник ранил Н., он предстал бы перед судом. Рана, которую нанес инженеру Н. крикун, ничуть не легче удара ножом в грудь, но судебной кары за нее, увы, не предусмотрено.
Врач, рассказавший мне эту историю, говорил со сдержанной и бессильной яростью. Случай с Н. в его практике не единственный. Я спросил: «А было со стороны Н. какое‑нибудь упущение, которое могло бы если и не оправдать, то объяснить поведение кричавшего?» Врач ответил: «Сослуживцы Н. утверждают: никакого упущения не было, чистое недоразумение. Но даже если бы и было со стороны Н. упущение! Нужно тогда кричать? Чтобы устранить упущение, следует собраться с мыслями, продумать меры. Всему этому крик не помогает, наоборот, мешает. Кричат там, где не думают, а где думают, там не кричат. И снова скажу как врач: если бы Н. действительно допустил ошибку, разве его начальнику это дало бы право ударить его ножом? Крику нет оправдания!»
Молодая замужняя женщина с высшим образованием. У ее мужа тоже высшее образование. Живут в хорошей квартире. У них машина, немало интересных книг, телевизор и пр. Когда эта женщина из благополучной на первый взгляд семьи воспитывает детей, это слышно сквозь двери, окна, стены… На лестнице. Во дворе. В соседних квартирах. Не стесняясь окружающих, она вопит: «Заткнись, дрянь!» – младшей дочке. «Руки, ноги переломаю!» – старшей. «Идиотки» – обоим детям. Не выдержав, в соседней квартире начинает лаять собака, и, право, лай собаки звучит интеллигентнее этого крика. Самое печальное: дети уже привыкли. От них теперь не добиться послушания ни спокойными словами, ни воплем: «Убью!» Муж мирится с этой вакханалией крика. Впрочем, супруги друг на друга кричат тоже. Мне приходится иногда видеть эту молодую женщину в пароксизме крика – ее лицо, обычно миловидное, становится страшной маской. Она стареет сразу на много лет. Не трудно догадаться, что будет дальше: в один непрекрасный день младшая или старшая дочь, а то и обе вместе ответят матери криком и бранью. Опасная цепная реакция…
В этой сберегательной кассе недавно еще приветливо здоровались с вкладчиками и даже обращались к ним по имени-отчеству. Клиенты отвечали служащим тем же.
Новая заведующая въехала в кассу не на белом коне, как щедринский градоначальник, но на коне крика и под лозунгом «При мне будет не так, как при прежней заведующей». Прежде всего, она упразднила вежливость. Сперва при посетителях стала покрикивать, потом кричать на подчиненных, полагая, что так утверждает свой авторитет. Затем стала кричать па клиентов. Особенно на тех, кто стар, теряется, не может сразу правильно заполнить бланк, написать доверенность или завещательное распоряжение. «Оглохли?» – может осведомиться она у человека, который действительно плохо слышит. «Сколько раз вам объяснять!» – это говорится чуть не каждому третьему. А чаще всего звучит: «Я вам не обязана!» Прежние работники кассы, задерганные окриками, стали работать заметно хуже, а некоторые – и это самые горькие плоды нового руководства – подражать начальнице. У нее же, когда она упоенно кричит, в глазах появляется победоносный блеск, она упирает «руки в боки», мимика выражает торжество: «Эк я их всех отбрила!»
У этой заведующей есть двойник – продавщица в соседнем магазине. Она работает медленно, неряшливо, бестолково. Когда появляется за прилавком, самые нервные покупатели, вздохнув, уходят – в другую очередь или в другой магазин. «Сейчас она нам задаст», – говорит какая‑нибудь старенькая многотерпеливица, у которой нет сил занимать очередь снова в другом месте. И продавщица задает! У нее, как и у заведующей сберкассой, появляется такая же победоносная поза – «руки в боки», а в глазах блеск, как у гончей, которая травит зайца.
В нашем микрорайоне встреча этих двух женщин казалась неизбежной. Думалось, произойдет взрыв. Ан нет, встреча произошла, но столкновения не было. Крикуньи издали почувствовали, «кто есть кто». Покупка совершилась если не в дружественной, то, во всяком случае, в деловой обстановке. Голоса обеих дам звучали нормально, если не считать хрипоты, вызванной привычным криком. Любопытное наблюдение – горлодеры и грубияны, почувствовав, что могут получить отпор на привычном им языке, затихают.
Я убежден: за нежеланием терпеть крик стоит чувство социально ценное – собственного достоинства. А что стоит за криком? Комплекс неполноценности? Вряд ли заведующая сберкассой и продавщица из продмага задумываются над тем, почему они кричат. Но люди видят: своим криком они прикрывают неумение работать, симулируют активную деятельность, которой нет.
Иногда за криком прячется невежество. Однажды я присутствовал при беспомощной попытке читателя заказать в библиотеке книгу по межбиблиотечному абонементу. Сложнейшая задача– поиск книги, автор которой неизвестен. Он не знал ни имени автора, ни названия книги, ни места и года ее издания. Знал только, о чем она. Тщетно втолковывали ему милые библиотекари, что ему нужно посмотреть соответствующие разделы в предметных и систематических каталогах другой, большой библиотеки. Он все долдонил про единственный признак: «Книга в зеленом переплете!» И вдруг, когда ему сказали, что книги расставляются и отыскиваются не по цвету, он, побагровев, заорал: «Я вас заставлю за этой книгой на карачках ползти и в зубах принести!» Заорал, ибо почувствовал, что сам уличил себя в дремучем невежестве.
Элементарный вопрос: почему же все‑таки мы позволяем на себя кричать? Ответить на него не так‑то просто.
Руководитель кричит на нижестоящих так, что стены дрожат! Но вот что примечательно: иные из них выходят из кабинета шефа как бы даже успокоенные. Будто их в баньке веничком ублажали, а не унижали их человеческое достоинство. А потому: раз кричит – значит, считает за своего. Не стыдится предстать в душевном неглиже. А вот если «сам» переходит на нормальный голос, вот тогда‑то и следует призадуматься. Уж не отнес ли к посторонним, о которыми распоясываться нельзя. С чего бы это? Ведь всем известно – с посторонними их шеф всегда держится в рамках, а с вышестоящими и говорить не приходится – сплошной политес. В немецком языке таких людей называют «велосипедистами»: «Сверху гнутся, а вниз давят!» Психология же сотрудников, которые не просто мирятся с тем, что на них орут, но даже расценивают крик как знак личного доверия шефа, их психология сродни той, о которой Чехов говорил, что ее надо выдавливать из себя по капле, как психологию раба.
Бесконечно опасен крик в педагогике. В одном газетном очерке с восторгом описывался знаменитый тренер, работающий с детьми и подростками. Автор писал, что сей мастер своего дела бывает несдержан и грубоват. Говорилось об этих качествах его натуры как о гранях самобытного таланта.
Если педагог не обходится без крика, значит это плохой педагог. Мой собственный педагогический опыт говорит мне об этом. Однажды я не смог совладать с большой незнакомой аудиторией, которой читал хорошо подготовленную лекцию, – зал шумел. Я повысил голос. На мгновение стало чуть тише. Потом снова шум. Я заговорил еще громче. Опять минута относительного внимания, и снова шум. Я заговорил уже не «форте» – «фортиссимо». Тот же результат! Мои голосовые возможности были исчерпаны, а тишины и внимания я так и не добился.
Став опытнее, я узнал: если класс, студенческая или иная аудитория шумит, надо говорить не громче, а, наоборот, тише. В зале возникнут островки внимания. Те, кому интересно узнать, а что все‑таки там говорят? – сами заставят замолчать соседей. Внимание разольется по залу. Мне часто приходилось выступать в школах. Я почти всегда знал наперед, каким окажется общение с юной аудиторией – раскованным, радостным, творческим или напряженным и тягостным. Важнейший признак – звучат ли в вестибюле и коридорах громкие окрики педагогов, или все пожелания, замечания, требования высказываются спокойными голосами. Школа, где по ушам бьет крик, как правило, плохая школа…
Существует распространенное заблуждение, что крик, мол, полезен здоровью того, кто кричит. Я недавно слышал от одного заслуженного человека, что у него‑де, если он не выкричится, поднимается давление. С научной точки зрения это полная ерунда. И не потому среди людей воспитанных и тихих встречаются гипертоники, что они не позволяют разряжать себя криком, а потому, что на воспитанных и тихих чаще орут невоспитанные и дикие. Это не значит, что страдающей стороне нужно изменить свой образ поведения. Менять его должны крикуны.
Мне скажут: кричат не только плохие, несостоятельные работники – умелые и способные тоже порой кричат. Крик‑де иногда заставляет сделать то, что без него не делается. Что ж, допускаю. Но как это делается и какой ценой? Убежден, крик всегда исключает вдумчивость, сообразительность, спокойный и квалифицированный обмен мнениями. А это непременные условия верного стиля сегодняшней усложнившейся работы. По старинке, абы как, еще можно работать с криком. На современном высоком уровне – нельзя.
Так как же все‑таки нам справиться с криком? Не знаю! Но уверен: оскорбительный крик – субстанция хоть и менее материальная, но не менее вредная, чем, скажем, вещества, загрязняющие атмосферу. Мы боремся с загрязнением воздуха, с опасными для здоровья производственными и бытовыми шумами. Это правильно и необходимо. Но крик, прямо направленный на человека, бьющий его по самолюбию, по душе и сердцу, опаснее во сто крат…
Инженер Н. пока еще на инвалидности. Виновник, пусть отчасти, его болезни на своем месте. Кричит на подчиненных? Говорят, реже. И иногда даже сам переходит с крика на нормальный голос. Дается ему это с трудом. Скверные привычки переламывать нелегко.
У многих из нас перед глазами примеры, как складывается такой тип поведения: бесполезный для дела и безусловно вредный для окружающих. Однако еще важнее, чем проследить истоки такого поведения, приостановить его: снизу или сверху. Общими усилиями. Спокойным отпором. Выступлением на собрании. Если надо, приказом сверху.
Но главное – разоблачать крик и крикунов в глазах общественного мнения. Показать, что крикуны кричат часто для того, чтобы произвести впечатление людей волевых, решительных, требовательных. За криком может прятаться неуверенность, страх, что приказания, отданные обычным тоном, выполнены не будут.
Леонид Ильич Брежнев в книге «Малая земля» пишет:
«Если даже человек ошибся, никто не вправе оскорбить его окриком. Мне глубоко отвратительна пусть не распространенная, но еще кое у кого сохранившаяся привычка повышать голос на людей. Ни хозяйственный, ни партийный руководитель не должен забывать, что его подчиненные – это подчиненные только по службе, что служат они не директору или заведующему, а делу партии и государства. И в этом отношении все равны. Те, кто позволяет себе отступать от этой незыблемой для нашего строя истины, безнадежно компрометируют себя, роняют свой авторитет».
Крик – маска профессиональной некомпетентности! Отсталости. Понимать это очень важно. Бороться с тем, чем порождено это явление, еще важнее.
Осторожно: слово!
Статья о крике, предыдущая глава этой книги, после того как была напечатана в газете, вызвала много откликов. Немолодая женщина, крупный ученый, рассказала такую историю:
«Я переходила площадь, меня толкнул какой‑то пьяный, я упала на колени, поранила их, и из ран по ногам потекла кровь ручьем. Я зашла в ближайшую поликлинику и сказала сестре: „Пожалуйста, окажите мне первую помощь“. Она вежливо направила меня в хирургический кабинет. В кабинете за столом сидела величественная дама: хирург и главный врач поликлиники. Я сказала:
– Я в крови. Пожалуйста, окажите мне первую помощь.
– С половины третьего! – железным голосом ответила она.
Часы показывали два.
– Но ведь у меня кровь течет, помогите мне!
И тогда она не крикнула, а спокойно сказала:
– Выйдите отсюда!
Я, конечно, вышла. Я плакала.
Вы правы, – пишет она дальше, – сравнивая травму, нанесенную криком, с ударом ножа. Но, как видите, такой удар можно нанести и без крика. Нормальным голосом».
К врачу пришел человек, чтобы он врачевал его телесную рану, а он нанес ему рану душевную.
И я подумал, как, увы, часто наносятся раны словом.
Вы набираете номер телефона. Вам отвечают:
– Слушаю.
Вы говорите:
– Попросите, пожалуйста, Алексея Петровича.
Вы ошиблись и попали в другую квартиру. Как должен звучать нормальный ответ в таком случае? «Вы ошиблись номером». Так отвечают вежливые люди. Очень вежливые: «Вы, к сожалению, ошиблись номером». Но нередко вы слышите: «Здесь таких нет!» Так и тянет спросить: «А какие есть?» и грубое продолжение: «Глядеть надо, когда набираешь!» Пустяк, конечно, но настроение испортить вполне может.
Мы решили купить телевизор. Много лет обходились без этого непременного предмета современного быта. Я был несколько растерян. По-видимому, наивные вопросы человека, который последний раз имел дело с покупкой телевизора лет двадцать назад, привели молодого продавца в раздражение. Он отвечал с ироническим превосходством. Может быть, его досаду вызвало то, что я покупаю не дорогой цветной телевизор, а маленький черно-белый.
Телевизор был выбран. Но на улице лил проливной дождь.
– Можно оставить телевизор здесь на 15–20 минут? – спросил я. – Сейчас подъеду на такси…
– Платите деньги и уходите хоть на все четыре стороны! – ответил продавец.
Почему? За что? Разве не проще было ответить одним словом: «Пожалуйста!» Или, если по правилам телевизор на короткое время оставить нельзя, сказать: «К сожалению, это не разрешается».
Раны от слова вызываются не только грубостью, а часто необдуманным обращением со словом. Журналист описывает внешность героини очерка девушки-строителя: «Милое лицо все в веснушках, острые, неровные зубы!» И веснушки и неровные зубы – подробности облика запоминающиеся. Они могут быть милыми, но не в таком описании. Вряд ли этот очерк принесет радость его героине.
Я особенно остро пожалел ее, потому что однажды в жизни сам пострадал сходным образом. В детстве я был полным и таким остался.
Взрослым переношу это легко, а когда был школьником, меня дразнили, я страдал ужасно. Понадобилось немало выдержки и умения постоять за себя, чтобы дразнить перестали. И вот нас, группу школьников, пригласил в редакцию большой газеты известный писатель. Поили чаем и угощали пирожными. Писатель беседовал с нами о школе. Готовился написать очерк. Отвечал на его вопросы и я. Очерк появился. Я развернул газету и похолодел: он, указав имя, фамилию и школу, назвал меня в очерке «языкатым толстяком Сережей!». Много ли радости в том, что он похвалил мои ответы? На всю страну прославил меня – языкатым толстяком! Сказано было метко, сколько я ни отбивался, ничего не помогало, надолго прилипло ко мне это новое прозвище. Ответ был один: «В газете так напечатали! Значит, так оно и есть».
Прошло много лет. Мы встретились с этим писателем в доме отдыха. Разговорились, и я спросил его:
– А вы знаете, какое горе вы мне когда‑то причинили?
Он страшно удивился.
Я рассказал ему эту историю. Он сказал:
– Забыл. Извините меня!
Взрослый, я его извинил, мальчишкой же ненавидел. Дети особенно чувствительны к слову, особенно ранимы. Родители, педагоги, журналисты, пишущие о детях, врачи, не забывайте об этом.
В одной семье произошел такой случай. Дочка, школьница пятого класса, которая незадолго до того перенесла тяжелое долгое заболевание, вернулась однажды домой бледная и сказала:
– В эту школу я больше не пойду.
Ничего объяснять она не стала. Видно было только – потрясена безмерно.
– Лучше умереть, чем в эту школу.
Родители решили перевести девочку в соседнюю школу. И только спустя годы она рассказала, в чем было дело. На медицинском осмотре в присутствии подруг школьный врач сочувственно воскликнула:
– С таким сердцем жить нельзя!
Подруги засыпали девочку вопросами. Она молча оделась и молча вышла из школы. Вышла, чтобы больше никогда туда не возвращаться. Никому ничего не сказала, чтобы никого из близких не огорчать. Она верила старшим и думала, что живет последние недели.
Эту рану словом нанесли не злость, не грубость, а глупость, невежество.
Девушка-ткачиха с детства сильно заикалась и очень страдала от этого. Жизнь ее складывалась несладко. Она описала свою историю в повести, где изобразила себя под другим именем. У нее была наивная мечта: напечатают повесть, люди прочитают, узнают ее в героине и поймут, как были к ней несправедливы. И жизнь ее изменится. Послала она повесть в литературную консультацию. Сотрудник, прочитавший рукопись, видно, спешил, а может, плохо знал свое дело. Только он не заметил, что в сопроводительном письме было сказано: повесть автобиографическая. И написал автору: вы вывели в качестве главного героя жалкого, слабого, никому не интересного человека.
Ему казалось, он пишет рецензию на повесть, а написал он отзыв о жизни девушки, которая и без того считала себя никому не нужной. Его жестокий – не по злой воле, а по невнимательности и душевной тупости – ответ надолго уложил девушку в больницу. И когда мы с товарищами по редакции взялись вытаскивать ее из пропасти отчаяния, это оказалось нелегко!
Осторожно со словом! Оно может тяжко ранить!
А ведь есть простые способы избежать этого, даже если мы вынуждены говорить людям неприятное.
Есть люди, которым чувство такта, в том числе такта в выборе слов, дается от природы или вырабатывается воспитанием. Есть такие, которым оно от природы не дано и в них не воспитано, но по роду работы необходимо. Словесному такту следует учить всех, кто связан с другими людьми. И за пренебрежение им – наказывать. Случайно мне попалась книжечка для таксистов. Там приводились давно выработанные и проверенные практикой формулы обращения к пассажиру – краткие, деловитые, вежливые…
Только что изучил я это полезное пособие, как пришлось мне остановить такси, чтобы подвезти наших друзей, приехавших из ГДР, на небольшое для нас, но изрядное для них расстояние.
Мы сели в машину, и я сказал:
– Здравствуйте. Будьте любезны… и назвал адрес. Молодой водитель улыбнулся очаровательной белозубой улыбкой и ответил:
– А я вам дам три пятака, езжайте на троллейбусе. И вам дешевле и мне сподручней!
– Что он сказал? – осведомились мои гости.
– Выразил удовольствие, что видит в своей машине гостей из ГДР, – ответил я и перевел свой ответ водителю. Очаровательная улыбка сползла с его лица.
– Нам повезло, – продолжал я, – у нас не только очень красивый водитель, но и очень приветливый!
Он довез нас до места и действительно был очень мил. На том небольшом расстоянии, которое нам все‑таки удалось проехать на такси. А вот что было потом с теми, кто сел в эту машину после нас, не знаю. Очень хочется думать, что урок из нашей встречи извлек не только я. Впрочем, говорят, что я – неисправимый оптимист.
По территории большой выставки ходят открытые автопоезда – приятнейшая поездка. Водитель негромко, но четко объявляет остановки, дает пояснения, предупреждает:
– Пожалуйста, будьте осторожны, когда входите и выходите.
Следующий день. Та же выставка. Такой же автопоезд. Но вагончик трясет, как по ухабам. В вагончиках грязно, неряшливо одетый водитель все время делает замечания пассажирам резким, раздраженным голосом. Динамики усиливают и голос, и злобность интонации. Переглянувшись с пожилым приезжим, мы поспешили выйти.
– Ай, нехорошо! – сказал он. – Аи, некрасиво. Не хочу ехать по такой выставке, чтобы мне все время выговор делали.
Я тоже не хотел. Люди почему‑то не любят, когда им ни за что ни про что делают выговоры. Или учат жить.
«Не видишь, что ли!»; «Сколько раз повторять!»; «Русского языка не понимаешь!»; «Чего стали» или «Чего сели»; «А вам (а тебе) чего надо!»; «Больно умные все стали!»; «Больно ученые стали!»; «Ну-ну, нечего»; «Ишь, какой нежный»; «И так хорошо будет»; «Двадцать раз вам повторять!»
А ведь можно сказать: «Доброе утро!»; «Добрый день!»; «Добрый вечер!»; «Пожалуйста, входите»; «Пожалуйста, садитесь»; «Будьте любезны, передайте, пожалуйста»; «Я пройду после вас»; «Спасибо большое»; «Благодарю вас»; «Всего доброго!»; «Скажите, пожалуйста…»
Я шел и думал, какие еще приятные слова можно оказать, обращаясь к постороннему человеку. Возле меня, резко скрипнув тормозами, остановились «Жигули». Хозяин «Жигулей», не здороваясь, небрежно поманил меня пальцем и крикнул: «Эй! Как на Алабяна ехать?»
Почему он считает, что может требовать у меня справку в таком тоне?
– Оглох? – осведомился он.
Я снова промолчал. Владелец «Жигулей» недовольно буркнул: – Ну и народ! Язык у тебя отсохнет ответить!
Я бы ответил, но от неожиданного окрика не смог сразу сообразить, как туда ехать. Впрочем, и отвечать расхотелось. Я не умею разговаривать на таком языке и не хочу учиться.
Когда таких примеров из собственного опыта и опыта окружающих и размышлений по их поводу накопилось много, я выступил по радио с беседой на тему «Осторожно – слово!». Не предлагал ничего особенного и чрезвычайного, просто советовал обращаться со словом обдуманно. Применять, например, давно выработанные и общепринятые формулы вежливости и отказаться от таких оборотов, как: «Не видишь что ли?!», «Ослеп?», «Оглох?», тем более что есть опасность действительно угодить, в человека, который плохо видит или плохо слышит. Я напоминал другие слова, приветливые, вежливые, благожелательные. И заканчивал передачу так: «Будьте осторожны со словом! Грубое – обоюдоостро и часто мстит за себя!»
На меня обрушилась лавина откликов. Радиослушатели приводили примеры, часто печальные, иногда драматические. В некоторых письмах речь шла о семьях, которые оказались под угрозой разрушения из‑за крайней грубости одной стороны. Другие слушатели приводили примеры, какой незаживающий след на годы наносит травма словом. Одна женщина рассказала, что когда она была девочкой, знакомая громко сказала про нее на улице: «Ты погляди, какая некрасивая!» Эти слова она запомнила на всю жизнь. В юности они принесли ей много горя. Она перестала смотреть в зеркало и улыбаться.
Слушатели размышляли и над другими примерами недопустимого обращения со словом. Говорили, как непозволительно комментировать физические недостатки людей. Спрашивали, хорошо ли поступают актеры, извлекая комический эффект из заикания или глухоты персонажей. Ведь эти шутки, грубо тиражированные в пересказе, наносят травму людям, которые и без того несут бремя недуга.
Большинство откликнувшихся на мое выступление соглашалось: со словом надо обращаться осторожно.
Однако нашлись люди, кого сама постановка этой проблемы привела в раздражение. Они утверждают – без грубости не обойтись и обходиться без нее не надо! Под грубостью они понимают и крайнюю ее форму – нецензурную брань. Без нее‑де и соваться нечего на стройку, в цех, в поле. Да и в домашнем быту без крепкого слова немыслимо.
Вредный вздор! Бранятся на том производстве, где не умеют ни хорошо руководить, ни хорошо работать. Бранятся в семье, где не уважают ни окружающих, ни себя. Пора перестать умиляться «соленым» и «крепким» словам. Никакие они не соленые, и не крепкие. Они грязные и пакостные.
Я уже упоминал в этой книге Бориса Ивановича Богданкова. Всю жизнь отдал он поочередно двум профессиям – помощника сталевара и рабочего геологической экспедиции на Крайнем Севере. Работал в условиях трудных. Вечернюю школу окончил взрослым человеком. Был знатоком поэзии. Любителем природы.
Познакомил я Бориса Ивановича с моим коллегой – писателем. Пошли мы вместе гулять. Мой коллега начал украшать свою речь непечатными выражениями. Борис Иванович помрачнел, замолчал, замкнулся. Когда мы расстались с нашим спутником, Борис Иванович с обидой сказал:
– Он что же считает, что рабочий не понимает другого языка?
Я сказал, что мои коллега всегда украшает беседу таким орнаментом. Борис Иванович стал избегать его общества. Надо ли говорить, что от него самого никто никогда не слышал неудобосказуемого слова?
Интересно, что письма в защиту грубости и брани либо без подписи, либо с подписью, но без обратного адреса. Анонимки или полуанонимки. Ни один из рыцарей хамства, ни один из бардов матерщины не решился защищать их с открытым забралом. Есть, значит, у этих «геройских натур» ощущение, что они ратуют за что‑то скверное. Потому и пишут свои письма, как похабщину на стенке – без подписи. Отвечать на анонимки не принято. Но в этих письмах своя философия, и об этом следует сказать несколько слов.
Под защиту грубости и хамства в них иногда подводится теоретическая основа: люди скверны, злы, подлы и иными быть не могут, а значит, на грубость следует отвечать грубостью, на зло – злом, на подлость – подлостью.
Вежливость в представлении защитников грубости непременно маскировка неблаговидного поведения, лицемерия и подлости.
Тысячелетиями человечество вырабатывало способы выражения благожелательства, благодарности, извинения, сочувствия, внимания. Они вошли в народные традиции, обрели глубокий этический и социальный смысл.
Бывает, что внешняя вежливость маскирует внутреннее равнодушие или даже недоброжелательство. Но это – исключение, и оно не дает оснований проклинать вежливость.
В житейском обиходе, в некоторых книгах, иногда на сцене и на экране утверждается представление, что вежливость, воспитанность, сдержанность, обходительность – прикрытие отрицательных качеств личности. Напротив, грубость, беспардонность, нахрапистость – это‑де выражение личности сильной, незаурядной, искренней, проявление таланта, который имеет право на такое выражение своей самобытности.
Бывает и так, что о грубости говорят, как о защитной броне нежной, ранимой души. На самом деле, как мы знаем по личному опыту общения с грубиянами, за грубостью и хамством, как правило, ничего не скрывается, кроме грубости и хамства!
Есть люди, считающие душевную ранимость блажью, пагубной чувствительностью. Вот горестное письмо молодой женщины. Муж любит и ее, и дочку, и дом. Все, казалось бы, хорошо. Но он груб. Свои чувства выражает так, что жене с ним вообще говорить не хочется. С дочкой шутит так грубо, что она плачет. Тогда он ругает жену: изнежила дочку! Он‑де не просто произносит при дочери бранные слова, он закаляет ее для будущей жизни!
Неведомый мне молодой человек – любящий муж и отец, но матерщинник – болен крайней степенью эмоциональной глухоты и неграмотности. В представлении тех, кто придерживается подобных взглядов, воспитывать детей вежливыми, не браниться при них – значит услышать в будущем их неудовольствие.
И вот уже женщина тревожится, не слишком ли приветливой, не слишком ли вежливой, не слишком ли доброй воспитала дочку, не помешают ли ей эти качества в будущем! Хорошее письмо хорошей женщины… Ей не хочется приучать дочку к грубости, приучать ее в прямом и переносном смысле действовать локтями… Что сказать ей в ответ? Воспитанность, душевная красота, культура, доброта никогда не бывают избыточными.
И вот другое письмо. Оно, казалось бы, перекликается с только что пересказанным, но, по сути, глубоко отлично от него. Мать пишет, что старается воспитать своих детей вежливыми, обходительными, приветливыми. Вот и прекрасно! Но давая им эти уроки, она (так написала в письме) внушает детям, что за пределами родного дома они ничего подобного не встретят, выйдя в окружающий мир, непременно окажутся среди людей грубых, невежливых, невоспитанных. Конечно, когда ребенок становится взрослым и выходит в самостоятельную жизнь, ему приходится со всяким сталкиваться. Но заранее противопоставлять свой собственный идеальный дом скверному окружающему миру – значит воспитывать двоедушие, подозрительность, недоверие ко всем окружающим. Внешне корректное, по видимости интеллигентное письмо, но как же грустно читать его концовку: «Такова жизнь!»








