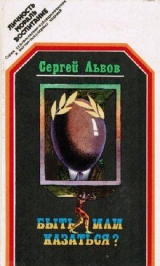
Текст книги "Быть или казаться?"
Автор книги: Сергей Львов
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 16 страниц)
Как всегда на таких выставках были и здесь посетители, которых явно радовала не сама живопись, а то, что они попали на зрелище, куда так трудно попасть. Можно будет небрежно спросить в компании: – На выставке «Прадо» были? Ну как же так! А вот я был!
Я обратил внимание на одну пару. Через шнур, преграждавший вход в постоянную экспозицию музея, посетитель и его спутница увидали копии с античных скульптур, удивились, заинтересовались и огорчились, что временно доступа к этим экспонатам нет. Из их разговора со смотрительницей зала стало понятно, что они, москвичи, в музее этом впервые в жизни. Пришли потому, что им достали билеты на выставку «Прадо».
Понравилось? Да как сказать… А вот в том зале, там, за шнуром, кажется, действительно что‑то интересное.
Можно было бы осудить их: они пришли на выставку не по внутреннему побуждению, а поддавшись общему ажиотажу и к восприятию выставки не готовы. Но не станем спешить с выводами.
Прийти на выставку, потому что она в центре внимания, а не из подлинной любознательности, все‑таки лучше, чем не прийти на нее совсем. Как знать? Может быть, это первое посещение не пройдет даром. Может быть, они придут сюда снова, уже не по соображениям «престижа» – мол, и мы там были! – а чтобы посмотреть музей, о котором до этой выставки и не слыхивали, куда во всяком случае не заглядывали. Может быть, они не ограничатся беглым осмотром и откроют для себя то, о чем раньше и не подозревали. Если это произойдет, им будет странно вспомнить время, когда их привел на выставку не интерес к ней, а желание побывать там, куда стремится «вся Москва». Совершится ли такая перемена в их сознании или нет, сказать трудно. Можно надеяться, что произойдет. Хочется надеяться. Но научиться быть истинным зрителем, внимательным, вдумчивым и чутким – сложно, да и долго. Проявить показной, а значит, деланный интерес к тому, что в центре всеобщего внимания, не стоит ни труда, ни усилия, ни размышлений. «Казаться» и в этой области куда проще, чем «быть». Но посещение очередной «ажиотажной» выставки из «престижных» соображений в тех, довольно распространенных случаях, когда показной интерес не перерастает в истинный, мстит за себя, да жестоко, оставляет тяжелую усталость, мутный осадок и тайное недоумение в душе: что в них такого, в этих темных холстах, и стоило ли так яростно бороться за право на них посмотреть. Подлинное уважение, интерес и любовь к искусству будут рано или поздно вознаграждены захватывающей радостью проникновения в его суть.
Чтобы не разошлись пути
Не идет у меня из ума эпизод в клубе маленького города. Я увидел афишу фильма, о котором слышал хорошие отзывы, но который пропустил, и решил его посмотреть. Был воскресный вечер, зрителей собралось много. Погас свет, началась картина – серьезная, печальная, мудрая. Но скоро оказалось: по залу проходит невидимая линия. Она делит зрителей на две части. Одни захвачены фильмом, смотрят сосредоточенно. Другим хочется веселиться, и, хотя экран не дает для этого никакого повода, они смеются в самых неподходящих местах. А третьи? Третьи боятся отстать от тех, кто смеется, показать, что их волнует фильм. И они послушно подражают тем, кто веселится.
Была в фильме такая сцена. Пассажиры поезда заподозрили, что один из едущих – преступник. Он испугался нарастающего напряжения, подозрительных взглядов и перешептывания и, когда поезд остановился на полустанке, вышел из вагона, пытаясь скрыться. Пассажиры устремились за ним в погоню. Многие из них понятия не имеют, в чем подозревают этого человека. Но ими овладевает азарт преследования. Беглец выбивается из сил, падает. Его обступает возбужденная толпа. Сейчас начнется расправа, слепой, бессмысленный самосуд.
Не стану пересказывать действия дальше. Тот, кто видел этот фильм, вероятно, его вспомнил. Недалеко от меня сидела юная пара. Я обратил на них внимание, когда они занимали места: юноша усаживал девушку бережно и влюбленно. Она была хороша собой. Но когда началась картина, оказалось, что разделительная линия, которая проходила через зал, стала границей и между ними.
Юноша смотрел на экран молча, внимательно, самозабвенно, изредка поворачивая голову к спутнице, словно желая убедиться, что картина и в ее душе находит тот же отзвук. А она томилась, явно не понимая смысла происходящего, смеялась там, где смеяться было нечему. И громко расхохоталась, когда беглец споткнулся и преследователи обступили его… Ее хохочущее лицо перестало быть красивым. Спутник посмотрел на нее с испуганным недоумением.
Мне показалось: я присутствую при драматической развязке отношений. Когда кончится картина и эта пара выйдет на улицу, он уже не сможет забыть, какой она была в зале, как и над чем смеялась. Подумалось – можно было бы написать рассказ с таким сюжетом. Печальный рассказ.
А потом я спросил себя: так ли уж виновата эта девушка, что не воспринимает языка искусства, в частности языка кино? Она сама не научилась, и никто не научил ее этому.
Если у человека есть желание приобщиться к искусству, важно не только настроиться перед входом в зал. Важно не «расстроиться» в зале, прошу простить невольный каламбур.
Мне пришлось беседовать с девушками, работающими на фабрике-прачечной. Они собрались в красном уголке общежития после работы, а там, где они работают, жарко, душно, влажно, несмотря на современную технику. Небольшая эта аудитория – в основном приезжие из дальних мест – поразила меня своим вниманием. Все, что я говорил о возможностях знакомства с искусством в большом городе, девушки слушали жадно, многое записывали. Рассказали, что неподалеку от их общежития – большой клуб. В нем показывают новые картины. И по соседству это от них, и недорого, и картины хорошие, а ходить туда девушки не любят… Почему? Потому что тамошние завсегдатаи не только хохочут в неподходящих местах, но и громко комментируют то, что происходит на экране, перекрикиваются и переругиваются, грызут семечки. Девушек оскорбляет и обижает вид и атмосфера этого клуба.
Они хотели бы почувствовать себя в столичном клубе, а он хуже, чем дома культуры тех поселков, откуда они приехали. Я не поленился, зашел туда. Все так и оказалось. Можно еще добавить выцветшие стенды и витрины и чудовищно грязный пол в фойе. А на стене плакат: «В человеке все должно быть прекрасно!» Он звучит насмешкой. Чтобы не твердили руководители клуба об эстетическом воспитании, какие бы отчеты ни писали, какие бы «галочки» не ставили, одно ясно: этот клуб не приобщает к искусству и культуре, а отвращает от них.
Но клуб может и сиять, и сверкать, а все‑таки но его сверкающему полу ни для одного человека не проляжет путь к искусству.
Когда я вспоминаю о том, что, пожалуй, больше всего открыло мне и моим сверстникам, товарищам по школе глаза на искусство вообще, на искусство театра в частности, в памяти встает далекий год детства и скромное помещение – не то очень маленький зал, не то очень большая пустая комната в ветхом деревянном флигеле во дворе нашей школы. Здесь собирался наш драмкружок. Руководила им актриса Театра юного зрителя Наталья Михайловна Наврозова. Театр этот ставил тогда спектакль «Вольные фламандцы» по роману Шарля де Костера «Тиль Уленшпигель». И мы тоже решили ставить «Тиля». Только другого, своего. Инсценировка, которая шла в ТЮЗе, нам не понравилась. Мы сами сочинили пьесу, точнее выработали ее в ходе долгих репетиций, придумали оформление, строили декорации, делали костюмы, изобретали реквизит. Увлекательнейшая работа занимала наше воображение много месяцев подряд. Мы рылись в книгах, без конца писали и рисовали, спорили, думали. Мы многому научились за этот год. Может быть, кто‑нибудь из самых способных участников нашего кружка и посвятил бы свою жизнь театру, но этому не суждено было осуществиться. Они спустя несколько лет погибли на фронте. Кружок дал много всем нам, кто избрал в жизни другие, далекие от театра пути. Он научил понимать: искусство – это, кроме всего остального и прежде всего остального, еще и большая работа, напряженный труд, а искусство сценическое – труд коллективный, способный объединить и сплотить людей. Пока мы делали все то, что нужно было, чтобы зазвучал со сцены наш спектакль, нам приходилось много работать, нам было интересно, и мы сдружились, как никогда прежде. У нашей руководительницы, которую я вот уже сколько лет вспоминаю с благодарностью, было правило не отказывать никому, кто захотел быть в кружке, даже если покажется, что у него нет способностей. Не все будут играть главные роли, может быть, вообще не все выйдут на сцену, разве только в «массовке», но дело найдется всем…
Тому, кто приходил сюда покрасоваться, а не внести свою лепту в будущий спектакль, кто был озабочен тем, чтобы казаться, а не быть, тому приходилось либо перемениться, либо уйти из кружка.
Столько всего, подчас неожиданного, нужно было узнать и создать для нашего спектакля! Не берусь говорить сейчас, какой получился у нас спектакль, но его участников он одарил радостным и ответственным чувством сопричастности к искусству. Сделал нас не только самоотверженными самодеятельными актерами, но, что еще важнее, серьезными зрителями. Иногда если я слышу, как в театральном зале, когда занавес уже открылся, когда действие уже идет, некоторые зрители громко обмениваются мнениями, шелестят бумажками от конфет, жуют шоколад или в конце спектакля вскакивают, торопясь в гардероб, не дожидаясь последних реплик, я думаю о том, что пройди они нашу школу, это было бы для них невозможно.
А с прекрасным правилом не закрывать двери ни перед кем, кто заинтересовался работой самодеятельного коллектива, я столкнулся снова несколько лет назад. Увидел в Ялте печатную афишу народного оперного театра клуба медицинских работников. В народных драматических театрах мне случалось бывать не раз, в оперном – не приходилось. Я зашел в клуб, познакомился с многолетней историей этого коллектива, посмотрел афиши и альбомы, услышал имена его питомцев, которые вышли на профессиональную сцену, побывал на репетиции. Помещение у клуба скромное. Зала со сценой нет. Сложную массовую сцену из «Травиаты» с солистами, хором и балетом репетировали в комнате для такой сцены тесной. Репетировали долго, упорно, самоотверженно. Существует в этом театре одна традиция, напомнившая мне наш школьный драмкружок. Здесь ни перед кем не закрывают двери.
Приобщение к искусству может происходить и в просторном, специально построенном здании, и в четырех стенах, и под открытым небом. Показывают ли зрителям очередную кинокартину, ведут ли занятия драматического кружка, самодеятельного хора или кружка по изобразительному искусству – во всем этом должен и может жить живой огонь творчества. И тот, кто однажды приложит свои собственные усилия к одному из этих дел, со временем будет вознагражден.
Искусство скорее и охотнее раскрывается тому, кто сам отдает ему силы, раздумья, время, внимание.
Рано или поздно каждый может почувствовать, что он среди знакомых и друзей в неравном положении. Их, например, интересует музыка или живопись, а для него они – книги за семью печатями. Реакция на такое открытие возможна различная. У одних раздраженно-отрицательная. «Мне это неинтересно, значит, тут и интересоваться нечем. А они только делают вид, что без этого жить не могут!» А лучше отнестись к тому, что нам непонятно, по-другому.
Когда я стал студентом Института истории, философии и литературы, многое связало меня сразу с новыми товарищами. Мы серьезно занимались литературой, историей, языками. Многие из нас пробовали писать сами. Словно предчувствуя, каким недолгим будет наше студенчество, спешили успеть как можно больше. Слушали лекции не только на своих курсах, но и ходили на лекции, читавшиеся старшекурсникам. Посещали занятия по истории изобразительного искусства. Успевали на семинары молодых прозаиков и критиков. Старались не пропускать театральные премьеры и литературные вечера. Как мы все успевали, не знаю, но успевали. Меня приняли в свою среду студенты, которые были на курс старше нашего. Интереснейшая то была компания.
Я старался не отставать от нее и мне это удавалось. За одним исключением. Мои новые товарищи горячо интересовались музыкой. На наших встречах не было вина. Мы читали стихи и слушали музыку. У одного из нас была большая по тем временам редкость: радиола с устройством для переворачивания пластинок – долгоиграющих тогда еще не было, – которая позволяла прослушать целую симфонию, концерт или оперу без перерывов. И коллекция камерной, оперной и симфонической музыки.
Когда начиналась эта непременная часть нашего вечера, товарищи слушали и наслаждались, а я скучал, томился, мучился – музыки я не понимал и радости она мне не доставляла. Конечно, можно было притвориться, прикинуться, придать лицу подобающее выражение, проговорить вслед за всеми: «Прекрасно!» Но притворяться, изображать чувства, которых не испытываешь, у нас было не в обычае. Я забивался в угол и страдал, чувствуя себя выключенным из того, что так много значит для моих товарищей.
А кроме музыки дома были еще и концерты. Я шел на них вместе со всеми и среди людей, для которых это было праздником, ощущал себя отделенным от них и обделенным. Конечно, можно было просто в следующий раз не пойти – ну, не понимаю я музыки, неинтересна мне она, не изгонят же они меня за это из своей компании! Но я продолжал ходить вместе со всеми. У меня хватило ума не прикидываться понимающим, не высказываться…
Хорошо помню, как произошел перелом. Конечно, он готовился незаметно и исподволь: столько вечеров слушания музыки не прошли бесследно. Я просто еще не подозревал об этом. Зимой 1940 года был объявлен авторский вечер тогда еще молодого Д. Д. Шостаковича – первое исполнение его фортепианного квинтета. Друзья взяли билет и мне. Вручали его торжественно. Я понял: то, что предстоит – событие! Концерт состоялся в Малом зале консерватории. Сказать, что в переполненном зале была приподнятая атмосфера, – значит не сказать ничего. Было ожидание чуда. О квинтете в музыкальной Москве уже много говорили.
Мы сидели на балконе среди студентов-консерваторцев. У некоторых из них на коленях лежали развернутые партитуры – кажется, еще не отпечатанные, переписанные от руки.
Не стану утверждать, что я в тот вечер сразу и навсегда излечился от невосприимчивости к музыке. Но поворот – решительный и важный – произошел. Как я благодарен своим друзьям тех давних лет, что они не махнули на меня рукой, не исключили из слушания музыки – а ведь и исключать не нужно было, при тогдашнем юношески-ранимом самолюбии хватило бы иронической реплики, чтобы я почувствовал себя среди них, понимающих и знающих, лишним. Этого не случилось.
Прошло много лет. Уже давно серьезная музыка – для меня, необходимость, потребность, счастье.
А ведь можно было – навсегда и непоправимо – разминуться с ней. И обездолить себя.
Этого не случилось. И потому, что я не встал в позу человека, который, не понимая чего‑нибудь, говорит – вслух или мысленно: – Ну и не надо! И потому, что не захотел притворяться, делая вид, что понимаю, когда еще был очень далек от этого. А больше всего – благодаря моим друзьям. Им мало было наслаждаться самим. Им хотелось и меня приобщить к своему пониманию, к своей радости. И это им удалось! Удалось вполне.
Среди многого, чем одарили меня, мои, увы, недолгие годы студенческой юности, это был один из самых больших даров.
Горькая тема
Недавно мне в троллейбусе уступила место молодая женщина. Кровь ударила в лицо. Я смутился.
– Спасибо! Что вы?! Не надо! – сказал, не садясь.
А она, стоя передо мной, снова приветливо и, увы, участливо предлагала мне сесть. Потом тоже смутилась и тихо сказала:
– Извините!
Так мы и остались стоять и испытали несказанное облегчение, когда на освобожденное ею место сел другой пассажир.
– Почему ты такой мрачный? – спросили меня дома. – Ты себя плохо чувствуешь?
– Нет, неплохо, – ответил я. А мог бы сказать: – Я себя чувствую отвратительно!
Позади был целый день работы в библиотеке, увлеченной и, как мне казалось, успешной. Настроение – оно у меня определяется тем, как шла работа, – было хорошим. Но в него ворвалось напоминание о возрасте.
Долго я был среди окружающих самым младшим. Самым младшим в классе. Самым младшим на курсе в институте и в студенческой компании. Самым молодым преподавателем на кафедре. Потом самым молодым заведующим отделом в редакции. И даже, когда «Скорая помощь» доставила меня в больницу и врач сказал: – Рановато это с вами! – я, тридцатипятилетний, оказался самым младшим в огромной – человек на пятнадцать – палате.
А потом однажды меня пригласили на юбилейный вечер литературной студии Дома пионеров, в которой я занимался школьником. Было это в конце шестидесятых годов. Студия отмечала тридцатилетие. Руководительница, предоставляя мне слово, сказала торжественно:
– Выступает старейший питомец студии!
Я улыбнулся – было мне тогда сорок пять. Старейшим себя не ощущал. Мне казалось – жизнь началась недавно и все впереди. Ведь мне было всего двадцать три года, когда кончилась война и я вернулся с фронта. И тогда, когда начал работать в газете, мне по-прежнему казалось: все еще впереди.
Возраст напоминал о себе не изменениями в здоровье, хотя госпитали и больницы рано ворвались в мою жизнь – но с кем в нашем поколении было иначе?
Возраст напоминал о себе по-другому. Перечитывая любимые книги, вначале замечал, что сравнялся годами с их героями, потом обогнал их. Потом я стал старше, чем был мой отец, который погиб на фронте, когда ему был сорок один год. Старше, чем мама, которая умерла, когда ей было сорок шесть…
В юности я прочитал в книге В. Вересаева размышления о старости. Вересаев, а было ему тогда, когда он писал их, шестьдесят лет, рассуждал, что старость приносит человеку не только неизбежные тяготы, но, если он мудро относится к ней, и радости, неведомые другим возрастам. Его мысли показались мне примечательными. Я их выписал в тетрадь. Но и читая, и выписывая эти прочувствованные, выстраданные строки, умом понимая, что в них много мудрого, воспринимал их, как нечто, меня не касавшееся. Я ни на миг не мог представить себе самого себя в возрасте В. В. Вересаева и тех людей, о которых он писал. Недавно перечитал эти страницы В. Вересаева. Теперь его рассуждения о старости касались меня напоминанием о том, что придвинулось ко мне на расстояние более близкое, чем отодвинулась от меня моя уже далекая молодость. Но странное дело, я перечитал эти страницы как нечто ко мне отношения не имеющее.
Продиктованный самыми лучшими побуждениями поступок милой молодой женщины стал убедительным напоминанием: старость пришла.
Проблема «Быть или казаться?» особенно остро встает перед нами в молодости и особенно трудно ее решить в молодые годы. Но оказывается, ее продолжаешь решать и тогда, когда уже давно не молод.
Какого бы возраста человек не достиг, ему полезно помнить: у каждого возраста – и у того, который он уже миновал, и у того, к которому он принадлежит, и у того, к которому он приближается, – свои особенности, свои радости, проблемы, свои боли и права. Когда старые люди раздражаются на молодых и осуждают их всех скопом, это огорчительно, даже если происходит с позиций достойно прожитой жизни, умудренности, опыта и знаний. Не менее огорчительно, когда молодые с позиций своего здоровья, подвижности, готовности к новому, раздражаются на стариков. Все мы были когда‑то молоды и все мы когда‑нибудь состаримся. Ни гордиться этим, ни раздражаться не приходится. Понимание этого дано не всем нам. А это – источник многих, часто драматических недоразумений.
Несколько лет назад я видел спектакль. Он был поставлен по талантливой пьесе. Запомнились меткие наблюдения, точные приметы времени, живой диалог. Однако при некотором размышлении замечалась одна особенность пьесы и спектакля.
В центре действия пьесы был человек лет сорока – сорока пяти, ровесник автора. Центральный персонаж автор наделил характером мужественным, крупным, знающим и жизнь и цену себе в этой жизни. Молодые люди, его окружавшие, ни в чем не могли с ним потягаться: они суетились, не слишком удачно острили, не очень убедительно рассуждали. И даже, когда нужно было проявить не бог весть какую смелость и силу, чтобы обуздать буяна, они оказывались более робкими и более слабыми, чем тот, кто был много старше их. Словом, во всем проигрывали по сравнению с ним. Самая привлекательная молодая женщина безоговорочно отдавала предпочтение старшему. Сомнений, что такая ситуация в принципе возможна, нет. Бескорыстность ее чувства тоже не вызывала сомнений. Ее избранник не был преуспевающим человеком. Благополучия и даже простого комфорта он ей не сулил. Героиня полюбила его за человеческие достоинства и готова была последовать за ним на край света, где он занимался своим скромным, суровым и нужным делом.
Для полной убедительности пьесе и спектаклю недоставало малости – справедливого отношения автора к действующим лицам разных возрастов. Все симпатии, все выигрышные положения, все яркие краски он отдал своему сверстнику. Молодые люди, с которыми тот вступал в невольное состязание, были с самого начала обречены на поражение. Автор словно забыл, что он сам сравнительно недавно был молод и не согласился бы тогда, что молодость бледна, неумна, неинтересна. Хорошо чувствуя силу зрелости, обаяние опыта и уверенности, он забыл или не хотел вспоминать обаяния молодости, неопытности, непосредственности.
Психологический поединок на сцене не был поединком равных – это было состязание живого человека с тенями. И в этом состязании автор подыгрывал и подсуживал герою – своему сверстнику. По-человечески это понятно: ему хотелось, чтобы его герой, а в лице героя – поколение, к которому принадлежал автор, было награждено за свою нелегкую жизнь любовью прекрасной женщины. И он, движимый этим чувством, обделил и обезоружил его возможных соперников. Конфликт обмелен, победа досталась легко и не по справедливости. Были принесены в жертву жизненная правда и художественная объективность, от которых не отступает настоящее искусство.
Размышляя об этом, я с внутренним смущением вспоминал: а ведь и у меня есть повесть, в которой я тоже подыгрывал главному герою, своему сверстнику, которому, как и мне, когда я писал повесть, было лет тридцать пять, сделав его значительнее и интереснее сверстника молодой героини. Не так‑то просто усвоить объективный подход к возрасту – и своему, и окружающих.
Большие писатели этой способностью обладали. Замечательный пример – повесть Чехова «Скучная история. Из записок старого человека». Чехов написал ее, когда ему было двадцать восемь лет. По нынешним понятиям молодой человек! Главному герою повести – известному медику, профессору Николаю Степановичу – шестьдесят два года: он на тридцать три года старше того, кто создал его образ.
Как ясно, полно, объективно представляет себе молодой Чехов старого человека, как естественно перевоплощается в него! Тут все верно и точно, воспоминания о безвозвратно ушедшей молодости и об ушедших в небытие друзьях; недомогания; мучения стариковской бессонницы; горечь отчуждения, возникшего между ним и женой; обиды – справедливые и несправедливые на детей – сына и дочь, которые не понимают отцовских забот, тревог, непосильности бремени; мудрое понимание, что нельзя таить злого чувства против членов семьи – обыкновенных людей, только за то, что они, увы, не герои; сохранившийся и с годами обострившийся интерес к людям, особенно к молодежи, к ученикам; превозмогающая годы и слабости любовь к своему делу, к науке, к факультету, к университету; высокий душевный подъем, когда он делает то, для чего создан, к чему призван, – читает лекцию, когда испытывает прилив вдохновения. Но сил уже нет, даже на ногах выстоять всю лекцию трудно, а читать сидя не позволяет привычка.
«Мои совесть и ум говорят мне, – думает герой повести, – что самое лучшее, что я мог бы теперь сделать – это прочесть мальчикам (удивительно точно звучит тут слово: „мальчики“. – С. Л.) прощальную лекцию, сказать им последнее слово… и уступить свое место человеку, который моложе и сильнее меня. Но пусть судит меня бог, у меня не хватает мужества поступить по совести».
Все в повести обостряется тем, что Николай Степанович не просто старый человек. Он медик. И знает – его недомогания не просто следствие возраста, они признаки неизлечимой болезни.
«Мне отлично известно, что проживу я еще не больше полугода…» Но он – и это тоже правдиво, ибо свойственно людям, прожившим деятельную жизнь, – не желает думать о смерти, не цепляется за мысль о жизни в ином мире. Он остается и перед лицом близкой смерти верным себе, своим убеждениям: «Как 20–30 лет назад, так и теперь перед смертью меня интересует одна только наука. Испуская последний вздох, я все‑таки буду верить, что наука – самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, что она всегда была и будет высшим проявлением любви и что только ею одною человек победит природу и себя». Нам нетрудно сказать, что никогда всех проблем человека и человечества наука сама по себе не решит. Но не лучше ли восхититься верой старого человека в то, чему он отдал всю свою жизнь!
Произнеся эти прекрасные и неожиданные для него, чуждого патетике, патетические слова, он скромно и строго оговаривается: «Вера эта, быть может, наивна и несправедлива в своем основании, но я не виноват, что верю так, а не иначе; победить же в себе этой веры я не могу».
Читаем исповедь старого, усталого, много потрудившегося, достойного человека и не задумываемся о том, как мог двадцативосьмилетний писатель так перешагнуть возрастной барьер, а верим в реальность созданного им человека – и тогда, когда он по-стариковски слаб и несправедлив, и тогда, когда он по-стариковски мудр.
Есть у Чехова другие старики, не умеющие мудро встретить старость, достойно доживать свои годы, но и они написаны с пониманием того, почему они такие.
В великой литературе немало подобных примеров. Один из самых поучительных – роман немецкого писателя Томаса Манна «Будденброки». Томас Манн закончил роман, когда ему было двадцать пять лет. В этой книге выведено несколько поколений – прадеды, деды, отцы, сыновья, внуки, правнуки. И каждое поколение показано с пониманием его особенностей, привычек, надежд, волнений, тревог, разочарований. Кажется, что писатель к двадцати пяти годам прожил несколько жизней, ощутил все, что дано ощутить человеку в детстве, в юности, в зрелости, в старости.
Нельзя, конечно, требовать, чтобы каждый человек был наделен таким сильным воображением и таким даром психологического прозрения, чтобы мысленно выходить за пределы своего возраста. Но хотя бы малой частицы такого понимания можно пожелать каждому, сознательно относящемуся к окружающим. Прежде всего – к самому себе. Это избавит от многих недоразумений и сделает собственную жизнь богаче и полнее, позволит жить интересами не только своего возраста и поколения, но и тех, кто моложе, и тех, кто старше.
Умеем ли мы поглядеть на себя со стороны? Трезво и вовремя увидеть, каким я кажусь себе и каким представляюсь окружающим.
Людям, которые прожили большую жизнь, накопили опыт и знания, свойственно желание передать это богатство; помочь, научить, объяснить, подсказать. Оно часто приносит прекрасные плоды. Но нередко благие желания оборачиваются не так, как хотелось бы.
Вам не случалось иногда с огорчением замечать, что общение с собеседником, который старше вас, с которым вас долго связывали добрые отношения, стало затруднительным? Прежде вы стремились к нему, теперь начинаете его избегать. Почему? Нередко это происходит тогда, когда ваш диалог постепенно переходит в монолог. Вашему знакомому, еще недавно умевшему говорить не только о том, что кажется важным ему, но и слушать вас, ваши мысли перестали быть интересны. Он слушает нетерпеливо, перебивает на полуслове. Еще не уяснив вашу точку зрения, спешит высказать свою и делает это самоуверенно.
Мы любим учиться, но не любим, чтобы нас поучали. Охотно участвуя в диалоге, не очень‑то хотим выслушивать монологи. В душе возникает неосознанный, потом отчетливый протест. Даже верные суждения, разумные советы знакомого и друга вызывают желание возразить.
Вначале с досадой, а потом с обидой замечаем мы такие изменения в собеседнике. Но всегда ли мы видим их в себе? Вовремя обнаружить их, постараться победить их трудно, но очень важно. Прекрасно, когда человеку есть о чем рассказать. Еще лучше, когда он умеет не только говорить, но и слушать. Не только учить, но и учиться.
Быть или казаться? Явно или неявно этот вопрос возникает и тогда, когда нам кажется, что мы его давно решили, определили стиль и манеру своего поведения, ведем себя естественно и просто. Но не случалось ли вам замечать, как иногда меняются немолодые люди, попав в общество, которое много моложе их. Один ведет себя сообразно своим годам и привычкам. Другой подлаживается под несвойственный ему тон, подражает не присущим ему манерам, становится не по годам бойким, развязным, торопливо подхватывает модные словечки, играет роль свойского парня. Суетится. Иногда замечает в глазах молодых искру иронии, а иногда, что еще хуже, не замечает ее. Кажется себе душой общества, рискуя стать его посмешищем.
Согласно вековым традициям русского языка, взрослого человека принято называть по имени-отчеству. Граница этого обращения на нашей памяти сильно изменилась. Сейчас не редкость, когда тридцатипятилетнего, даже сорокалетнего человека называют, да и он сам называет себя «Володей» и «Вовой», «Колей», «Эдиком», «Стасиком», «Жоржиком». Мне всегда это казалось странным, хотя, по-видимому, это изменение в языковых обычаях и возражать против него бессмысленно. Однако немолодой человек, который, попав в молодое общество, когда ему представляются «Феди», «Левы», «Васи», «Пети», отвечает не «Федор Константинович» или «Геннадий Николаевич», а «Федя» или «Гена» – смешон, как всякая попытка казаться не тем, что ты есть. Тем более, что в обиходе порой обращение без отчества, а по имени, тем более уменьшительному, сохраняется нередко на всю жизнь за теми, кого не принимают всерьез, не уважают, кто до седых волос пребывает в недорослях.
Мне случается часто видеть эту женщину. Впрочем, к ней больше подходит слово – дама. Вероятно, она когда‑то была недурна собой. Возможно и сейчас выглядела бы неплохо, если бы понимала, что, увы, давно, уже очень давно, немолода и что одеваться ей следовало бы соответственно возрасту. А она в свои годы все поспешает за модой, да еще в ее наиболее экстравагантных вариантах. То появлялась в мини-юбках, то в узких черных кожаных штанах с бахромой, как в ковбойском фильме из жизни Дикого Запада, то в платьице романтического стиля с воланчиками, рюшками, оборочками. Вид пугающе-гротескный. Невольно отводишь глаза.








