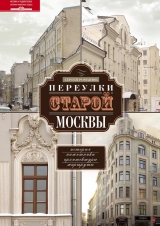
Текст книги "Переулки старой Москвы. История. Памятники архитектуры. Маршруты"
Автор книги: Сергей Романюк
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 61 страниц) [доступный отрывок для чтения: 22 страниц]
Глава IX
У ЧИСТОГО ПРУДА
Между Мясницкой и Покровкой
До нас дошел первый документ, где встречается имя «Москва» – это летописное упоминание в записи от 1147 г.: «…и прислав Гюрги и рече: „приди ко мне брате, в Москов”. Святослав же еха к нему с детятем своим Олгом, в мале дружине, пойма с собою Володимира Святославича; Олег же еха наперед к Гюргеви, и да ему пардус. И приеха по нем отец его Святослав, и тако любезно целовастася, в день пяток, на Похвалу святей Богородици, и тако быша весели. На оутрии же день повеле Гюрги устроити обед силен, и створи честь великоу им, и да Святославу дары многи, с любовию, и сынови его Олгови и Володимеру Святославичю и муже Святославле учреди. И тако отпусти и». Произошло это 4 апреля (11 апреля по новому стилю) 1147 г.
В разгар феодальных распрей Юрий (Гюрги в летописях) Долгорукий пригласил своего союзника, князя Святослава Ольговича Черниговского, на свидание в Москву. Сначала в Москву прибыл сын Святослава Олег и подарил Юрию шкуру барса («пардуса»). В Москве они пировали («устроили обед силен») и обменялись подарками.
Итак, в 1147 г. летопись случайно упомянула Москву, где остановились двое князей с дружинами, но не осталось никаких указаний на то, как, когда и кем был основан этот город. Возникновение крупного города, оставившего свое имя в истории страны и мира, неизбежно обрастает легендами и преданиями, в особенности тогда, когда источников либо вообще нет, либо обидно мало, или они противоречат самим себе.
Так и Москва, о начале которой сложено немало рассказов, преданий и легенд, которые появились довольно поздно – в первой половине XVII в., когда москвитяне задумались о корнях своего государства и задались вопросом «и почему было Москве царством быть и кто то знал, что Москве государством слыти». Многие из которых рассказывают о совершенно невероятных событиях, как, например, предание о построении Москвы князем Олегом, основанное на сообщении летописи, что он вообще «нача грады ставити многие» и поэтому, мол, построил Москву, хотя и нет и не может быть вообще никаких сведений о том, что Олег был в этих дальних диких местах. К таким выдумкам можно отнести и рассказ об князе Даниле, который, взяв с собою «некоего греченина именем Василия млада и знающа зело и ведающа чему впредь быти», отправился в поездку по княжеству «и въехав с ним во остров темен и непроходим зело, в нем ж бе болото велико и топко, и посреде того болота и острова узре князь великий Данило Иванович зверя превелика и пречюдна троеглава и красна зело. И вопросиша Василия греченина, что есть видение се пречюднаго зверя. И сказа ему Василий греченин: „Великий княже, на сем месте созиждется град превелик и распространится царьствие треугольное, и в нем умножатся разных различных орд люди, то есть прообразуют зверя сего троеглавого”».
Наряду с этими и им подобными легендами есть и такие, которые могут быть связаны с реальными лицами. Так, например, поздний рассказ, упоминающий некоего Стефана Кучко. Князь Юрий Долгорукий, направляясь из Киева во Владимир, «прииде ва место, идеже ныне царьствующиий град Москва». Там стояли «обо полы Москви реки села красные, сими же селы владающу тогда Болярину, богату сущу, именем Кучку Стефану Иванову». Оказалось, что «Кучка возгордевься зело не почте Великого Князя подобающею честию, яко же довлеет великим княземь, но и поносив ему к тому жь. Князь же Великий Юрьи Владимирович, ве стерпя хулы его той, повелевает того Болярина ухватити и смерти предати. И сему тако бывши. Сыны же его видев млады сущи и лепы зело, имянем Петр и Аким, и дщерь едину такову же благообразну и лепо сущу, именем Улиту, отосла во Владимир, к сыну своему ко князю Андрею Юрьевичю».
О Кучке древние источники не сообщают нам ничего, но вот Кучковичи, его родственники, упоминаются в летописи во вполне достоверном рассказе об убийстве князя Андрея Боголюбского, сына Юрия Долгорукого, этими самыми Кучковичами.
У одного из многочисленных авторов, писавших об этих легендарных временах, А.П. Сумарокова в его «О перьвоначалии и созидании Москвы» есть даже прямое указание на то, что дом Кучки находился у Чистого пруда: «А жилище Кучково было у Чистого пруда». По преданию, тело убитого владельца сел по приказу князя и бросили в пруд, отчего якобы он стал называться Поганым. Но это легенда, а в действительности в Москве пруд назвали так потому, что около него селились иноземцы, которых правоверные москвичи называли «погаными», то есть язычниками. В Древнем Риме христиане, жившие в основном в городах, называли крестьян, веровавших в старых богов, paganus, то есть язычниками.
Еще в позапрошлом веке из-за незнания топографии старинной Москвы утвердилось мнение, что этот пруд находился на месте современного Чистого пруда и сначала назывался Поганым оттого, что в него спускались отбросы от мясных боен, находившихся у Мясницких ворот Белого города. Версия эта неосновательна хотя бы потому, что для мясников не было никакого смысла идти с отбросами километр до пруда и бросать их там. Они обходились с «отходами производства» значительно проще и гигиеничнее – закапывали их в землю. Вблизи от Мясницких ворот при раскопках в Костянском переулке обнаружили большое количество костей животных (откуда и его название).
Но, как выяснилось после внимательного прочтения многих документов, Поганый пруд находился внутри стен Белого города и можно предположить, что он располагался там, где было много дворов иноземцев, между Мясницкой улицей и Покровкой – внутри квартала, ограниченного Архангельским, Потаповским и Сверчковым переулками.
А вот там, где была стена Белого города и где ныне проходит Чистопрудный бульвар, долгое время находились пруды, оставшиеся от крепостного рва. На планах середины XVIII в. показаны три пруда, один из них, ближе к Покровским воротам, большой, и два других, по направлению к Мясницким воротам, значительно меньше. Тогда существовал и проект устроить вдоль крепостной стены бульвар, где «по способности места надлежит быть трем прудам», длиной 60, 24 и 38 саженей, показанным на архивном чертеже. Возможно, что пруды перед стеной явились причиной наименования нынешнего пруда, устроенного на их месте только в начале XIX в., во множественном числе – Чистые пруды.
Название Лучникова переулкапроизошло, по одной версии, от торговцев луком, а по другой – от ремесленников, изготовлявших метательное оружие – луки. До 1922 г. переулок назывался Георгиевским по церкви, здание которой стоит в Лубянском проезде (№ 9). Она называлась в древности «у старой Коровьей площадки», а в переписи 1638 г. – «Егорий в Лушках», то есть в лужках для выгона скота, ведь Георгий издавна считался на Руси покровителем скотоводства. Еще одно название этой церкви – «что у старых тюрем», которые, очевидно, стояли за пределами посада, на торной дороге, которая проходила от Ильинских ворот по современным Лучникову и Милютинскому переулкам, Сретенке в направлении к северо-восточным городам Переяславлю и Владимиру. Ее каменное здание было возведено на средства богатого купца – гостя Гавриила Никитича Романова в 1692–1694 гг. Георгиевскую церковь закрыли в 1932 г. и передали соседнему ведомству, и за долгие годы хозяйничанья большевиков-чекистов она была настолько обезображена, что, глядя теперь на изящное здание с красивыми барочными наличниками окон, со стройной колоколенкой, завершенной острым шатриком над ярусом звона, трудно представить себе, что это представляло собой еще недавно.

Большой Златоустинский переулок. 1913 г.
Рядом с церковью стоял Армянский двор, где останавливались купцы с Востока; в 1635 г. он перешел к англичанам и стал называться Новым Английским двором (Старый находился на Варварке). После разрыва торговых отношений с Англией двор конфисковали и в нем разместили монетный двор, где чеканилась медная монета. Участок огородили тыном, а сверху на 10 саженей (около 20 метров) в глубь его натянули сети, чтобы помешать перекидывать отчеканенные монеты на улицу. На месте этого двора в XVIII в. уже находилось несколько участков частных лиц.
Дом № 1/11 по Лучникову переулку принадлежал XVIII в. – это был пример обычного обывательского строения, не лишенного определенного изящества благодаря крупному русту. Дом, на первом этаже которого работала закусочная, работавшая когда-то всю ночь (редкий случай в Москве), сломали, и на его месте выстроен в 1997 г. новый в формах, похожих на архитектурные формы соседнего, через переулок. Левая часть дома № 5 по Лучникову переулку показана на плане 1827 г. Через 50 лет архитектор М.И. Никифоров капитально перестраивает его, увеличивая до четырех этажей и делая справа пристройку. В этом доме жил поэт А.М. Жемчужников. Напротив, во дворе дома № 4, находятся мало кому известные палаты XVIII в., в которых, может быть, есть и части значительно более старые. Этот дом в начале XIX в. принадлежал И.В. Скворцову, владельцу того самого участка на углу Малой Почтовой улицы и Госпитального переулка, где 26 мая 1799 г. родился А.С. Пушкин.
Из Лучникова переулка мы выходим в Большой Златоустинский переулок, названный по монастырю, стоявшему в нем с XV в. и разрушенному советской властью в XX в. Она же и переименовала переулок в июне 1930 г. в Большой Комсомольский в разгаре антирелигиозной кампании, – возможно, что какой-нибудь чин из ОГПУ просто приказал переименовать переулок, ведь тогда здесь планировался для них жилой дом (часто пишут, что переименовали его потому, что в переулке находился центральный комитет комсомольцев, но это ошибка).
В самом начале левой стороны переулка – два дома. Дом под № 1 построен в 1871 г., а № 3 был построен архитектором В.В. Шаубом в 1900 г. для конторы и магазина Невской ниточной мануфактуры. Эти два здания располагаются на большой усадьбе, которая в начале XVIII в. принадлежала стольнику Федору Михайловичу Клешнину, а с 1738 по 1775 г. – генерал-аншефу и кавалеру ордена св. Александра Невского Ивану Алексеевичу Салтыкову (брат его Глеб был женат на Салтычихе) и его жене Анастасии Петровне, урожденной Толстой, у которых в центре участка стояли каменные палаты. В 1758 г. владелец просил переменить на них кровлю, и к этому прошению был приложен план, на котором изображены каменные палаты глаголем, стоящие в глубине участка, в 8 саженях от линии переулка. Потом они принадлежали княгине М.С. Голицыной (7 февраля 1777 г. в «Московских ведомостях» объявили о продаже его), купцу Ф.И. Кожевникову и его сыну.
У них снимал квартиру историк и журналист М.П. Погодин с семьей (матерью и братом), у которого с 27 марта 1829 г. за дружеским завтраком собрались А.С. Пушкин, А. Мицкевич, С.Т. Аксаков, А.Н. Верстовский, М.С. Щепкин, А.С. Хомяков и др. Это была одна из последних встреч двух великих славянских поэтов. Погодин записал в дневнике: «27. <…> Завтрак у меня: представители русской образованности и просвещения. Разговор от еды и до Евангелия, без всякой последовательности, как и обыкновенно. Ничего не удержал, потому что не было ничего для меня нового, а надо бы помнить все пушкинское. Верстовскому и Аксакову не понравилось. Нечего было сказать о разговоре Пушкина и Мицкевича, кроме: предрассудок холоден, а вера горяча». С.Т. Аксаков передавал свои впечатления: «С неделю назад завтракал я с Пушкиным, Мицкевичем и другими у Михаила Петровича. Первый держал себя ужасно, гадко отвратительно; второй – прекрасно. Посудите, каковы были разговоры, что второй два раза принужден был сказать: ”гг., порядочные люди и наедине сами с собою не говорят о таких вещах”».
А.С. Пушкин еще раз приезжает сюда к Погодину – 23 марта 1830 г. он проводит день в обществе Н.И. Надеждина, А.С. Хомякова, Н.М. Языкова, К.Ф. Калайдовича, Ю.И. Венелина, и др., а также преподавателей Московского университета Д.М. Перевощикова и М.А. Максимовича. Погодин рассказывал об этой встрече в письме С.П. Шевыреву: «Литературных новостей множество. Пушкин здесь. Как бы ты думал – его ругают во всех почти журналах. Мои отношения к нему прежние, то есть очень хорошие. Языков тоже здесь, привез нам множество драгоценных исторических материалов и предан „Московскому вестнику” душевно. И Хомяков здесь. Вчера были они все вместе у меня, и недоставало тебя для этой кадрили поэтов. Другая кадриль была Славянских археологов…»
На месте дома № 5 находились постройки Златоустовского монастыря. Он был одним из древних в Москве – несомненно, существовал еще до первого упоминания его в Новгородской летописи 1412 г. о кончине архидьякона новгородского митрополита владыки Ивана: «Ездил владыко Иван на Москву к митрополиту Фотею; и тамо преставися Иаким диакон, месяца марта 9, и положен бысть в монастыри святаго Иоана Златоустаго».
Монастырь значился как «изначала гостей Московских строение». Небольшой и не очень известный монастырек на восточной окраине города дожил до того дня, когда на него обратил внимание сам великий князь Иван III. Монастырь «уже и оскудевати начят» и весьма нуждался в поновлении, но помогло то обстоятельство, что монастырский собор был освящен в память Иоанна Златоуста, соименного великому князю. В 1479 г. Иван III разобрал «преже бывшую древяную» церковь и вместо нее заложил каменное здание собора монастыря, освященного также во имя Иоанна Златоуста, «понеже бо имя его наречено бысть, егда бывает праздник Пренесения Ивана Златоустаго». Уже построенное здание долго стояло неосвященным, так как великий князь и митрополит не могли прийти к очень важному соглашению, как ходить с крестами – по солнцу или против. Иван III построил в монастыре также и еще одну церковь – св. Тимофея, память которого праздновалась в день рождения великого князя: «в той бо день родися». В Никоновской летописи было сказано: «того же лета (6987, то есть 1479 г. – Авт.)князь великый Иван Васильевичь заложи церковь каменную Ивана Златоустого, а преже бывшую древяную, разобрав, бе же та церковь изначала гостей Московских строение, и понеже бо имя его наречено бысть, егда бывает праздник Пренесения Ивана Златаустого генваря 27; а в застинки тоя церкви повеле церковь другую учинити того же месяца 22 Тимофея Апостола, в той бо день родися; а ту разобранную церковь повеле поставити в своем манастыре у Покрова в Садех».

Златоустовский монастырь
Через 200 лет старый собор обветшал и был выстроен по образцу московского Успенского новый большой пятиглавый собор также во имя Иоанна Златоуста, переделанный в 1707–1708 гг. В начале XVIII в. Златоустовский монастырь стал интенсивно отстраиваться, что, вероятно, было связано с семьей Апраксиных, щедро жертвовавших в монастырь. Адмирал Федор Матвеевич Апраксин, близкий сотрудник Петра Великого, в 1713 г. выстроил Благовещенскую церковь, через год поднялась и монастырская колокольня.
Окончательно монастырь отстроили в первой половине XVIII в. Посетившая монастырь императрица Елизавета Петровна пожертвовала 2 тысячи рублей на строительство еще одной церкви – во имя св. Захарии и Елисаветы, возведенной над святыми воротами монастыря в 1742 г. по проекту архитектора И.Ф. Мичурина, и, наконец, в 1757 г. построили Троицкую церковь.
На монастырском кладбище были погребены князья Хилковы, Мосальские, Пронские, Урусовы, Засекины, Барятинские, царевичи Касимовские, Ф.М. Апраксин, любимец Петра граф А.И. Румянцев, генерал-аншеф М.А. Матюшкин, на могильном памятнике которого было написано, что он с «веселым и доброхотным сердцем, забыв прежде понесенные военные труды и все прежние случаи смерти (!), поступал смело, воевал крепко, побеждал с триумфом». Москвичи вспоминали «небольшой, но типичный монастырский дворик, весь утопающий в зелени старых лип и разросшейся сирени, с большим храмом посередине».
Большевики монастырь закрыли, кладбище заровняли и на их месте предполагали построить здания для Института востоковедения. Главный монастырский собор Иоанна Златоуста разобрали зимой 1932/33 г. (он стоял как раз на месте строения, где столовая), остальные церкви и здания сломали в основном летом 1933 г. Однако свои права предъявила значительно более важная организация, чем какой-то институт, и к застройке освободившегося участка приступил «инженерно-строительный отряд ОГПУ», который и выстроил к 1935 г. по проекту Л.З. Чериковера и Н.И. Арбузникова несколько жилых домов. При шефе чекистов Ягоде в одном из них, во дворе, получили квартиры, вероятно за какие-то особые заслуги перед этой организацией, писатели А.Н. Афиногенов и будущий секретарь писательского союза А.А. Фадеев вместе с семьей – там же жила и его супруга, актриса А.И. Степанова. Также на бывшей монастырской земле товариществом «Домострой» выстроен дом № 7 (1925 г., архитектор В.Н. Волокитин).
Дома № 9 и 11 находятся на большом участке, приобретенном знаменитым московским зодчим, имя которого неразрывно связано с целым периодом истории московской архитектуры, – М.Ф. Казаковым. Участком владел капитан-командор Иван Сенявин, дочери которого продали его Луганского пикинерного полка (пикинерами, или копейщиками, назывались пехотинцы, вооруженные длинными пиками) квартирмейстеру Петру Белавину, который имел его недолго – всего два года, и перепродал 26 августа 1782 г. за 4 тысячи рублей Матвею Федоровичу Казакову. Двухэтажный дом на углу был построен Казаковым вскоре после покупки: в то время архитектор занимался проектированием и возведением здания Московского университета, и план его дома напоминает план одного из крыльев университета, но в меньшем размере.
Дом самого Казакова сохранился – он находится на углу с Малым Златоустинским переулком под № 11. В 1875 г. его надстроили третьим этажом и оформили новым фасадом по проекту архитектора М.Д. Быковского. Предполагают, что в доме Казакова находилась руководимая им архитектурная школа. Здесь же, возможно, составлялся его знаменитый «фасадический» план Москвы, на котором должны были быть изображены все здания в пределах Земляного города. Дом известного архитектора, по воспоминаниям его учеников, «был открытым для любителей-художников, а также и ученых людей, и всякий интересовался его беседой». Теперь же дом этот находится на грани разрушения, и у города, для которого архитектор так много сделал, не находится средств, чтобы спасти его дом.
После 1812 г. (как известно, М.Ф. Казаков не пережил разрушения города, созданного и его талантом) усадьба делится на три участка. На одном из них (№ 9) уже к середине XIX в. стоял двухэтажный каменный дом, принадлежавший деду известного композитора Александра Скрябина, который ребенком жил здесь. После ранней смерти матери его воспитывали тетка Лидия Александровна и бабушки Елизавета и Мария Ивановны. Лидия Александровна окончила пансион Ларме и Мага, помещавшийся в том же здании, где позднее находилась консерватория, она очень любила музыку и много, хотя и бессистемно ею занималась. Музыка очень часто звучала в этом доме, а для маленького Саши не было большей радости, чем подаренные ему музыкальные игрушки, в трехлетнем возрасте он мог часами сидеть у рояля и что-то наигрывать, а пяти лет он играл обеими руками и верно копировал мелодии шарманщиков, заходивших во двор.
По воспоминаниям его тетки, архимандрит Златоустовского монастыря был знаком с дедом Александра и бывал у них в гостях: «он (архимандрит. – Авт.) очень любил музыку, – тайком от своих послушников заводил музыкальный ящик. Первым делом, когда он приходил к нам, сажал Сашу за рояль, садился сам около него и подолгу слушал его игру». В 1881 г. Саша, следуя семейной традиции, поступил во Второй кадетский корпус.
Дом его деда в Большом Златоустинском переулке не уцелел: на его месте в 1913 г. по проекту И.С. Кузнецова было построено производственное здание для обувной фирмы «И.Д. Баев» – контора и оптовый склад переведены сюда 1 сентября.
Возвратимся в начало переулка. Угловой дом № 2 – один из самых представительных на Мясницкой, спроектированный архитектором Ф.О. Шехтелем и построенный для владельца крупнейшей русской фарфоровой фирмы М.С. Кузнецова. Дом уже начал строится, и, как писали в газетах, фасад был уже отделан «большими глыбами розового радомского песчаника», когда 30 мая 1898 г. состоялась церемония официальной закладки.
В начале XVIII в. это владение принадлежало Зыбиным – флотскому кригс-комиссару Александру Ефимовичу, оказавшемуся замешанным в заговор против императрицы Анны Иоанновны, за что он поплатился плетьми и ссылкой, и потом его наследникам и, в частности, бригадиру и санкт-петербургскому обер-полицмейстеру Ивану Александровичу Зыбину, а с 1787 г. – камергеру князю Ивану Петровичу Тюфякину, главе театральной дирекции. От него вся усадьба перешла к сыну, последнему в роде князей Тюфякиных, действительному камергеру и директору Императорских театров в 1819–1821 гг. Петру Ивановичу. В отставке он живал в Париже, и там его сделал одним из героев своей талантливой мистификации «писем» Омер де Гелль П.П. Вяземский. Пишется, что здесь в 1813 г. находился Московский Английский клуб, но это не подтверждается документами.
Погодин 23 апреля 1830 г. заключил купчую крепость на покупку его усадьбы. Через неделю, 29 апреля 1830 г., он писал Шевыреву: «Поздравь меня на новоселье, любезный Степан Петрович. Я купил себе дом и совсем уже в него перебрался и разобрался, и пишу теперь тебе с высокого Парнаса, с которого виды на несколько верст кругом. Приезжай: кабинет для тебя чудо! Не знаю, как удастся мне эта спекуляция. Вот в чем дело. Дом на прекрасном месте (князя Тюфякина, где был пансион Перне) на стрелке четырех улиц (двух частей Мясницкой, переулка Златоустовского и Лубянского), большой каменный, с верными жильцами. Указал мне его приятель, Юрцовский, кондитер и любитель литературы (его кондитерская находилась неподалеку, на месте дома № 11. – Авт.).Я тотчас отнесся к князю, который живет в Париже, и он, не получая никакого дохода от дурного управления, согласился при посредстве Новосильцевых уступить мне его за 30 000 рублей. В моем мезонине я теперь царь: ни один звук до меня не доходит, и я, окруженный книгами, имея пред глазами живые картины, занимаюсь всласть. Дай Бог силы и здоровья!»
Недруги Погодина не преминули обыграть эту «спекуляцию» и напечатали пасквиль: историю о том, как Погодин обманул хозяина дома. К своему большому сожалению, Погодин, находясь в стесненном финансовом положении, был вынужден через четыре года продать этот так любимый им дом. «Плакал, – писал он, – вспоминая с Лизой (с женой. – Авт.). Как мало мы дорожим. Оставляем дом, где родимся, женимся. Мы все кочуем. Было очень горько». Владение приобретает в 1834 г. генерал-майорша Екатерина Петровна Бахметьева, а в 1868 г. – жена поручика Наталья Ивановна Новосильцева; в 1879 г. эту усадьбу приобретает купец, лесоторговец И.Г. Фирсанов и в следующем году дарит ее дочери Вере, которая продает ее в 1893 г. М.С. Кузнецову, владельцу «фарфоровой империи», самой большой фирмы России, производившей и торговавшей фарфоровыми и фаянсовыми изделиями. Он строит в 1898 г. внушительное здание (№ 2/8) с обширным магазином своей продукции на первом этаже. Проект его был разработан Ф.О. Шехтелем. Акцент сделан на огромные проемы окон, занимающих второй и третий этажи; на пилястрах, отделяющих арки, поставлены огромные, грубоватые головы Меркурия, бога торговли; величина окон еще более подчеркивается измельченным ритмом узких и высоких окошек последнего этажа. Представительное и тяжеловесное здание должно было отражать солидность и богатство фирмы.
Основал дело еще его дед, старообрядец Терентий Яковлев, владевший небольшой фабрикой в Гжели, потом его наследник Сидор Терентьевич расширил производство, построив фабрику в Дулеве и в Риге. Внук Матвей Сидорович с ранних лет освоил производство, окончил коммерческое училище и после смерти отца остался единоличным владельцем: он поставил себе целью стать единственным игроком на рынке, в чем почти и преуспел. Две трети всего фарфора и фаянса в России выпускались на кузнецовских фабриках, и они успешно продавались на рынках Монголии, Персии, Афганистана и других азиатских стран. Его «восточные» товары широко расходились в Средней Азии, а «китайский» фарфор даже вытеснял настоящий из Китая. Он подготавливал наступление и на западные рынки – фирма Кузнецова должна была стать мировым монополистом.
В России он скупил известные фабрики Ауэрбаха и Гарднера, и кузнецовский фарфор считался одним из самых лучших: он заслужил звание «Поставщика Двора Его Императорского Величества».
О нравах монополиста передавали такой рассказ: Кузнецов купил у Врубеля сделанную им вазу и стал, без разрешения художника, переносить его роспись на другие изделия. Протесты Врубеля не помогли, хозяин просто указал ему на дверь, но тогда Кузнецова вызвал на дуэль отличный стрелок Валентин Серов, всегда защищавший своих друзей. Кузнецов спасовал и извинился перед Врубелем.
Магазин фарфора и фаянса Кузнецова в этом доме был хорошо известен в Москве. Современник вспоминал, как он встретил в нем Антона Павловича Чехова – он покупал там кафельные плитки для своего дома в Ялте: «Я советовал ему взять изразцы голубого цвета – под цвет моря и голубого неба, но Антон Павлович сказал:
– Куда нам, старикам! Нам надо коричневые…»
В доме Кузнецова неоднократно проводились художественные выставки. Так, в 1907 г. здесь состоялась выставка картин под названием «Голубая роза», которое стало нарицательным для движения символистов. Она была организована журналом «Золотое руно» на средства его издателя Николая Рябушинского, в которой участвовали П. Кузнецов, Н. Сапунов, М. Сарьян, С. Судейкин, Н. Крымов, А. Фонвизин, А. Матвеев и другие талантливые молодые художники и скульпторы. В залах выставки, декорированных нежно-голубыми и серебристыми тканями, звучала музыка, выступали поэты Андрей Белый и Валерий Брюсов.
Перестроенный полностью дом № 4 по переулку состоял из разновременных строений: его самая старая часть, от перелома его до дворового проезда, выходила в Лучников переулок. В нее были включены стены трехэтажного особняка XVIII в., принадлежавшего Ю.А. Нелединскому-Мелецкому, популярному поэту того времени, некоторые стихотворения которого превратились в народные песни (вспомним хотя бы «Выйду ль я на реченьку…»). По воспоминаниям Вяземского, «он давал иногда великолепные праздники и созывал на обеды молодых литераторов – Жуковского, Д. Давыдова и других. Как хозяин и собеседник, он был равно гостеприимен и любезен. Он любил Москву и так устроился в ней, что думал дожить в ней век свой. Но, выехав из нея 2 сентября (1812 г. – Авт.), за несколько часов до вступления французов, он в Москву более не возвращался. Он говорил, что ему было бы слишком больно возвратиться в нее и в свой дом, опозоренный присутствием неприятеля. Это были у него не одни слова, но глубокое чувство. Кстати замечу, в этом доме была обширная зала с зеркалами во всю стену. В Вологде, куда мы с ним приютились, говорил он мне однажды, сокрушаясь об участи Москвы: „Вижу отсюда, как Французы стреляют в мои зеркала”, и прибавил, смеясь: „впрочем, признаться должно, я и сам на их месте дал бы себе эту потеху”». Дом после 1812 г. перешел к другому владельцу, который сдавал его «Школе рисования в отношении к искусствам и ремеслам», известной более под именем Строгановского училища, основанного в 1825 г. С.Г. Строгановым, известным меценатом, археологом и коллекционером, для подготовки специалистов прикладного искусства. Возможно, в этом доме в 1820-х гг. жила семья Каролины Яниш, будущей известной поэтессы. Поэт Адам Мицкевич давал ей уроки польского языка и часто посещал семью Яниш.
В 1840-х гг. дом перешел в руки богатой купеческой семьи Мазуриных. Преступление, совершенное одним из Мазуриных в 1866 г. в этом доме, – он убил и ограбил своего приятеля ювелира, – нашло отражение в романе Ф.М. Достоевского «Идиот». Настасья Филипповна говорит: «…дом мрачный, скучный, и в нем тайна. Я уверена, что у него в ящике спрятана бритва, обмотанная шелком, как у того московского убийцы; тот тоже жил с матерью в одном доме и тоже перевязал бритву шелком, чтобы перерезать одно горло». Убийца был осужден к 15 годам каторги, но уже через 9 лет московские газеты сообщали, что видели его за границей. Еще один случай, но не такой трагический, а скорее комический, случился в этом же доме в 1870 г. Тогда Москва прочла в газете, что «5-го февраля, в доме Мазуриной, во время бывшего там свадебного вечера, в задних сенях дома был сломан мошенниками замок и унесено до 2 пудов медных форм, в которых находились приготовленные для стола заливное и мороженое».
К концу XIX в. участок перешел к известной семье купцов Бахрушиных, которые в 1882, 1900 и 1903 гг. застраивают его несколькими жилыми домами, которые сейчас все полностью перестроены.
В России была широко известна фирма Стахеевых, купцов из города Елабуги. Основатель ее занимался торговыми операциями в Приволжье и Сибири, а его потомки скупали хлеб и зерновые продукты и отправляли их в Центральную Россию и за границу, привозили чай, сахар, текстильные товары и еще многое другое. В начале ХХ в. Стахеевы имели нефтяные промыслы, собственные пароходства, фабрики, мельницы и десятки магазинов во многих городах России.
Один из Стахеевых – Николай Дмитриевич – вложил крупные средства в добычу донбасского угля и эмбинской нефти, а также занимался в Москве покупкой домов. Его великолепный особняк с прекрасными сохранившимися интерьерами, построенный архитектором М.Ф. Бугровским, находится на Новой Басманной (№ 14), а здесь, в Большом Златоустинском, тот же архитектор возводит протяженное здание (№ 6), где до большевистского переворота помещались «Большая Сибирская гостиница» и магазины на первом этаже. Сразу же после того, как в 1918 г. в Москве обосновались захватившие власть большевики, здание было занято ВСНХ (то есть Высшим советом народного хозяйства), в 1920-х гг. здесь были Комитет по делам изобретений, Центральный дом крестьянина и общество «Долой неграмотность», Центральный совет профсоюза работников сельского и лесного хозяйства (Всеработземлес), сельскохозяйственный музей, а в 1930-х гг. – Народный комиссариат земледелия, а также редакция журнала «Наука и жизнь». В июне 1929 г. в этом здании проходил I Всероссийский съезд крестьянских писателей под лозунгом «Нам нужен особый крестьянский писатель, идеологические устремления. которого были бы пролетарскими», где выступали Горький и Луначарский. Если последний убеждал писателей не входить ни в какие компромиссы с «чуждой идеологией» и решительно наступать на капиталистические элементы в деревне, то Горький, целиком поддерживая Луначарского, отметил, что надо работать над языком, и как-то двусмысленно посетовал, что, видите ли, те, «которые были вчера кочегарами, пастухами, сегодня уже пишут».








