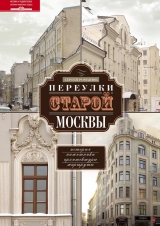
Текст книги "Переулки старой Москвы. История. Памятники архитектуры. Маршруты"
Автор книги: Сергей Романюк
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 61 страниц) [доступный отрывок для чтения: 22 страниц]
В 1833 г. «чиновница 7-го класса Авдотья Бове» продала главный дом и большую часть владения, оставив за собой небольшую долю (где сейчас дом № 8). Надо сказать, что супруги Бове часто сдавали главный дом внаем. Так, в конце 1820-х гг. в нем постоянно жил генерал-майор М.А. Дмитриев-Мамонов, один из создателей ранней преддекабристской организации – «Ордена русских рыцарей». Дмитриев-Мамонов в 1812 г., будучи одним из самых богатых людей в России, вызвался на свой счет набрать, обмундировать и вооружить целый полк. Тогда, в начале Отечественной войны, как писал А.С. Пушкин в своем неоконченном романе «Рославлев», «везде повторяли бессмертную речь молодого графа Мамонова, пожертвовавшего всем своим состоянием. Некоторые маменьки после того заметили, что граф уже не такой завидный жених». Он был назначен шефом полка в чине генерал-майора и за участие в сражениях при Тарутине и Малоярославце был награжден золотой саблей с надписью «За храбрость».
У него рано обнаружились признаки душевной болезни, которые послужили причиной взятия в опеку его имения. Прожил он долгую жизнь и погиб на 73-м году, когда на нем случайно загорелась рубашка, облитая одеколоном.
Одним из владельцев бывшего дома Бове в 1840-х гг. был богатый золотопромышленник, известный в Москве меценат П.В. Голубков. Сохранилось описание дома, сделанное этнографом П.И. Небольсиным. Здесь находились картинная галерея с произведениями Рубенса, Греза, Тенирса и коллекция различных редкостей, в которой были шкатулка наполеоновского маршала Мюрата и рукописный экземпляр «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева. Перед захватом власти большевиками дом принадлежал генерал-майорше М.В. Сокол, инициалы которой можно видеть в кружевном переплетении ограды балкона. В 1920-х гг. тут помещался Всерокомпом – Всероссийский комитет помощи больным и раненым красноармейцам. Около 10 лет в этом доме прожил известный певец Г.М. Нэлепп.
А что же с загадкой дома? Когда же он появился и кому принадлежал? Первая известная дата владения домом – 1716 г. А раньше? Документов нет, или, скорее, они еще не обнаружены. Нашлась только любопытная запись в дневнике исследователя истории Москвы И.М. Снегирева, сделанная 3 декабря 1846 г.: «…от П.Ф. Карабанова (владелец прекрасной коллекции древностей, знаток истории Москвы, живший неподалеку. – Авт.)слышал, что дом Голубкова у св. Григория Богослова принадлежал последнему патриарху». Речь идет о патриархе Адриане (1690–1700) – противнике петровских реформ, после смерти которого Петр I уничтожил патриаршество и учредил Синод. Возможно также, что дом выстроил кто-то из семьи Нарышкиных, как предположила автор книги об этом доме Л.Н. Данилова.
Известно, что в этих местах, согласно переписи 1668 г., находился двор «головы стрелецкого» Федора Нарышкина, брата влиятельного при Алексее Михайловиче и Петре I Кирилла Полуэктовича Нарышкина, отца царицы Натальи. От Федора это владение могло перейти к Кириллу, и потом к его сыну Льву Кирилловичу, и в свою очередь от него – к дочери Анне Львовне, в 1731 г. получившей двор с обширными каменными палатами в приданое при выходе замуж за князя Андрея Юрьевича Трубецкого.
С этим домом, так причудливо и таинственно соединившим черты нарышкинского барокко и зрелого классицизма, соседствует детище другого времени, близкого нам. Отличительные признаки нового стиля – мягкие, изогнутые очертания оконных проемов, орнамент из текучих линий, женские головки с распущенными волосами – характеризуют декор эпохи модерна конца XIX – начала ХХ в. Первоначально этот дом (№ 8) был построен супругами Бове для себя, но уже в нашем столетии небольшой ампирный дом был совершенно неузнаваемо перестроен – он стал неотличим от многих особняков, выстроенных тогда в новомодном стиле модерн. Дом был построен для богатого бакинского купца, одного из нуворишей капиталистической Москвы Н.А. Терентьева с необыкновенной роскошью – в газетах писали об обстановке, заказанной в Париже и стоившей сотни тысяч франков. Интересно отметить, что проект этого особняка, построенного в 1902 г., принадлежит архитектору И.А. Иванову-Шицу, автору зданий Купеческого клуба (ныне театр Ленком) и университета Шанявского (ныне здание Академии общественных наук), отмеченных печатью сухости, рационалистичности, свойственной одному из направлений этого стиля. В советское время дом был совершенно беспардонно нахлобучен двумя этажами, никак не гармонирующими с его отделкой. В середине 1920-х гг. в здании находилась посольство Мексики, а совсем недавно – редакция глянцевитого пропагандистского журнала «Советский Союз».
Переулок кончается хозяйственными строениями бывшей усадьбы богатого купца Г.А. Кирьякова (№ 10/23), главный дом которой сохранился – он был построен в конце XVIII в. с участием М.Ф. Казакова. Кирьяковы – одни из тех немногих купцов, которым по грамоте городам 1785 г. было присвоено звание именитых граждан, получивших значительные привилегии, вплоть до жалования дворянства. Он, как и его родственник (они были женаты на родных сестрах) и сосед, живший по другую сторону Петровского переулка, купец Михаил Губин, имели значительную торговлю, и в том числе с заграницей, оба они завели прибыльные текстильные фабрики. В 1840—1850-х гг. усадьбой владел известный в Москве коллекционер П.Ф. Карабанов. Его посещали здесь историки И.М. Снегирев, А.А. Мартынов и М.П. Погодин, оставивший описание коллекций. «Кто бы мог поверить, – восклицал он, – что в Москве, где столько любителей и знатоков, есть еще огромные собрания, не описанные и почти неизвестные. Глазам своим не верил я, видя пред собою многочисленные сокровища, собранные с таким знанием дела и в такой полноте, сохраняемые в таком порядке: сосуды, чаши, братины, чарки, ложки, образа, кресты, серьги, перстни, медали, монеты, рукописи, столбцы, рисунки, книги, автографы, портреты. Взоры мои перебегали от одних предметов к другим, и я не знал, на чем остановиться, так все любопытно, важно, ново». Сам хозяин дома не был чужд истории Москвы – он опубликовал список градоначальников Москвы, а также несколько других справочных работ. В середине XIX в. здесь жил князь М.А. Оболенский, археограф, руководитель Московского архива Министерства иностранных дел. В конце 1880-х гг. тут помещалось Мариинское училище, а в начале ХХ в. – зубоврачебная школа и лечебница, где применялся механотерапевтический массаж, а в советское время – физиотерапевтическая поликлиника.
Глава VII
НА БЕРЕГАХ РЕКИ НЕГЛИННОЙ
Между улицами Петровкой и Большой Лубянкой
Один из главных притоков Москвы-реки – река Неглинная, заключенная в трубу к 1823 г., проходит под одноименной улицей, делящей весь этот район на две части. Одна из них расположена на левом берегу Неглинной, все еще высоком и обрывистом, несмотря на подсыпки и перепланировки, а вторая – на правом, низком и в давние времена заболоченном. Переулок, который проходил от Петровки к реке, поэтому так и назывался – Грязный, иногда еще его называли Глухим, так как места эти редко посещались москвичами. Теперь же это – Рахмановский переулок, названный по фамилии владельца участка № 1/24 в начале XIX в. генерал-майора П.А. Рахманова. По описи 1737–1742 гг. на углу Петровки находилось владение отставного капитана И.Т. Боборыкина, перешедшее от его наследников к генерал-поручику, президенту Коллегии экономии, заведующему Соляной конторой П.В. Хитрову. На плане его владения, снятом в 1778 г., видно, что оно почти все было занято деревянными строениями.
Здесь в 182*0-х гг. находилась мастерская итальянского скульптора Сальватора Пенно, известного конными фигурами у Музыкального павильона в усадьбе Кузьминки. С 1846 г. этим участком владел А.А. Альфонский – известный московский врач, хирург, профессор и ректор Московского университета в 1842–1848 и в 1850–1863 гг. В начале 1859 г. он продал его губернскому секретарю С.В. Пенскому, обладавшему прекрасной коллекцией рисунков, которая была пожертвована Музею изящных искусств в год его открытия через посредство друга музея архитектора Ф.О. Шехтеля. «Очень хорошо помнится тот день, – писал известный искусствовед А.А. Сидоров, – когда в чистенькую канцелярию музея был принесен огромный фолиант в красивом сафьяновом переплете с вытисненными на нем золотыми словами „Souvenirs de grands maitres”». В коллекции Пенского были редчайшие экземпляры рисунков крупных художников – Веронезе, Тинторетто, Тьеполо, Рубенса, Фрагонара, Ватто. Она составила основу собрания Музея изящных искусств имени Александра III.
Владелец дома заказал Шехтелю проект нового здания на углу переулка и Петровки, но строительство его не было осуществлено, а шехтелевский рисунок фасада остался в московском архиве.
Здесь находилась больница доктора Я. Шкотта, тут жили статистик, земский деятель, автор книги о городском хозяйстве Москвы К.А. Вернер, известный театральный деятель, режиссер, постановщик феерий, «маг», как его называли в Москве, М.В. Лентовский.
Участок перешел во владение Государственной сберегательной кассы, и теперь мощная и несколько мрачноватая колоннада здания кассы (архитектор И.А. Иванов-Шиц) – переработка классических форм – отмечает излом трассы улицы Петровки. По проекту здесь находились архив и подсобные службы. Строительство его началось еще в 1914 г., но из-за событий военного времени здание не было закончено, – его достроили в начале 1920-х гг.
После Октябрьского переворота 1917 г. в этом доме разместились биржа труда, а потом Центральный институт труда, организованный А.К. Гастевым, поэтом и зачинателем НОТ – научной организации труда в СССР.
Гастев считал, что «русскому рабочему больше всего не хватает элементарной исполнительской культуры: умения подчиняться, точно соблюдать свои служебные обязанности независимо от того, приятно ему или нет», и активно пропагандировал новую систему обучения промышленных и военных кадров, основанную на научно обоснованных принципах ускоренной и программированной подготовки. Это вело к созданию неких «воспитательных машин», лишенных даже намеков на гуманистические основы. Он так и писал о производственных школах: «Общее образование в них – ненужная дань „гуманитарности”». Эта система пользовалась поддержкой государства, которому нужны прежде всего работающие и недумающие люди-автоматы. Несмотря на заслуги, в 1938 г. Гастева арестовали и убили, институт передали в Комиссариат авиапромышленности, и в этом здании разместили Институт авиатехнологии.
Рядом расположено еще одно здание сберегательной кассы, где располагался операционный зал, того же архитектора (№ 3), появившееся к 1907 г. В XVIII в. это было отдельное владение капитан-поручика Семеновского полка Д.В. Сабурова, а его наследники владели этим участком еще в первой половине XIX в. Потом он перешел к графине С.В. Толстой, а последняя владелица, М.Н. Кристи, продала его казне для строительства операционного зала Государственной сберегательной кассы.
В 1830—1840-х гг. здесь жила Е.Ф. Муравьева, у которой собирались многие друзья декабристов, поскольку она была матерью Никиты, одного из основателей Союза спасения и автора проекта конституции, и Александра, члена Союза благоденствия. После нескольких лет каторжных работ Александру было позволено поселиться в деревне, но он отказался покинуть каторгу до тех пор, пока там находился его брат. Оба не дожили до амнистии, объявленной после смерти Николая I.
Противоположная сторона Рахмановского переулка от Петровки до Неглинной улицы в XVIII в. составляла одно владение князей Гагариных и Касаткиных-Ростовских. Главный дом усадьбы выходил на Петровку.
В конце XIX в. тут был трактир Зверева, где собиралось, как рассказывал В.А. Гиляровский, «общество маклаков, являвшихся на аукцион и сбивавших цены, чтобы купить даром ценные вещи, один из залов представлял собой странную картину: на столах золото, серебро, бронза, драгоценности, на стульях материи, из карманов вынимают, показывают и перепродают часы, ожерелья». В 1880-х гг. в строениях по переулку находилась типография А.А. Левенсона, в которой увидела свет первая книга А.П. Чехова – сборник рассказов под названием «Сказки Мельпомены». Малоизвестному тогда писателю пришлось печатать книгу в кредит, с рассрочкой на 4 месяца со дня выхода. В 1890-х гг. здесь помещалась редакция газеты «Русское слово», перешедшая в 1897 г. к известному издателю И.Д. Сытину, под руководством которого она превратилась в «фабрику новостей», как ее тогда прозвали, и стала одной из самых распространенных газет в России. На углу Петровки Трехгорный пивоваренный завод открыл ресторан с продажей пива, и, как вспоминали, «с очень приличной кухней и обороты этот ресторан „Трехгорный” делал огромные».
Теперь на углу с Петровкой находится здание, выстроенное кооперативом «Краснопресненское объединение» в 1929 г. (архитектор П.Н. Кучнистов), где долгое время находились различные коммунистические и советские организации, а теперь его занимает Московская городская дума.
Остальная площадь усадьбы была занята несколькими жилыми и нежилыми строениями, где находились многие популярные во второй половине XIX в. заведения. Так, многим была известна школа гимнастики и фехтования Якова Пуаре, которую, в частности, посещали Л.Н. Толстой и А.В. Сухово-Кобылин. В здании школы на временной сцене ставились спектакли, в которых принимали участие его красавицы дочери, а позднее многие из любителей-артистов вошли в хорошую труппу Художественного кружка.
В одном из зданий на участке, в том длинном двухэтажном неказистом строении (№ 4), которое до весны 1984 г. стояло на месте современного здания для «Совмортранса» (проект русских и австрийских архитекторов В.В. Колосницына, М.В. Окуневой, П. Ляйбетседера, П. Хабрика и др.), выстроенного в 1995 г., квартировал в 1832–1834, 1835 и 1837 гг. В.Г. Белинский. Неблагонадежного студента исключили из университета, и он нашел приют у дальнего родственника, жившего в доме Касаткина-Ростовского. В последующие годы жизнь Белинского здесь была, как правило, связана с бедственными для него событиями. И.И. Лажечников писал о доме, где жил Белинский: «Он квартировал в бельэтаже, в каком-то переулке между Трубой и Петровкой. Красив же был его бельэтаж! Внизу жили и работали кузнецы. Пробираться к нему надо было по грязной лестнице; рядом с его каморкой была прачечная, из которой беспрестанно неслись к нему испарения мокрого белья, я спешил бежать от смраду испарений, обхвативших меня. скорей, скорей на чистый воздух, чтобы хоть несколько облегчить грудь от всего, что я видел, что я прочувствовал в этом убогом жилище литератора, заявившего России уже свое имя». На доме – свидетеле жизненных невзгод великого русского критика – 10 февраля 1956 г. была открыта мемориальная доска с его барельефом.
Статус мемориального не спас дом Белинского от разрушения: доску сняли, и здание в 1984 г. снесли, обещая построить в точности такое же, что, как мы сейчас видим, почти исполнилось. Действительно построили, но не совсем такое, какое было.
Еще один переулок в этих местах – Крапивенский. Название его связывают с зарослями крапивы, якобы особенно буйно росшей здесь. Однако в Москве переулки обычно назывались по фамилии наиболее заметного домовладельца. В документе 1749 г. упомянут некий коллежский асессор Алексей Крапивин, живший тут, – возможно, от его фамилии и произошло название переулка. Он назывался также Сергиевским и Старым Серебреницким – по церкви Сергия Радонежского, называвшейся в патриарших книгах 1625 г. «что в Старых Серебрениках», что говорит о поселении здесь мастеров серебряного дела. Бытовало название и «что в Новых Сторожах», то есть там, где жили переселенные сюда, возможно, дворцовые сторожа. Называлась она и просто «у Трубы», той самой, через которую протекала Неглинная в стене Белого города. В 1652 г. она числится деревянной, а каменной названа в 1658 г. В XVIII в. церковь неоднократно перестраивалась: в 1702 г. с юга пристроили придел Усекновения главы Иоанна Крестителя, потом – с севера Никольский придел, и в 1749–1752 гг. появились восьмерик над основным четвериком и колокольня, которая была снесена в конце 1930-х гг., от которой оставался лишь низкий нижний ярус. Церковь служила семейной усыпальницей князей Ухтомских. В 1883 г. Сергиевский храм был передан Константинопольскому патриаршему подворью (то есть представительству патриарха в России), которое построило в 1887–1890 гг. около него доходные дома. Проектировал их архитектор С.К. Родионов, использовав мотивы романского зодчества, ассоциируя их с Крестовыми походами на Ближний Восток, а также мотивы византийской архитектуры и мусульманской орнаментики. На фасаде со двора сохранились закладные доски с трудночитаемым текстом.
Напротив этих зданий находится скромный жилой дом (№ 3), появившийся здесь между 1817 и 1845 гг., – это образец небогатого жилого дома в стиле ампир. В 1840-х гг. он принадлежал известному тогда театральному художнику И.Н. Иванову, автору занавеса нового Большого театра, открывшегося 6 января 1825 г., декораций и создателю многих театральных машин.
В Крапивенский переулок выходила и часть большого владения князей Одоевских (№ 2/26), которая перешла к ним от князей Львовых после женитьбы князя Сергея Одоевского на княжне Елизавете Львовой. Это была барская усадьба с большим каменным домом в центре, садом и прудом. Во второй половине XIX в. усадьбу постигла судьба многих крупных дворянских владений в городе: перейдя в другие руки, старинные палаты сносятся, сады вырубаются, пруды засыпаются и все застраивается доходными домами.
Эта усадьба тоже была застроена скучными длинными жилыми зданиями, но старый дом во дворе сохранился. В пожар 1812 г. он не пострадал, ибо в нем квартировал начальник штаба наполеоновской армии маршал Л. Бертье. Правда, дом сохранился измененный и надстроенный, а на месте пруда сейчас каток общества «Динамо». Каток существовал и до 1917 г., он был когда-то катком Императорского речного яхт-клуба и считался лучшим в городе. На нем проводились чемпионаты России, и в том числе первый, на котором победил известный конькобежец Александр Паршин, пробежавший 3 версты (соревновались на такой дистанции; с 1908 г. первенство разыгрывалось на трех дистанциях 500, 1500 и 5000 метров) за 7 минут 21 секунду.
В домах на этом участке жили медик П.Л. Пикулин, в 1882–1887 гг. – композитор и музыкальный педагог П.И. Бларамберг, в 1886–1888 гг. – артист В.Н. Давыдов, в 1890-х гг. находился театр «Альказар» и книгоиздательство В.М. Саблина. В 1940-х гг. жил конструктор авиационных двигателей А.А. Микулин, разработавший стройную систему оздоровления, в 1960-х гг. – писатель Г.П. Шторм.
По ту сторону Неглинной улицы переулки круто взбираются вверх на берега спрятанной реки. В 1932 г. они получили одинаковые имена, различаясь только номером: 1-й Неглинный, 2-й Неглинный, 3-й…
Начнем описание этих переулков с Сандуновского, названного по фамилии актеров, владельцев большого земельного участка, которые построили в 1808 г. Неглинные бани, прозванные Сандуновскими.
В Петербурге славилась певица Екатерина Семенова, по сцене Уранова (названная так Екатериной II по имени недавно открытой планеты), обладавшая великолепным меццо-сопрано, диапазон ее голоса простирался почти до трех октав, и она с ума сводила своих многочисленных поклонников. За ней начал ухаживать богатый и могущественный вельможа граф Александр Андреевич Безбородко. «Он не был женат, – рассказывает современник, – и беспереводно имел на содержании актрис и танцовщиц, которые жили в другом доме; в летнее время на даче его на Выборгской стороне бывали большие пирушки с пушечною пальбою, на которые, кроме его любимой красавицы, приглашаемы были его угодники, им взысканные и обогащенные, по большей части также с любовницами».
Но, однако, на этот раз нашла коса на камень. Уранова любила артиста Силу Сандунова, и Безбородко решил выслать его из Петербурга, но она решилась на смелый поступок: играя в опере, она с блеском закончила финальную арию, упала на колени перед ложей Екатерины и со словами: «Матушка царица! Спаси меня, спаси!» – протянула ей письмо, в котором рассказала все, что было. Екатерина сильно разгневалась, приказала обвенчать Уранову и Сандунова, но. жалует царь, да не жалует псарь, и Сандуновых не переставали преследовать «тьмочисленными» мелкими, но весьма чувствительными придирками три долгих года, пока они наконец не уехали в Москву.
Актер Сила Николаевич Сандунов происходил из грузинского дворянского рода Зандукели и славился в Петербурге и Москве мастерским исполнением комических ролей. Переехав в Москву, муж и жена совместно приобрели участок на берегу Неглинной и выстроили на нем бани, ставшие вскоре очень популярными. В конце XIX в. бани перешли во владение В.И. Фирсановой. Получив наследство после отца, богатого лесопромышленника и владельца многих домов в Москве, а также Середникова, известного подмосковного имения Столыпиных, Вера Ивановна заводит роскошные бани, ставшие очень популярными в Москве. В 1894–1895 гг. по проекту архитекторов Б.В. Фрейденберга и С.М. Калугина строится целый комплекс по Неглинной улице и между Сандуновским и Звонарским переулками, обошедшийся тогда в 2 миллиона рублей. Во внутреннем корпусе, за двориком, располагались отдельные номера, а в здании позади – 5– и 10-копеечные общие отделения. В корпусах, выходящих в переулки, находились квартиры. Сандуновские бани, как и Центральные, считались лучшими в Москве. Для них был специально проложен водовод до Москвы-реки и сооружена насосная станция. Здание ее, занимаемое сейчас посольством, сохранилось в Курсовом переулке. В здании же по Неглинной улице находились торговые помещения со знаменитым нотным магазином П.И. Юргенсона на втором этаже. Юргенсоновское издательство, основанное в 1861 г., было крупнейшим в России, в его каталоге приводилось 35 тысяч названий. Магазин этот, продержавшийся много лет, к сожалению, не выдержал конкуренции и закрылся в августе 2003 г.

Супруги Сила и Елизавета Сандуновы
На противоположной стороне Сандуновского переулка находятся два больших здания. Одно из них (№ 2) принадлежит Центральному банку Российской Федерации. Основное здание банка на Неглинной улице со скульптурами А.М. Опекушина, олицетворяющими Земледелие, Промышленность и Торговлю, было построено в 1890–1894 гг. по проекту К.М. Быковского. В конце 1920-х гг. его намеревались надстроить и изменить фасад – сделать более современным, по бокам пристроить два высоких крыла по проекту И.В. Жолтовского. Возвели, однако, только эти большие корпуса, один из которых и выходит в переулок.
Рядом с банковским корпусом расположено здание с большими оконными проемами, несколько напоминающее фабричное. Оно построено для мастерских Строгановского училища в 1914 г. инженером А.В. Кузнецовым, поборником функционализма в архитектуре. Это один из первенцев железобетонного строительства в Москве, где впервые появились горизонтальные ленточные окна, получившие в 1920-х гг. широкое распространение.
Следующий переулок – Звонарский– назван по слободе кремлевских звонарей, бывшей здесь в XV–XVII вв. На углу переулка и Рождественки стоит церковь Николы, «что в Звонарях», – «отличный пример барочного храма», как писал о нем рано умерший талантливый искусствовед В.В. Згура. Церковь очень выгодно стоит на высоком месте, и ее стройный барочный восьмерик виден издалека. Первоначально, еще до поселения звонарей, церковь находилась при кладбище нищих, бродяг, при так называемом божьем доме, то есть богадельне. В 1657 г. здание церкви обозначается в источниках как каменное.
Проект церкви, законченной в 1781 г., был заказан архитектору Карлу Бланку генерал-поручиком И.И. Воронцовым, у которого рядом была большая усадьба (там, где теперь МАРХИ – архитектурный институт). Церковь закрыли, вероятно, в начале 1930-х гг., там находились различные службы и мастерские, а примерно с 1960-х гг. – кафедра рисунка МАРХИ. В 1994 г. здание передали церкви, и теперь тут подворье Успенского Пюхтицкого (в Эстонии) женского монастыря.
Звонарский переулок был застроен небольшими двух-трехэтажными домиками, такими как № 7, 9 или 11. Только в 1914 г. в него проникает строительная горячка. На участке № 5 архитектором Ф.А. Ганешиным строится жилой дом по улице и здание для ювелирной фабрики фирмы «Ф.А. Лорие» во дворе. Это бывшее производственное сооружение недавно полностью переделано для конторы нефтяной фирмы «Лукойл». Авторы перестройки здания – архитекторы П.П. Павлов, М.П. Павлов – получили европейский приз за реконструкцию городов. На красном фоне неоштукатуренного кирпича выделяются большие керамические панно с лебедями и фирменным логотипом фирмы (автор – скульптор О.А. Иконников). Ниже по переулку стоит дом № 1 – часть крупного жилого комплекса, который должен был состоять из девятиэтажного дома по Неглинной для меблированных комнат и магазинов с обзорной площадкой на плоской крыше, а также нескольких жилых корпусов. Весь комплекс проектировал и начал строить И.Г. Кондратенко, но из-за военного времени удалось возвести только один дом. Вместо домиков № 7, 9, 11 построены новые дома.
Этот переулок – одно из чеховских мест в Москве. А.П. Чехов жил в доме Фирсановой (№ 2/14). Парадный вход в его квартиру на первом этаже и сейчас там же, где и был, – с переулка. О.Л. Книппер сняла ее в ноябре 1901 г. и тогда же писала Чехову, что квартира ему понравится – просторная, в пять комнат с высокими потолками, центральным отоплением и, что было еще необычно тогда, с электрическим освещением: «Электричество будет у Маши (Марии Павловны Чеховой. – Авт.),в столовой и в кабинете твоем, уж куда ни шло – 3 лампочки – 45 р. в год». Чехов прожил в этой квартире с перерывами с мая по ноябрь 1902 г. В этом же доме жили артисты Московского Художественного театра И.М. Москвин и Л.М. Леонидов, балерина Адель Джури.
Последний переулок – Нижний Кисельный. В доме № 3 поселился в начале своей театральной карьеры в Малом театре А.И. Южин-Сумбатов, в 1900-х гг. – известный литературовед В.В. Каллаш, в 1929 г. жил поэт Муса Джалиль. В здании рядом (№ 5) находилась кондитерская «для свадеб и балов» Федора Завьялова, о котором вспоминал в своей книге «Москва и москвичи» В.А. Гиляровский. Такие кондитеры нанимали барские особняки, на которых появлялась вывеска: «Сдается под свадьбы, балы и поминовенные обеды», и тогда всю ночь они то сверкали огнями свадеб, то оглашались возгласами «вечная память».
Название этого переулка, как и соседних, за Рождественкой – Большого и Малого Кисельных, – объяснялось, возможно, тем, что здесь жили «кисельники», готовившие кисель для поминок: ведь рядом находились три монастыря – Рождественский, Сретенский и Варсонофьевский, а при них по традиции – кладбища.
На левой стороне Большого Кисельного переулка – единственное большое здание (№ 11, 13/15), построенное в 1914 г. (архитектор А.В. Иванов) на месте обширной старинной усадьбы князей Несвицких, а потом Голицыных, где находились старинные каменные палаты. В угловом доме № 11 в 1918 г. поселился Комитет по делам печати, а впоследствии различные учреждения большевистской тайной полиции.
На этой стороне стояли небольшие рядовые дома XIX в., почти все уже снесенные, из которых остался дом № 5, построенный для купца Якова Сукачева архитектором А.С. Каминским в 1874 г. Другое строение этого же архитектора – на углу переулка и Большой Лубянки (№ 7/15), на земле богатых купцов Ивана и Андрея Затрапезных, владельцев Ярославской текстильной мануфактуры, владевших в начале XVIII в. большими палатами там. После пожара 1812 г. застройка обновилась, а новый дом был построен в конце 1880-х гг. А.С. Каминским, он радикально переделывался уже в 1914–1917 гг. архитектором А.А. Остроградским для контор (на верхних этажах) и магазинов (на первом этаже). Напротив, на левом углу, – довольно длинный дом (№ 16/13) на бывшей усадьбе английского банкира Якова Рованда, который приобрел ее у генерал-лейтенанта А.М. Лунина в 1799 г., когда он распродавал дома на Немецкой улице. В июле 1799 г. он продал небольшой хозяйственный двор И.В. Скворцову, долгое время считалось, что здесь родился А.С. Пушкин.
В 1858 г. владельцем стала фирма, выпускавшая различного рода точные инструменты, основанная самородком-умельцем, крестьянином Владимирской губернии, ставшим механиком в Московском университете. К ХХ в. фирма была самой крупной в России, в этом доме она оборудовала лабораторию для испытания точных приборов, а 25 января 1904 г. при ней открыли обсерваторию, при которой образовалось Московское общество любителей астрономии. Здесь получили путевку в науку такие известные в будущем астрономы, как члены-корреспонденты Академии наук, руководитель общества С.Н. Блажко, исследователь Марса Г.А. Тихов, академик, директор Пулковской обсерватории А.А. Михайлов.
Почти вся противоположная сторона Большого Кисельного переулка занята сейчас невысоким, как бы распластавшимся зданием, предназначенным для учреждения без вывески (это Федеральная служба охраны Российской Федерации и служба специальной связи и информации). Абсолютно чуждое по формам, оно подавляет всю застройку бывшего когда-то уютным московского переулка, да еще для подъезда к нему хозяева жизни перегородили весь переулок.

Церковь Введения (бывший Варсонофьевский монастырь)
Почти все здания в нем еще в первые годы власти большевиков были захвачены большевистской тайной полицией. Она же заняла и немалую часть соседнего Варсонофьевскогопереулка и, в частности, выстроила для себя уродливое здание, где находится поликлиника, на месте великолепной церкви бывшего Варсонофьевского монастыря.
Он назывался Вознесенским Варсонофьевским, «что на рву», и существовал уже в начале XVI в. По преданию, монастырь основала мать митрополита Филиппа Варсонофия. Близ него был «убогий дом», то есть кладбище для странников, убогих, бездомных и погибших насильственной смертью. Варсонофьевский монастырь памятен в русской истории событиями, разыгравшимися после смерти царя Бориса. Власть тогда захватил Лжедмитрий I, или Гришка Расстрига, как называл его летописец, имея в виду недавнее монашество в кремлевском Чудовом монастыре. Он приказал «задавити» жену и сына царя Бориса Марию и Федора Годуновых и похоронить здесь, а останки царя Бориса, бывшие в Архангельском соборе, «оттоле вынять и велел положить в Варсунофьеве монастыре». Впоследствии царь Василий Шуйский распорядился перенести их с почестями отсюда в Троице-Сергиев монастырь.








