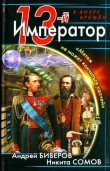Текст книги "Мятеж"
Автор книги: Сергей Буданцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
– Драться не умеют: кисель.
– Ну, как сумеют. До вечера продержимся.
Ну, а вечером?
А вечером – синь.
По сини потухающее пожарище. Пожар не пошел дальше: воля божья, ветер не туда; ветер дул в сторону зданий, погоревших в январе. Огромные головни и раскаленные кирпичи: Инструкторская Школа (гостиница "Виктория") и Губ. Комитет Партии (б. д. губернатора); дымились еще два-три дома рядом, обгорев.
А вечером синь.
От реки шел неломкий плотный туман, глыбами сырости и холодка обкладывая синеющие безогненные улицы. Туман шел с заливных лугов, растекшихся к дальним казачьим станицам: он оттуда мел на город этим диким безлюдьем. Город, истрепетавший весь день, заглушил днем и ночью пульсирующую электрическую станцию; по улицам словно прошелся пылесос, обсосавший тротуары, скверы, площади: все стало массивно, отряхнув налет праха, пыли; одичание и ужас поселились в массивах на ночь; началось это с первой темноты рано: часов с 7-ми.
По углам белые хлопья воззваний:
БРАТЬЯМ-КАЗАКАМ.
Без ламп в окнах, без уличных фонарей.
– Не зажигай, пожалуйста, света: стрелять еще будут.
– Жутко, мамочка.
– Ничего, завтра утром все решится: казаки придут.
Кремль еще не затихает, в бульканье летучих митингов погружены тусклые расплывы керосиновых фонарей. Но по весне оттаивает снег: расходятся митинги. Расходятся по городу ночевать – городские из мобилизованных, их никто не задерживает: некому задерживать.
За россыпью освещенных окон, в консистории, офицеры удушаемые многолюдством, толпятся, докуривая папиросы. Полковник Преображенский сидит усталый, морщины текут по лицу на его старомодный мундир – смешно: при полном параде поблекнуть! – он опустил голову, под редкими волосами, на которых остались еще следы редкого гребешка, светится слабый, мягкий человеческий череп. Полковник говорит хриплым рваным голосом:
– Господа офицеры! Ваши донесения я выслушал. Можете расходиться по домам...
Передохнув:
– Одну минуту подождите. Выслушал я... Слабо, господа офицеры. Организация никуда не годится. Это надо сказать прямо. Патрули на улицах есть?.. Я спрашиваю: есть? Капитан Солоимов!..
– Никак нет, Константин Григорьевич, послать некого.
– По домашнему. Плохо. Очень плохо. Нас можно взять голыми руками.
Покачал головой. Старик уже хотел распечь, но устал. "Хорошо бы остаться одному". С усилием он выпрямился, оглядел всех двумя яркими точками: очков.
– Ну, Бог не выдаст, свинья не съест. Поздравляю вас с первой и основной победой, господа!
– Ур-ра.
Внизу, в Кремле враждебный шорох пополз с губ:
– Ишь, галдят! Рады!
– Откуда их столько набралось?
– Когда же большевиков расстреливать будут?
– Ночью. Дай отдохнуть. За часовней.
Часовня шарахнулась в угол, под склон холма, к стене. Туда повернулись глаза. Там и установилась – кровавая традиция.
– Со мной останется только капитан Солоимов и дежурный адъютант. Дежурный офицерский взвод где?
– В бывшем доме священника.
– Хорошо. До завтра, господа. Пораньше. К 9 не опаздывать. Караулы надежны?
– Надежны, господин полковник.
Разговор в темноте.
– У меня, поручик, в голове как кинематографическая лента: вспыхивает. Однако у Козьего Бугра не затихают.
– Продержатся ли?
– Продержатся: там Антипьев и Дуклеев. А Крамаренко даже свой иконостас обнажил, снял с сорочки и повесил на указанное место.
– Д-да. Только мобилизованные – не солдаты. А эта буффонада с орденами лишнее. И на сорочке носить и теперь надевать. Раздражает это зря.
– Пожалуй. А я ничему не верю. А вы заметили, что сегодня дрались только у гостиницы "Виктория" и около губернаторского дома? Чрезвычайки как не было никогда.
– Разбежалась. Ну, она еще явится.
– Да, с таким настроением не побеждают. Кто это сказал? Не помню. Если Чрезвычайка, по вашему, явится, – то зачем вы участвуете?
– Как зачем? Да я никогда об этом и не думал. А так из обывательщины. Обыватель тоже может быть героем. Я за семь месяцев позабыл, что я был хорошим офицером, а муку семье возил. Ну, а теперь – повторение пройденного.
– Оригинально, знаете.
– Да, оригинально. Я думал, что мы, мятеж затевая, обывателями не будем. Куда там. В первый день обывательщина заедает. Полковник Преображенский – или это мне показалось – соусом парадный мундир закапал.
– Да, он и в самом деле закапал. Котлету ел. Дочь прислала.
– Э-хе. В первый день. А Троцкий в Смольном в обморок упал. С голоду, и не спал. А тут парадный мундир. Подумайте: парадный. И соус. А артиллерии у нас нет.
– Так она у моряков.
– Разоружить. И никто не сказал!
– А сами вы почему не сказали?
– Да так, обывательщина. Обывательщина на службе – бюрократизм. Не долез до вождя. Потом забыл. В первый день: бюрократизм. Потери у нас есть?
– Кто их знает? Если есть, то небольшие.
– Ну, вот. Все-таки есть. А медицинская часть есть?
– Нет. Не видал.
– А политически мы как-нибудь обставили переворот? Перевернули и ладно. А когда собирались, то все тарахтели: меньшевики, кадеты, эс-эры.
– Ну, их к чорту. Завтра будут.
– Ну, к чорту. Пусть будут завтра. Это их дело.
– А вот артиллерии нет. Вернемся в Штаб. Вокзал бы можно обстрелять.
– Не стоит... Завтра. Жалко вам. Повоюем. А мятеж, думаете, мы подняли?
– Мы.
– Ну, это – вы оставьте ваши слезы, кушайте лимон. Он сам произошел, как будто нас и не было. И пройдет сам.
– До свиданья, поручик.
– Всего хорошего.
Фразы были лишены обычного дневного эхо: их без остатка пожирала темнота.
Не затихает.
Громко чиркает резкой перестрелкой со стороны города, пореже и беспорядочней – со стороны белого спиртового зарева, со стороны паровых барашков в зареве – почаще и пачками. Там же зелеными и красными слезами плачут семафоры. Все, что осталось от мирного времени: семафоры, вагоны, теплушки, даже черные маневровые кукушки, – сегодня на ночь все осталось в нежной какой-то нерешительности: ничего они неодушевленные, неотапливаемые не знают. Рабочие разошлись.
На вокзале безлюдно. Маратовцы, сменяясь, забегают в гулкий живот вокзала, поспешно возятся с едой, пьют и перебрасываются:
– Чего это второй батальон? Приехал он или нет?
– Должно быть, приехал. Они на пароходе насколько раньше нас выехали!
– А может по дороге задержали и разоружили?
– Это кто? Мобилизованные? Ты видал, как они стреляют?
– Как крестики! У нас так сорокалетние в шестнадцатом году палили.
– Эх, белая гвардия! К утру, должно быть, в атаку пойдем.
Северов лежал в своем вагоне и наблюдал (вагон, вы помните, был обит по его, Северова, прихоти алым бархатом, алый бархат всасывал весь свет: было полутемно, огромную роль в чрезвычайной нежности света играла та подушка, на которой Северов лежал, о подушке после, хотя она и не шерстила лица к ней прислоненного), наблюдал тот легчайший жар и ту сонливость, которые растекались извне, под верхними покровами мускулов, по всему телу. Лицо, погруженное в мягкий ворс подушки, улавливало тонкий сквозняк между шерстинками: лицу было прохладно. Рядом, должно быть, тревожно сопел паровоз, а со стороны города, может быть, еще тревожнее прыгала и тявкала перестрелка.
– Ах, это вы, Силаевский? Как тихо вы вошли.
– Ну, это вы мне дамский комплимент. Я, Юрий Александрович, не стесняясь, вперся: не такое теперь время, чтобы стесняться.
– Это афоризм. Мысли умных людей. Ну, что... там?
– Все благополучно. Напираем. Только я сомневаюсь, да и солдатня тоже, насчет второго батальона. Он что-то, как мертвый. Не соблюдает плана...
– А, вы вот о чем. И я потому не командую, что плана не могу соблюдать. Нельзя соблюдать плана сражения или диспозицию, это еще Толстой... Потери есть? Это гораздо важнее.
– Мало. Стреляют плохо. Один убит, двое ранено.
– Убит? Кто?
– Деревягин, из первой роты.
– Не помню.
Он помолчал.
– Вы все-таки почему пришли?
– Да вот, насчет второго батальона.
– Пустяки. Доверяйте себе, как я вам доверяю. Я доверяю. Мятеж все равно не будет... он должен быть подавлен.
Силаевский засмеялся тихо.
– Вы всегда так, Юрий Александрович. С вами хорошо воевать. Очень вы спокойны...
– Ну, вот. С какой стати я буду отнимать у вас молодые лавры? У вас вон в прошлую войну лицо обезображено шрамом. Вы должны это скрыть лаврами в настоящую войну. Мятежники не организованы и слишком явно ориентируют на чернейшую белогвардейщину. Это слабо. Что?
Силаевский пропал, перед глазами колебался... потолок.
– Да, да. Впрочем вы, тов. Силаевский, ничего не сказали. Вы храбры и молоды: вам нужны победы. Я знаю свой военный опыт, вы знакомы с ним тоже и не преминете обернуться ко мне за советом в случае... Я говорю, как Заглоба... Что?
...............
– Случая такого быть не может. Ну, вот. А за ними матросы, часть рабочих и, главное, полная дезорганизованность наших врагов. Я справился у Калабухова. Я передаю вам все полномочия и, главное, свою уверенность, как главнокомандующий отрядом против белогвардейского мятежа в этом городе. Главнокомандующий... это не так много...
...............
– При Керенском я, будучи штабс-капитаном, командовал полком под Тарнополем, при чем тогда мы сдерживали напор на всю нашу дивизию. А побеждать... белогвардейцев. Идите, милый Силаевский, и приходите ко мне за советами и за уверенностью в победе. Из нашего плана помните одно: в атаку тихо, не спугнуть... Это чревато последствиями. Я еще выйду подышать воздухом. Здесь тихо и хорошо. А, главное, нет добрых соболезнующих глаз Калабухова. Он не любит, когда я в таком состоянии. А я люблю... такие каникулы. Идите, Силаевский.
...............
Он вышел на вокзал.
Там было гулко, как в готическом соборе, и махорочный дым носился, как ладан, гудя отдаленным шарканьем, мешавшимся с выстрелами на площади. Где-то изредка тенькала пуля по верхнему стеклу, от чего дребезгливо падала звонкая пыль.
Северов прошел по сырому, проплеванному, овчинному коридору и увидал часового.
– Ну, что, как дела? Здравствуйте.
Голос у него был деревянный, сонный. Красноармеец посмотрел на Северова с вялым недоумением.
– Что вы так смотрите? Для вас это все... будни.
Проворчав это, вышел на улицу, едва справившись с огромной дверью.
Город вставал за близким чахлым бурьяном, еще мерещившимся в темноте: в темноте росли серые громады – очень далеко, но Северов не обманывался (о, эта трезвость!): громады были серыми нахохленными домишками; до них не было двух верст (Северов прекрасно помнил план города, он изучил его в поезде) – Северов пошел по направлению к серым громадам: домишкам.
– Куда вы, товарищ командующий? Поранит.
Его догонял часовой, с которым он разговаривал у двери, в коридоре. Он немедленно припомнил обязанности часового.
– Во-первых, не беспокойтесь. Во-вторых, извольте оставаться на посту. Белогвардейцы стреляют из рук вон плохо: по верхним стеклам.
Он не обернулся, он скрывался в темноте, темнота проглотила его туманным, непроглядным горлом.
– Ну, вот. Я иду посмотреть, как братва окопалась. К утру пойдем в атаку. А вы извольте оставаться на своем посту.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Окончив эти приготовления, наш гидальго решил тотчас же привести в исполнение задуманное им, так как его угнетала мысль, что промедление даст себя чувствовать миру, приняв в расчет все те обиды, которые он думал уничтожить, несправедливости – исправить, злоупотребления – искоренить, ошибки – загладить и долги – уплатить.
"Дон-Кихот".
Это время зевыло: даешь
А судьба отвечала послушная: есть.
В. Хлебников.
[Пустая страница]
Первая.
Безлунная ночь, бесфонарный сон; в ночи и во сне потухли белые вспыхи белогвардейского воззвания, над городом шелестели миллионы фиолетовых занавесей: ими закончили трагедию измученных выстрелами часов, часов, отягченных убийствами, пожарами и россказнями. Город покрылся наглухо тучами: теплом пыхала мертвая зыбь к городу каждую ночь приближающегося моря.
На пристани, что по Приречной улице, куда нынче днем подплыл пароход с маратовцами, квохчет слабосильная динамо-машина, и по тому темному движению, которое бесшумно кипит на дворе, чувствуется, что здесь дирижирует Дизель: все сосредоточено, осведомлено, как на фабрике. Гудит однообразное брюхо парохода красноармейцами.
На Козьем Бугре, перед огромной туманной прорехой, в непроглядном навесе над за железнодорожными полями, как дождь каплет, усиливаясь и слабея, перестрелка.
Но Козьим Бугром на пристани заняты мало: вторая очередь. Самое важное: белогвардейцы считают матросов нейтральными, почти союзниками, это на руку. Совместная воля направлена сейчас на Кремль, – не до Козьего Бугра теперь; план выработан морской коллегией. Впереди всех пойдут матросы: им задание – проникнуть в Кремль. Второй батальон маратовцев, прибывший на пароходе, сейчас же запрятанный в трюме, займет все прилегающие к Кремлю улицы, разбившись для этого на патрули и постепенно, но быстро, стягиваясь к воротам Кремля.
Командиру матросской роты
товарищу БОЛТОВУ
войти с матросами в Кремль, снять белогвардейские караулы и ликвидировать главарей.
У одного тихо захваченного офицера перехватили пароль.
Пропуск: – ствол.
Отзыв: – Саранск.
Без шума: нужна западня, мышеловка... только шелест матросских клешей и тенькает изредка винтовка.
Огромная однообразная мысль: с утра в Кремле будет западня, будут тухнуть золотые погоны с шефскими коронами.
Маратовцы заливали улицы темной лавой.
– Хоть бы один патруль. Слабо, белая гвардия!
С этой мысли начиналась победа. Маратовцы сливались с темнотой, становясь повсеместными, как ночь, как темнота, и сужались улицы, запруженные маратовцами.
Белый Кремль – ярче, ближе – белый: будто обглоданный жестокой пастью синих ночных льдов он стоит, как скелет, не обмякая и не сплываясь.
За последний месяц большевики наладили на колокольне собора прожектор; шестиверстный луч качался над городом, тычась в облака, грозя полям и небу, и очень был внушителен этот широкий, всепроницающий – вплоть до скрытых контр-революционных и вообще преступных намерений – меч, а вот белогвардейцы не сумели наладить прожектор: молчит городская электро-станция.
И так же, как обыватели ругали большевиков за дезорганизацию и беспорядок, так и матросы, пробиваясь сквозь плотную темноту, липнущую к синим широченнейшим их бушлатам и клешам, ругали:
– Дезорганизация.
Кремлевские спят вповалку, тело к телу свалившись по всем углам, у стен и в закоулках. В Кремле остались одни полушубки на запасливых ребятах из деревень, – городские, местные, слободские мобилизованные разбрелись по городу.
Дыханье ли, шум ли далеких машин на пристанях, только кажется эта ночь мощным цилиндром; мощным дыханием земля, как поршень, зыблет и нагнетает повсюду непроницаемую сырость, глушащую перестрелку, отдающуюся каким-то резиновым поскрипыванием.
В темных кремлевских воротах на желтом зрачке двух керосиновых фонарей отразился караул, насаженный на винтовки.
Одно огромное сердце шумно бьется, работая над густой неповоротливой кровью, одна пара глаз с зрачками в тарелку величиной бессонно глядит в лампу у потолка, одно огромное тело свалено на пол, один костяной котел ворочает густую ни с кем не поделенную мысль, синие губы вышептывают шопот
общий! гауптвахта сжевала в слипшийся ком арестованных за день.
Советские, партийные, ответственные, стоящие на платформе...
Когда?
Сейчас, должно быть?
Мысль кажется столь же вещественной, сколь непроходимы и не одолимы эти проплеванные стены, мысль формулируется в элементарнейшие, как резолюция, слова.
За часовней, у белой стены.
Там еще никого не расстреливали, но в этой комнате так решено, как решено, что предвидеть во всех подробностях ближайший час – совершенно обыкновенная вещь.
Приблизительно так поворачивается мысль, блестя глянцевитыми масляными стенами гауптвахты:
Черное небо над дымным потолком.
Холод проникает в мозг и в костях, как по трубам, гуляет холод.
Все падает в черный холод.
Там ничего нет. Не предвидится.
Одно тело, одна мысль. Здесь никто не молится. Не хочет. Не будет. Не до того. Шепчет или молчит. И все – шепчет: когда же? Молчит – все равно: когда же? Переливается мысль холодом по костям: все равно. В углу хрипнуло, как мышь по бумаге. Дрожь общая.
У винтовок горячее дуло.
Горячее дуло – в лоб.
В лоб.
В грудь.
В меня.
Кто-то сказал ременным голосом, кожаным звуком, засмеялось в том углу, где хрипело. Может засмеяться все.
Опять лежит, глядя в до-красна закопченную лампу одной парой глаз.
Лампа качается, надо ловить, качается, как каюта, комната качается с шумом, в голове стена. Мертвая зыбь пристальных глаз: не то сеть, не то зыбь. Непонятно.
Хлоп дверь.
Звякают.
Как произошло, что несколько человек у двери вскочили?
– На допрос!
Раскололось тело, оказалось – люди. Стали отодвигаться, послышался стон, сдвинули помятого сегодня утром товарища. Полный такой лежал в углу один, плакал, смеялся и похрипывал.
А сейчас?
Выстрелы?
Нет, не слыхать. Правда. Допрос.
Безразлично.
Темнела, сливалась комната в желтую закопченную сферу.
Молчат.
Молчит.
Точка в потолке над большим единым телом с одной мыслью, которая не может сойти с ума.
Не может.
Не сойдет.
А только и надо лязгнуть зубом:
тогда сойдешь.
А вот не можешь, потому что сжаты челюсти, до боли, как у бульдога, мертвой хваткой.
Молчат.
Черно.
Пятна на стене.
В пятнашки играть.
Не сойдешь.
Выжимают как серую тряпку
ДОПРОС.
В желтой комнате как желтые пчелы летает колющий керосиновый свет "молнии". Синие пчелы роятся дымом.
Качаются до тошноты нелепые слова.
Тошнота.
– Прошу не плевать.
– Хам! – крикнул рыжий офицер сплюнувшему.
– Ваше имя?
– Должность, занимаемая при Советской власти?
– Член большевистской партии?
– Можете итти.
Все это известно. Все это для того, чтобы написать на серой графленой бумаге:
РАССТРЕЛЯТЬ и пониже под этим криво
полк Преображенск
Когда вышли из желто-синего жужжащего улья в сырое обложение ночи, то все почувствовали себя отдельными и необычайно единодушными. Когда один тонко запел: "вихри враждебные веют над нами", – почему-то – это, – то другие тоже тихо и тонко подхватили: "темные силы нас злобно гнетут", и конвоировавшие офицеры промолчали, подумав: "молодцы", медленно довели допрошенных до гауптвахты и вернулись передать, что "молодцы... не трусят".
– Следующую партию!
– Погодите. Капитан Солоимов, проверьте караулы. Это мобилизованные не солдаты, а навоз.
– Им через полчаса сменяться, господин полковник, до утра будут стоять офицеры.
– Правильно. Очень хорошо. А все-таки пойдите.
– Слушаюсь.
Со шпор скатился расколовшийся по полу звон.
Полковник Преображенский усмехнулся дряхлой улыбкой.
– Какой вы бодрый человек, капитан, – сказал он и, обратясь к другому, приказал:
– Поручик Голохвостов, выберите добровольцев для...
...экзекуции из господ офицеров. Приступите немедленно.
Вернулся капитан Солоимов и бодро прохрипел:
– Благополучно.
Полковник Преображенский потянул его за китель к себе и зашептал:
– Как Голохвостов – годится?..
Солоимов понял:
– Послать в штаб Духонина? Вполне!
– То-то, а у меня сорвалось как будто... Человек чувствуется.
Прошептав это, полковник резко оттолкнул капитана и распорядился уже в пространство:
– Что на Козьем Бугре? Пошлите ординарца.
В зрачке ворот отразились матросы.
– Стой, кто идет!
– Свои.
– Пропуск.
– Ствол.
– Ствол. Где караульный начальник?
– В сторожке.
– Позови его.
– Сейчас.
– Мы вас сменять пришли.
– Вот он идет.
– Мы сменять.
– Отзыв?
– Саранск.
Человек двенадцать матросов вывалилось в темноту направо. За ними еще партия.
– Ну, и солдаты!
– Дезорганизация.
– Ш-ш.
Матросы продвигались к ожерелью освещенных окон.
– Там штаб.
– На дворе-то пусто.
Командовал тов. Болтов.
– Со мной идут десятеро. Вот эти. Остальные здесь. Услышите выстрелы, бегите к нам помогать, а двое – Анощенко и Чистов – к воротам. Красноармейцев сюда. Сразу занять все здания. Зря не палить.
– Везет. Даже караула при дверях нет.
– Некому.
Лестницей. Скрипит.
Он сорвался со стула, одутловатый и бледный, сверкнув погонами.
– Что надо?
Глянули. К столу прилипли трое во френчах, у двери из двоих серая капля: арестованные:
допрос.
– Что вам надо?
Матросы пружинят; стали стальными; глаза округлились; у матросов звенят мускулы.
– Кто здесь полковник Преображенский?
– Я.
– Мы... к вам.
Четверо офицеров. – Десять матросов.
Ворвался Болтов.
Лента затрепалась сзади.
Руку в карман.
– Вы – полковник?
Схватился.
– Да. – руку к кобуре.
– Нет!
Треск. Как щебень посыпалась комната.
– Нет!
Синий дымок на звякнувшей лампе.
Упал.
В пыльной свалке темно, только из соседней комнаты ринулся свет и со светом закручивали троих загремевших было шашками, закрученные навалились на полковничий труп.
– Болтов, списывай в расход! – рычал пыльный Козодоев.
Еще трое легли под жарким дулом, с затылка.
Еще есть. Много.
В воротах кричали: ура! – и как свет в темную комнату бежали в Кремль маратовцы. Дежурный взвод офицеров – в архиерейском доме. Неразбредшиеся мобилизованные, спящие вповалку по двору. Сыплется рваная перестрелка. Маратовцы коротким приступом, как вода на прибыли, взяли архиерейский дом, оттуда десятки звякающих шашками, в белых рубахах, выталкиваются в желтую темь, под керосиновые фонари.
Сначала поражало, как эта толпа маратовцев, идя как струя, в толпе повскакавших людей, не смешиваясь лезла на неизвестную цель, потом все, как в жидкости, смешались и уже через десять минут снова поражало порядком.
Кто-то командует, кто-то оцепливает толпы мятежников, непостижимо точно из них выделяясь, окруженные пропускаются по одиночке в собор, уже неизвестно кем открытый (откуда-то притащили церковного сторожа), в соборе гулко гуляет темнота, давящая свет беспомощной на аналое у левого придела. Разоруженные люди, охраняемые безразлично кивающими колеблющимися ликами, испуганно жмутся кучей, подчиняясь дисциплине побежденных, хотя требовать этой удобной для победителей скученности здесь в соборе некому.
Офицеров, так и не смешавшихся в темноте с мобилизованными, отводят за часовню к стенке, к кремлевской стене. У затылка горячее дуло болтовского браунинга. Убитый, падая, ничего не слышит.
В Христа.
В богородицу.
В кровь.
Вязкая ночь ощутимо скатывается в тяжелые сгустки. В свалке ничего опять не видно. Порядок между матросами и маратовцами уже непонятен наблюдателю и кажется бестолковой беготней. Каждый нашел свое место, отвечая сам за себя, поди – разберись! По изрытому дну темноты, вместо общих криков, стелется удушье и хрип, озабоченные люди бегают, заплетаются в рытвинах, ищут кого-то и изредка рушится ближайшее обложение ночи револьверным треском.
Семейству тихому, жившему по соседству с Кремлем, в голубом ночнике ворвались треск, перестрелка и крики. Ночник полыхнул и шатнул всю комнату.
– Ну, большевиков расстреливают. Спи, детка.
– Я боюсь, милый, ах, все кровь льется.
– Слава богу, родная, последняя кровь. Спи.
Из глаз в глаза погасло голубое пламя, ночник успокоился и по спальне разлился: спят.
– Что? Что?
– Что?
Ударило в лампу. Смяло часовых у двери.
– Выходи, товарищи. Кремль...
– Наш?
– Наш!
– Наш.
Огромное тело, разбитый испуг, многосердая радость.
С сырого холода, принесенного на синих воротниках, залетевшего с лентами, разыгралось, рванулось это смятенье:
– Наш! Наш!
В комнате оказалось множество людей: им было не тесно, когда они лежали друг на друге. Вскочившие хватали винтовки – откуда... – и шасть на жужжащий гулами, ветром и криками двор.
В углу остался один, лежал огромным куском мяса, он лежал в обмороке: помятый товарищ. И, очнувшись, застонал:
– Пить!
В горло ему лилась каленая сухая пыль с запахом горелого пороха, как специи покинутой больницы, – вдали каталась перестрелка, словно по полу детский деревянный тарантас.
Болтов:
положил Преображенского.
Болтов и Козодоев расстреляли только что тринадцать офицеров.
Болтов – испытанный революционер, – в Севастополе он схватился с Федором Баткиным, – Болтов командует сейчас группой, идущей в тыл белогвардейцам, залегшим на Козьем Бугре.
Там еще брызжет пальба.
Но в наступающей белесоватости приближается вокзал. Он наползает на город вместе с утром, продвигаясь медленной сапой, впереди его лентой идут бодрые стволы, вспыхивая и грохоча в тумане.
Матросы и маратовцы осторожно обкладывают Козий Бугор с тыла. Они не спугнут беспечных золотопогонников. Завтра их надо захватить живьем.
Козодоев по распоряжению Болтова до утра остался в Кремле с засадой.
В серо-синей сырости замирает решительно и тихо шаг маратовцев, матросов и арестованных, освобожденных из кремлевской гауптвахты.
– Брать тихо, братва, без галдежа, не орать.
– Этих сачков долго ли...
Вторая.
Утро вышло в свет синее в седом тумане. Вдруг туман зашатался, утро толкнулось, прорвалось и выбежало, прыгнув по крышам.
А солнце...
Солнце, – это оно, – затеплило циферблаты и от тепла раскорячились серебряные стрелки.
VII.
В городе так тихо, будто у всего населения отвалились уши.
На Козьем Бугре, решившем судьбы мятежа, телами, с тыла ползшими в наступление с Болтовым во главе, телами этими примята пыль. В тиски двух атак, с двух сторон, зажали мятежников до свету; одиночное "ура"; последних воплей их никто не слышал: часть обитателей с Козьебугровской стороны беженцами еще с вечера перебралась в город.
Облака фиолетовые, синие, голубые, по изгибам и выпуклостям меняя все тона, выцветали, чтобы стать небесной бесконечностью. Тогда утро прибывало и зрело без всплесков, без звуков, желтело и золотилось, пышное, триумфальное.
– Слава богу, нет большевиков. Посмотрите как тихо.
ДВА СЛОВА ОБ ОТВЛЕЧЕННОМ СЕМЕЙСТВЕ.
Чай пахучий, горячий чай, (белый хлеб к чаю), идет Володя, (Володя) в Кремль на расправу с большевиками идет он, Володя, СВЕЖИЙ, ОТ ВЧЕРАШНЕГО ПОРОХА. Столовая – червонная сеть. Она вся провеяна светом, им одним по голубой скатертке шелестит солнышко. Солнышко звездочками сияет на золотых погонах, вшитых во френч.
Мать-старушка, ее лицо опухло, покраснело, все выросло в радостные, гордые глаза:
– Благослови тебя бог, сыночек.
У него под френчем горячая радость, чай как вино: – Россию спасли.
Сестра:
– Сегодня казаки придут. Милые станичники на приземистых, гривастых, горбоносых лошадях.
Горожане забывчивы, забыли лампасы, а ведь у казаков лампасы, песни у казаков заунывные.
Но есть главное:
твердая власть.
Полный и седобородый, отцовским басом:
– Твердая власть и законность – это главное.
На стене висит группа:
Сонечка со знакомыми казачьими офицерами в белых кителях, выцвело все, – давно это было, в 13-м г. в мирное время, когда юность высвечивалась червонной пылью по синей утренней эмали, когда законность согревалась горячим, пахучим чаем с до-красна топленым молоком, как сегодня.
– Кушай, родной, ты жертвуешь жизнью.
Бас густел:
– Он обязан, я – отец и это сознаю.
Володя смеется:
– Сознаешь, когда все кончилось нашей победой.
– Ну, для родины... мы все обязаны...
Беды нет, тревога новая, так это непривычно, будто родился кто-то в семье, или – взрослый ее желанный сочлен вернулся.
Уходит Володя.
Теперь улицы как звенящие ручьи по весне, из ручьев река всех белогвардейских организаций, сливаясь по Московской, течет радостная в червонном утре, загибаясь на повороте Советского проезда, широко и звонко разбивая кремлевский вход.
Великолепно организовано. Даже пропусков никто не спрашивает, глядя на сияющий погон с горячей звездочкой.
Предупредить. Броситься.
А как броситься?
Как пройти через город? Для сердобольных, по улице в серой чаще домов, в синей чаще еще непонятного, но уже страшного дня: капканы, капканы, капканы; не пойдешь – мучься.
На Козьем Бугре обыватели, все: с пороком сердца, с перебоями сердца. На Козьебугровских обывателей пал трепетный страх. Ночью замолчала перестрелка, молчанием осветило обстоятельства, сообразительных высветило: опасность. И уже нет места заблуждениям. Темный катился с Козьебугровского склона, как перекати-поле, слух и он как звон шел, как вода по водопроводным трубам, он становился органичным, неотъемлемым от городского затишья, перекати-поле прыгает по тротуару, вметываясь в каждое парадное.
– Сиди дома, тебе говорят.
Темнеет день. Темнотой обрастают комнаты закрываемыми ставнями снова. Известия падают глыбами, как и предположения. В занавешенных комнатах легчайший, плотный, шелковый шелестел запах нафталина.
Улицы звенят, так звенят ручьи весной, так же весной звенят, проламываясь, льдинки. Железный зев Кремлевских ворот жует и глотает звенящие льдинки. Разве у маратовцев на лбу написано, что они не мобилизованые!
– Славный караул.
После этой похвалы – волчьи ямы, засада; весь широкий кремлевский двор, – скорее не двор даже, а площадь, – открыт, а деться некуда, выбежать некуда, сзади матросский приклад, ограждающий все это, ограниченное белыми стенами, пространство от удаляющейся вселенной.
АРЕСТОВАНО:
112.
Еще
113
14
15
16... 7... 8...
Когда иссякли новые партии зеленых льдинок и льдистых шпор, когда кремлевские подступы уже не загребают идущих, когда сверкающие взгляды караула горят не из опущенных хитро ресниц, а пышат в упор ненавистью:
– Нельзя так, куда?
тогда перекати-поле, тогда слух клубится и, как в рупор, из дома в дом гудит:
Восстание ликвидировано.
Тогда и мобилизованные, густой жижей, никому не нужной и не интересной толпой натыкались на щетину:
распоряжения:
– В Красные казармы.
На щетину штыков и ежевых рукавиц, которые мятежников охватывали плотно, уплотняли, утрамбовывали, прессовали и вели под конвоем по Никольской к Красным казармам.
Но мобилизованных мало. Они вообще не собрались. Городские ждали казаков, сельские мирно пошли по домам: и на самом суровом лице иногда проползет заразительная улыбка.
Мятежный замысел выхолощен, самое нужное сделано, большевиков нет, комиссаров нет, мобилизация сорвана, всех, кого надо расстреляли нынче ночью. Домой надо, – и разошлись.
Официальное известие нависало сизо:
мятеж ликвидирован.
Ломало истерикой старушку. Старушка, как нынче утром выросла в улыбку, так вся теперь, через каких-нибудь полтора часа вытекла в сплошную слезу. Ломая, истерика бросила ее на диван:
– Володя, мальчик мой!
– Володя! там засада, ты слышишь? ты слышишь, там ловят! тебя поймают! тебя не отпустят.
Совершенно правильно: расстреляют, совершенно правильно: не помилуют; нарочные неизвестно от кого ездят по городу, собирают экстренное заседание Губисполкома и Горсовдепа.
Нельзя заниматься политикой.
– За что? За что? Я же говорила, нельзя, нельзя!
Во всей этой невнятной истерике слышалось новое захлебывающее слово: Болтов.
Как бы перезревший виноград золотой, как бы ослепительно начищенный и теплый, словно медная дверная ручка из-под кирпичного порошка, которым ревнивая хозяйка трет позеленевшие вещи, отделился от зеленого рассвета и встал день. – Разве день? – Разумеется, день. – С него начинался огненный уклад: революции. Можно, не опасаясь того, что, того и гляди, захватят, – выйти из конспиративной норы, секретной дыры, из тайной квартиры в этот огненный уклад: революции.