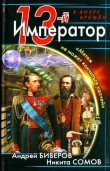Текст книги "Мятеж"
Автор книги: Сергей Буданцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
Но все эти соображения, как впрочем и упреки здесь, в этом бешеном гоне, не имели никакого смысла: их относило ветром.
– Я сейчас объяснялся с сестрой, Юрий. Объяснился навсегда и в первый раз в жизни. Я ее никогда не знал и в первый раз в жизни я узнал, что есть человек, которого не имею права ненавидеть. Это первый раз со мной: я почувствовал, что у меня есть обязанность по отношению к другому человеку. Я никогда не понимал, как это находятся такие старухи, которые добровольно обмывают мертвых.
Город кувыркался мимо.
– Куда, Лексе... Кстин-ныч... – донеслось от повернувшегося лица шоффера.
– Прямо гони на шоссе, к больнице.
Голос Калабухова отставал от ушей шоффера, шедших впереди.
– Куда? Куда? Стой! – закричал Северов.
Он вышел из себя. У него перехватило горло.
– На какое шоссе? Где ты остановился? Где мой вагон? Там у меня все! А-а-а!.. – он опять кричал. – Там был обыск и все отобрали!
От свежего ли воздуха, от резких ли поворотов, которыми заносило машину, зад которой казался сплошным пуховиком, зад которой пружинил и скакал, от ощущения ли свободы, но Северов ожил.
– Сейчас вылетим к чорту.
Липнувший к губам ветер рвал слова назад.
– С сестрой разговаривал, – обрывал ветер и из ветра склеивались ответы Калабухова.
– Да, ведь я циничнейшим образом играл, и она это почувствовала. Я слезы выдавливал, я помню запах пыльного пола, когда падал ниц, а сам думал о какой-то совершенно нелепой истории, которую не мог припомнить, о каком-то нелепом Альфонсе Доде, о его сыне. Этот ублюдок, – я ругаю только себя, – вспоминает, что когда он хоронил отца, то безумно жалел его и кричал, рыдая. И рыдал и кричал, а сам думал: "какой у меня красивый голос"!
– К чему ты это все?
В иную минуту Калабухов услыхал бы, что у Северова белый плаксивый голос, каким поют цыганские романсы. Становилось трагично.
Калабухов кричал:
– А я все-таки снимаю войска с фронта и еду туда, ты знаешь за чем? Я сам не знаю. Я должен стать отцеубийцей.
Их вынесло в окрестную зелень: впереди, как на пустом кругозоре моря закат, стояло красное здание больницы.
– Куда мы, куда тебя несет? Да я знаю даже, куда. Но только отпусти меня. Вернемся! – умолял Северов.
Все было в первый раз, в первый раз в жизни видел Калабухов своего неизменного друга, когда они остановились, он понял, видя слезы в глазах Северова, застилающие взгляд, какую тяжесть тот несет в теле, какие комья ему забивают горло, и вылез из машины.
– Здесь, – сказал он, – ждать меня.
Он был безжалостен.
Но Северов не сходил с машины.
– Я поеду доставать.
– Куда ты? Оставь. Ты – сумасшедший.
– Трогайте, товарищ.
Шоффер смотрел вопросительно.
Калабухов махнул рукой.
– Поезжай. Завези Юрия Александровича потом в гостиницу, и сюда.
В больнице было смятение: Калабухов, которого все видели – приехал комиссар на машине, а многие знали, что сегодня творится в городе, – Калабухов одумался, только остановившись в звонкой щели между стеклянными и входными дверьми. Через мощеный горячий двор он пробежал, как красный огонь.
Доктор был похож на туберкулезного Христа: доктор был туберкулезный и носил белокурую бородку, как Христос на картинах Гвидо Рени.
Доктор строил перед носом Калабухова угрожающие сферы, пронзаемые эллипсисами, гиперболами и параболами, доктор жестикулировал.
Он испугался не меньше других, но, помня о своей болезни, которая неминуемо сведет его в гроб, сделался неврастенически шумливым.
– Не могу!
– Не могу!
– Не могу!
Он разлапо очерчивал пути звезд перед носом Калабухова.
– Вы ее уморите. Вы слишком возбуждены.
Вбежал сюда Калабухов совершенно спокойный и через две минуты после того, как началась эта шумная астрономия, он обложил врача матерными словами.
И сам видя, что придется браниться, Калабухов выстроился перед ядовито плевавшимся доктором и, глядя на мятую белизну его халата, произнес внушительно:
– Товарищ.
– Товарищ доктор, – поправился он. – Вы бережете одну больную.
Неврастения заражала и его. У него забился бешеным и приводящим в бешенство тиком левый глаз.
– Вы бережете одну больную, – поправившись повторил Калабухов, – так знайте, – его подмывало и выносило на какие-то горячие сквозняки внутри игравшее серьезное, ребяческое озорство. – Знайте, что на весь город наведена моя артиллерия. Я могу распорядиться перевести два орудия на вашу больницу. Мне все равно, – закончил он, и почувствовал, что говорит нелепость.
Доктор вдруг смягчился: он был сломлен.
– Разрешите тогда перенести ее в отдельную комнату.
– Хорошо, – согласился Калабухов неожиданно для себя, ибо он не хотел быть беспредельным самодуром. – Или нет, оставьте ее в общей палате (самодур играл), – или нет, перенесите (самодур замирал). Только скорее.
В краткой этой борьбе было побеждено самодурство, и Калабухов рассердился.
С таким сердцем он рванулся в коридор, в ответ сообщению сиделки:
– Переташшили.
В глаза ему метнулась белизна и серость, а в ноздрях зашершавился едучий ксероформ и те самые перегорелые запахи, по легчайшему веянию которых собака распознает людей. Запахи больного, потного и кального разложения.
Этим теплым бревном и шибануло в нос. Закрыв глаза, Калабухов прислонился к притолке. Рядом с ним вдруг материализовалась белизна и серость и даже чернота, сдобренная ксероформом.
Это был призрак все того же доктора. У Калабухова закружилась голова.
– Вы не туда попали. Не здесь.
– Вижу, – бешено и нетерпеливо бросил Калабухов призраку. – Я никого не беспокою и пришел к своей невесте не за беспокойством, – заявлял он другим уже тоном, как бы начиная разговор заново. – Я могу успокоить весь город ваш, и ему будет лучше, если он не будет беспокоиться.
Перед глазами Калабухова снова вырос твердейший черный предмет. Это стетоскопом замотал доктор, но, очевидно, одумавшись, взял руку Калабухова выше локтя, горячей рукой – ее прикосновение отрезвило Калабухова, – и повел по коридору: Калабухов трезвел и не сопротивлялся.
– От малейшего волненья она умрет. Некогда вам объяснять.
Всю жизнь Калабухов боялся чахоточных, а с губ доктора било брызгами. Это окончательно отрезвило Калабухова вместе с проходкой по коридору.
– Хорошо. Идите, я поговорю с ней спокойно.
Калабухов открыл указанную ему дверь.
Ясно: Еленин взгляд продолжался полтора года. Он также накипал слезами и был болен и воспален в последние встречи еще с весны 1917 года, когда Калабухов прощался с ней на вокзале, уезжая в последний раз на западный фронт.
Как с таким испугом в глазах могла она стать коммунисткой – этого Калабухов не постигал и, не постигнув этого, заметил, что ком сухой гари подкатил к горлу и сам он, того гляди, разрыдается, раскричится.
Он уже раскричался:
– Да, да. Ты любишь меня. Я это слышу и знаю не пять минут, которые прошли сейчас, а третий год. Но я уже не человек, мне все настоящее, человеческое, животное чуждо, вот уже четыре дня. Это очень трудно пробыть четыре дня лишенным человечности и животности.
Сипло пронеслось мимо:
– Милый Алеша... Милый... Что с тобой?..
– Любить – это значит быть прочно прикрепленным самой природой к подлинным биологическим корням. А я срублен с них, как дерево, моя иссохшая вершина погружена в поверхностное, ужасное, болезненное волнение.
– Алеша... – сипло неслось мимо. – Алеша, что с тобой, кто из нас болен, ранен, у кого жар?
– Ах, я не знаю. Я пришел тебе сказать, вот теперь, когда все рушится мое и подлежит разрушению. Я пришел не пищать и не слушать. Один человек без голоса. Я глух, ты без голоса, хотя бы я и любил тебя. Ничего не слыхать. Орут миллионы, потому что они тоже вершинами в волненьи. Я проклинаю весь этот ревущий по пустякам человеческий бор...
...............
– Да, да. Ваша революция глотает меня. Ваша. А не та, которую я почувствовал вдруг на фронте после Бреста, когда ушел в тыл немцам. Та революция, моя, была вечная против смерти и с смертью боролась. А ваша, которой вы овладели за два месяца, коммунистическая, это – от одной формы хозяйствования к другой. Переход, не больше. Какое право здесь смерть? Я закачался вершиной: своим иссыхающим умом. До мятежа, до смерти отца я думал, что это серьезно и тоже за жизнь. Чепуха. Я погубил отца в сообщничестве с большевиками, которые мне враждебны. Кровь, а ты говоришь о любви...
– Доктор, идите к ней. Ей плохо. Перенесите ее обратно в общую палату. Она коллективистка. Нынче ночью я вам позвоню и буду знать, что мне делать после вашего ответа.
Под ним уже шипел и бился автомобиль.
– Где Северов? – спросил Калабухов у шоффера.
– А они остались в аптеке, а меня отпустили.
– Ну, будет история!
Калабухов весь был залит своим красным номером. На нем осаждались матово-алые обои. Вошедшему товарищу Лысенко казалось, что Калабухов в красной своей черкеске – заодно с густо-красной гостиницей, где он остановился с отрядом красноштанных своих телохранителей и куда Лысенко долго не пускали. Рыжая бородка Калабухова – пламя над угольно-пылающим сгустком.
Товарищ Лысенко увещевал:
– Дорогой товарищ Калабухов. Ваши требования помиловать всех арестованных белогвардейцев решительно нельзя допустить. Они совершенно непонятны и необоснованны. Сейчас было заседание комитета нашей партии и меня делегировали к вам. Вы революционер и славный революционер.
– Уходите, – вдруг мрачно выронил Калабухов, – город под угрозой моей батареи и преданных мне партизан. Если завтра к десяти часам вы не выдадите мне или не отпустите арестованных – я разнесу весь город.
– Товарищ Калабухов!..
– Оставьте. Я с ума сойду от этих криков и стонов в городе. Сегодня утром по приезде своем я видел у Кремля старушку. Она все кличет Володю, которого вы должно быть шпокнули прошлую ночь. А ведь этот Володя возможно мой гимназический товарищ, а мать его я, кажется, пятнадцать лет помню. Это жизненные корни мои. Довольно вырывать деревья с корнями.
– Товарищ Калабухов!..
– Вы, вероятно, пришли дать мне разрешение на освобождение Северова. А как вы смели арестовать его, мною назначенного начальника гарнизона, спасшего вас? Вы убили отца моего. И пусть, мне меньше его жаль, чем лучшего друга, которого вы осмелились арестовать. Друг – это благоприобретенное.
– Товарищ Калабухов!..
– Уходите вон.
– Вы не смеете! Вы глумитесь надо мной, гражданин Преображенский.
– Ого! Ты, кажется, хочешь проехаться на моей машине за город и дальше к Духонину.
– Вы не... – и товарищ Лысенко, подавленный событиями последних дней, не спавший три ночи, ничего не евший, вдруг мягко начал оползать с кресла, голова его запрокинулась неестественно, как на шарнирах.
Калабухов позвонил.
– Григоров, позови кого-нибудь, чтобы убрали тело. Он в обмороке.
Через десять минут Григоров сообщал:
– Товарища Северова на руках принесли. Это вы все виноваты, Алексей Константинович. Зачем вы приказали им наган отдать. Они такой в аптеке тарарам наделали, шоффер рассказывает. Мотор у него заглох, магнето спортилось. Поэтому он услыхал, что в аптеке делается. Услыхал и вбежал потому, что видел, что Юрий Александрович не в себе. Влетает в аптеку, а там все бутылочки звенят. "Давай, – кричит, – давай!" И наган на аптекаря навел. Тот видит, что человек необузданный, пищит, – "сейчас, пощадите, ради бога". Понимает, что на город орудия наведены. Узнал что ли, что товарищ Северов из нашей армии и не постесняется. Завернул и дал. Юрий Александрович схватили, кричат "держи кожу" и себе в руку тычат. Потом выбежали, в автомобиль сели, а как Исаев довез их, так они как мертвые.
– Оживет, чорт с ним. Необузданный, действительно. Все мы, Григоров, необузданные.
Восьмая.
– Ну? – спросил Северов. – Северов пришел отдохнувший.
– Что "ну". Художествуем. Надоело все. И твои террористические походы на аптекарей больше всего. Был у Елены. Два часа тому назад тут валялся Лысенко. Странная штука – неограниченная власть. Потребовал, чтобы Елену, полуумирающую, перенесли в отдельную комнату...
– Перенесли?
– Разумеется. Мне сегодня время представляется сладким и конденсированным, как американское молоко. Я пью свою власть, думаю последнюю. Захотел – и тебя из тюрьмы изъял. Захотел – арестовал и выпустил перед отъездом сюда на произвол судьбы комиссаров, которых ко мне прислал Теплов.
– Где же они?
– Ходят, должно быть, по степи. А потом выстроил все части, которые вызвал с фронта и заявил, что начальник штаба армии Эккерт не подчиняется своему командующему. Прочитал перед фронтом его записку. Потом отвел в сторону и выстрелил ему в затылок. Ах, все равно... Большевистский ставленник, спец не подходил к моей великолепной банде.
– Ого! На что ты бьешь, Алексей Константинович?
– На биологические корни. Мне казалось, что омертвение, охватившее мою кожу и ум, пройдет... А Елена умрет. Впрочем, все умрем... Слушай, Юрий, мне надоело жить монахом. Мы только умеем разговаривать да убивать. Я хочу пожить, Северов. Нужно сказать Силаевскому, чтобы через час мы были в ресторане. Мы – монахи. У нас дурное воображение. Нужно, чтоб были проститутки. Мы – русские интеллигенты.
Северов поглядел на Калабухова.
– Жиже стал народ и не умеет властвовать. Ах, если бы я не был морфинистом!.. Я думаю, что такая фигура, как ты, Алексей Константинович, продукт войны и команды. Ведь тебе властвовать – значит напрягаться и тужиться, как фельдфебелю. Глаза на лоб лезут. У тебя от власти в душе свободного угла нет. Хочешь, я произнесу обличительную речь.
– Хочу, но пошлем сначала Силаевского на поиски.
...............
– В обычное время ты, Алексей Константинович, занимался бы своей, в сущности, жалкой крохоборской специальностью, преподавая русский синтаксис и Саводника, удовлетворяя общественные стремления заседаниями педагогического совета, а теперь ты стал революционером во всероссийском масштабе. Ты чувствуешь, что мировым не будешь, и ты не древний эллин, чтобы твое, в достаточной мере мрачное, честолюбие нашло себе усладу властью в одном кантоне. Вообще революция похожа на Элладу отсутствием специализации, молодостью воздвигаемой культуры, а ты, несчастный, хоть знаешь греческий язык, но человек – без ограничения себя.
...............
Болтов додиктовывал последнее распоряжение, куда-то собираясь, закручивая вокруг себя смерч из мелких подчиненных, хотя все двигалось с необычайной закономерностью и закономерной раздельностью. Но когда вошел Козодоев в этот кабинет, где свет чуть ли не пятисотсвечевой лампы едва не рвал стены, Болтов, который его и ждал, сразу остановил смерч.
– Как дела, браток? – спросил Козодоев.
– Дела, как у Саввы Морозова. Только труба пониже, да дым пожиже. Все идет на лад. Мои ребята не дрейфят. Я нынче глядел на небо, как в море, и думал, зря это Калабухов пускает аэропланы, как его отец зря писал про наших коммунистов – расстрелять. А сейчас...
В комнату вошел агент.
– Калабухов кутит в "Очажке".
– Копель, поставить наблюдение. Послать взвод. Не упускать ни одного из виду.
– Товарищ Седых, а цифры насчет того, к какому сословию принадлежат все арестованные, подобраны?
Болтову подали записку.
Арестованных – 167, из них: рабочих – 3,
крестьян – 24,
купцов и мещан – 123,
дворян – 17.
– Видал! – сказал Болтову Козодоев. – Этим будем крыть Калабухова на рабочем собрании. Калабухов теперь может раздираться как угодно. Не пойдет седьмая рота одна, наполовину уговоренная, а остальные его солдаты не пойдут против рабочих.
И уже в темноте, как в черном обрыве, куда они сверзились из залитого электричеством кабинета. Болтов, очутившись как бы наедине с этой ночью, хотя справа шел Козодоев, как бы не деля сокровенных своих мыслей от этой темноты, говорил:
– Копель давеча спросил – почему я иду на рабочее собрание? Я буду двадцать минут там, а заряжусь на всю ночь. Хочу посмотреть, как примут, хотя знаю, что примут хорошо. А кроме того хочу сам наблюдать, как будут раздавать оружие. А эти господа, они умеют только пить. Так пусть Калабухов думает, что нас этим проберешь, – обожгется. Северов – умняга, а не понимает, за что мы боремся. Когда будет жрать всем, все будем умными, не глупее Северова. А ему и поговорить не с кем. Один живет, как пьяный в трезвой компании. Ну, как пьяный и дебоширит.
Темнота сопела: Козодоевым.
– Помонашествовали – и будет! – крикнул Калабухов Северову через стол, когда кабинет уже казался ему каютой, и была эта каюта душна, плотно забита людьми и ее качало.
От тапера осталась одна спина, а с лица жавшей под столом ногу Калабухову дамы лезла ему в глаза назойливая эмалевая маска: резкое различение пудры, белил и карминных губ, – при чем все это подавляло пуговичный носик. Другой дамы никто кроме Силаевского не видал.
Силаевский, красночакчирый, с расстегнутым френчем, из-под которого выглядывала рубашка казенной бязи, скрылся вместе со своим шрамом через левую щеку, увел дам и тапера в соседний свободный кабинет.
Стало вдруг тихо и душно, как в учреждении после занятий, и тяжело осел табачный дым.
Калабухов глушил мадеру чайным стаканом.
– Это биология:
По вечерам над ресторанами
Вечерний воздух дик и глух.
– Брось, Алексей Константинович, не впадай в детство. Поддержи кожу.
Северов вынул шприц и, сломав ампулку, помыл в ней кончик иглы.
– Я совершенно не пьянею, потому что впрыскиваю.
Он выпил коньяку и взял прямо рукой твердый кусок паюсной икры.
– Брось эти стихи.
– Да ведь это наше детство, Юрий, ведь это наша культура. Россия... Россия, нищая Россия. Россия и горда только своей культурой, поэтами и балетом.
– Папиросы русские за границей ценятся, Алексей Константинович.
– Брось, Северов. Это пошлость. Культура, это – гордость. А я должен гордиться и гордиться вместе со своей страной. Антисоциальный человек неблагодарный хам. Но революция губит объединенную гордость: культуру. Вот мы с тобой, Северов, семь месяцев бьемся за цивилизацию и что я заметил: современный человек в революции хамеет и уединяется. А социализм – культура – покуда не осуществляется. Вот этот ресторан и эти проститутки, да это машины, двигатели внутреннего сгорания... И бьемся мы за двигатели для всех.
– Ох-ох-ох! – блаженно прохрипел Северов. – Можно два слова в защиту цивилизации? Я их скажу. Промолчать было бы неучтиво перед стенами этого гостеприимного дома, в котором мы находимся. Дорогой Алексей Константинович, не мне бы защищать цивилизацию от социалиста, но злое семя, – я думаю, что теперь можно не скрываться, – мое семя пало в гостеприимное чрево твоего ума и дало плод. Но не превосходи учителей. Дорогой мой, остановись земля – океаны выплеснутся и сметут сушу. В Японии, в шестидесятых годах кажется, было землетрясение, так вода шла на остров стеной в две версты вышиною. Свидетелей не осталось. Так о нашей планете свидетелей не осталось бы, если бы встала, как вкопанная, земля. А вот тебе другая мировая катастрофа: вообрази, что вдруг внезапное сумасшествие отняло хотя бы бухгалтерию у человечества. Тогда бы наше красное мастерство – война вся – оказалось бы ничтожной детской забавой. Погибали бы городами и странами. Вся Америка какая-нибудь без бухгалтерии вымерла бы и никто не цитировал бы Блока. То-то и оно.
– Чепуха. Умру из гордости за гордого человека, за его культуру. Я сегодня умру, Северов. Я жду только одного известия – -
– Я знаю. Т.-е., известие это знаю. Но, милый мой эс-эр (буду продолжать свою мысль), цивилизация, земля, хотя может быть под трактором. Еще старец Зосима учил, что землю целовать надо, отчего пошло все "Русское Богатство". А прежде старца Зосимы – Гутенберг, который изобрел свой печатный станок, после их обоих – популярный Рубакин и большевики – все цивилизация – учат тому же.
– Поэтому я их и ненавижу теперь, сознав вот это, они давят мою гордость.
– Но, дорогой мой, надо быть сколько-нибудь последовательным. Человечеству тесно жить на нашей планете. Большевики – жилищный отдел человечества, о котором вы все так пеклись.
– Я ни о ком не пекусь уже. Меня печет мадера и жжет ожидание известия. Ах, какая мучительная пошлость весь этот грохот с осажденным городом, где мы пьянствуем, кого-то свергаем, кого-то освобождаем. И выхода из этого нет. Волнение меня захлестнуло. Мне выход – стена или сам; в обоих случаях – пуля.
– В обоих случаях пуля. Посуди, подумай, Алексей Константинович. Наши разговоры похожи на беседы мясников на бойне. Наша жизнь – на Охотный ряд. И покуда мы здесь трудимся над этими темами, ты надеешься, что уйдешь из жизни победителем, благодаря "седьмой роте", твоей главной силе; в это время, покуда ты пьешь, Болтов подослал, наверное, к нашим солдатам своих агентов, и войска уже, наверное, не повинуются нам. Противная фигура этот Болтов. Это – расстрел, а я не люблю расстрела. В то время, когда складывался мой характер, я избегал, стоя в оппозиции царскому правительству, знакомства с его расправами. Единственный человек, которого я расстрелял бы, это – Болтов.
...............
В непроглядной, в безлюдной ночи, темнота которой казалась вечной, как чернейший сон, темнота которой казалась сосредоточенной, как эссенция, залившая город, – в этой южной ночи Болтов с Козодоевым, тяжело пробивая ее, как волнорезы, долго пробирались к цели.
Еще издали в темноте и молчании раздавленного ночью, залитого чернотою пути слышалось живое биение машины. Это единственная в городе работала электростанция завода сельско-хозяйственных машин.
Дом союза металлистов, помещавшийся во дворе завода, был наполнен едкой электрической пылью. Из окон вырывался свет его струи, скрещиваясь, как клещи, скусывали столбы, стропила и заборы. Все это предстало Болтову за поворотом к заводу.
После тревожного вопроса: "Кто идет?", после внимательного осмотра рабочим стоявшего в патруле.
Заседание.
Тревожно.
Решительно.
– Товарищи, мы кругом опутаны белогвардейской интригой.
Как машет он выросшей до половины зала рукой. Должно быть, молотобоец. Как вздыбил он руку и взволнованно кричит:
– Они воспользовались несознательностью мобилизованных шкурников. Все завоевания Октябрьской революции...
Болтов прошел в дверь с надписью "Заводской Комитет" и очутился в душной желтой пыли, в синем всепроникающем махорочном дыму, в смеси окрашивающей зеленью знакомые, но искаженные напряжением лица.
Он вытер со лба мгновенный пот, выступивший от духоты, и уже барахтался, уже отпихивал, уже перебрасывал Козодоеву исступленное кружение вопросов: "Ну, что? как? где?".
И через несколько секунд, выбившись из этого смерча, Болтов увидал, что ребята куда-то схлынули, очевидно в зал заседания, сообщить о его приходе президиуму собрания.
Болтов, уже овладев волнением в комнате, уже превозмогши его, спокойно попыхивал папиросой, и его собеседнику товарищу Рыжову, председателю завкома, бил в лицо с хорошо слаженного бушлата крепкий запах влажной морской ночи.
– Мне скоро? – спросил Болтов.
– Минут через десять. Договорят.
В комнате свежело.
– Ну, как ребята? Не дрейфят?
– Это кто, наши рабочие? – спросил вместо ответа Рыжов и разговор круто перешел к тому, что гвоздем стояло в голове у Болтова независимо от мятежей, волнений, передряг...
– Как правишь, управляющий заводом? – спросил Болтов. – Вы вообще отчета кому-нибудь сведения даете? – Работа есть?
– Мы прямо в Губисполком, у нас вроде кооператива, да только заказов мало.
– Кооператив... – задумчиво протянул Болтов и нахмурился.
– Ты что же, братишка, или в Совнархоз хочешь? – полюбопытствовал Рыжов, но потрясение стены, за которой грохнули рукоплескания, не дало Болтову ответить.
– Товарищ Болтов – в зал!
–
Болтов командовал:
– Всех на три взвода: Рыжову, Козодоеву, мне. Вооруженных мне. Остальных Козодоев ведет на пристань вооружать. Это заместо резолюции.
Он быстрой развалкой вышел на лестницу, по лестнице вниз.
Во дворе, где электрический свет из окон бил струями, уже грудились темные хрипевшие придушенным разговором массы.
– Куда ты, деточка? – спросил Северов маску из белил и кармина, задержав ее в коридоре и едва шевеля мертвыми губами.
– Миленький, хорошенький Юрочка, дай триста рублей.
– Хищничаешь. Зачем тебе?
Северов едва ворочал опухшим языком.
– Дорогой, я завтра за мукой посылаю. Мука – четыреста рублей пуд. У меня есть сто рублей.
Она вдруг вся выстволилась и, как теплый ствол, прижавшись к смягчевшему Северову, искусно выпила его губы.
– Хочешь?
– Не могу. Импотент.
– Как-нибудь... Я знаю... как...
– Я знаю, как это называется. Нет, деточка! А денег у меня нет. Никогда не бывает. Я сейчас пойду и возьму для тебя у Калабухова. Триста рублей. Подожди.
Он вернулся.
– На, золотая.
Бумажки пропали в ажурном чулке.
– Старо это. Со времен финикиян в чулок прячете. Хотя, чорт знает, может быть тогда чулок не было. Но это возбуждает. Пойди, позови Силаевского. Можешь сказать ему, что в голове командующего зреют благие мысли.
Северов взглянул вдоль по коридору. Калабухов куда-то бежал и крикнул издали назад:
– Я к телефону.
– Знаю, известия. Позови мне, детка, Силаевского.
И Северов поволочился в свой кабинет.
Силаевский вошел без френча, он не садился.
– В голове командующего благие зреют мысли, но помните, Силаевский, что то, что я сейчас говорю, я говорю и допускаю в состоянии невменяемости. У меня любопытство. Вы ничего не понимаете?
– Ничего! – гаркнул вдруг Силаевский.
– Вот, застегните брюки – "пусть молчат твои чакчиры", это батенька, из Кузмина. Слушайте начальство!
Вместе с коридорным вихрем вошел, шатаясь, Калабухов. За ним дамы и тапер.
– У-мер-ла.
– Я знаю, Алеша, – вдруг мягко промямлил Северов. – Товарищ Силаевский, слушайте распоряжения командующего армией.
Калабухов вытянулся, вытянулся Силаевский. На темном диване словно черным пламенем, горел Северов.
– Садитесь и выпьем.
Дамы, видя что напряжение как будто разряжено и начинается их время, обе, сев около Калабухова, обняли его.
– Милые барышни, – сказал Калабухов, – вы огорчены, что мы с Северовым мало обращаем на вас внимания. Перед вами экземпляр дружбы. Но мне хочется посмотреть -
Он встал к окну и смотрел на разбросанные в котловине редкие огни города, которые заставляли думать о его призрачной грандиозности.
...............
– Сейчас же поезжай, Силаевский, – начал Калабухов, – в гостиницу и к братве на вокзал. До утра пусть будет порядок. Иди.
– Товарищ Калабухов...
– Иди, – приказал Калабухов.
Словно раскололась рюмка, звякнули шпоры.
– На, Юрий Александрович. Это я написал в будке, когда звонил в больницу о Елене. Лакеи... все там сидят около будки. Я им приказал не приходить сюда, но пошли за ними девицу; надо расплачиваться.
Северов взял записку.
"Единственному земному другу Северову.
Ты изменил. Культура – гордость. Будем гордиться и фанфаронить".
Они вышли все вместе. Лакеи опасливо закрыли за ними дверь. На улицах был сырой бархат. Одна девица села на извозчика. Другая пошла с Северовым. Пройдя с ним несколько шагов, Калабухов отстал. Они шли, и лица их оглаживал влажный бархат.
– Ты слышала выстрел? – спросил Северов костяным голосом.
– Кто идет? Стой!
Северов узнал голос Болтова.
ЭПИЛОГ.
Дело революционного военного трибунала N-й армии о контр-революционном мятеже левых эс-эров, А. К. Калабухова, В. С. Силаевского, сочувствующего той же партии Ю. А. Северова и других заключает в себе около трехсот листов. В тексте повествования нам приходилось неоднократно ссылаться на указанное дело Ревтрибунала. Оно же проливает свет на последние дни наших героев.
–
Из стенограммы допроса председателем губернской чрезвычайной комиссии т-щем Болтовым гражданина Северова.
С е в е р о в: Я мог бы не отвечать на все заданные Вами, гражданин председатель, вопросы. Дело ясно и без моих показаний. Но меня увлекла мысль сохранить для будущего всю выразительность нашей жестикуляции. У меня есть утешительное в моем положении соображение о ценности нашей эпохи в истории, а, стало быть, и о ценности тех, кто эту эпоху делал. Вы спрашиваете, сочувствую ли я партии левых социалистов-революционеров и какой партии сочувствую вообще?
Я знаю, что будет и социализм, и коммунизм, и, вышелушивая основное ядро из мякоти всяких идеалистических и агитационных словоточений, понимаю, что большевики ведут Россию и человечество к иному, некапиталистическому, более совершенному хозяйствованию. Стало быть, я верю в неизбежное ваше торжество и думаю также, что от этого торжества будет легче и лучше большей части населения земного шара. Отвечу: Ну, и торжествуйте! Исполать вам.
Я бы с удовольствием принял участие в этом торжестве, но в настоящее время у меня нет ни желания, ни сил, – я сознаюсь, – принимать участие во всей этой, в сущности мышьей, грызне, которая, вероятно, называется планомерным разрушением старых форм жизни, ибо меня лично ни в какой степени не интересует судьба рабочего класса и им ведомого человечества. Я назвал бы себя социалистом-индивидуалистом, бесплодным социалистом.
Вы разрешите, гражданин Болтов, слегка уклоняться мне, ибо я надеюсь, что ваша стенографистка оставит мне в утешение до моей скорой смерти несколько ценных мыслей. И кстати разрешите мне проверить стенограмму*1.
Тов. Б о л т о в: Пожалуйста, я слушаю. Копия стенограммы Вам будет прислана в камеру.
С е в е р о в: Итак, мне глубоко безразлично устроение пролетарских дел. Но в вас, в коммунистах, – привлекательная, прямо-таки волнующая черта: очищенная воля к власти. Власти мешают национальные, имущественные и всякие иные скрепления, которыми человечество нелепо дробится на мизерные, незавидные для настоящих честолюбцев куски. Если властвовать, так над планетой. Вы меня извините, мне несколько смешно, что этот великолепный материал о властнических тенденциях я развертываю перед председателем провинциальной чрезвычайки. Это – следствие моей формальной причастности _______________
*1 Копия стенограммы, действительно, очень тщательно выправлена рукой Ю. А. Северова. к партии, в коей равнодействующая похожа на большое чернильное пятно.
Теперь – о себе лично, ибо на вашем лице я вижу законное нетерпение. Физически я – развалина. Вероятно поэтому я попытался вытаскивать из огня каштаны чужими руками, вмешался в кашу, заваренную Калабуховым, и с его помощью заканчиваю тридцатитрехлетнюю волынку, начатую синодским чиновником Александром Феофилактовым Северовым и его достоуважаемой супругой, имя которой я забыл.
Я живу вспышками сознания. Один, не весьма грамотный поэт в каком-то провинциальном сборнике, недавно мною прочитанном, написал:
Осталась одна отрада
Стихи, кокаин и шприц.
Ваш тюремный врач, который написал на моем свидетельстве morphinismus et neurastenia знает, что у меня отрад, максимум – одна. Впрочем, мне трудно говорить. Разрешите дать мне письменное показание и на это время разрешите пользоваться мне моим средством.