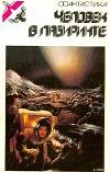Текст книги "Пречистое Поле"
Автор книги: Сергей Михеенков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
Кто-то из мужиков, стоявших ближе всех к дороге, сказал тихо, но его услыхали все:
– Взводом идут. В колонну по три. Как положено.
На говорившего испуганно оглянулись, зашептали осуждающе. И над головами ожидавших снова сомкнулось молчание.
Уже стали различать и узнавать идущих в первой шеренге, а кто-то из старух, охнув тяжко, заголосил, запричитал истово; уже некоторые не выдержали ожидания и, обгоняя друг друга и спотыкаясь, пошли навстречу прямо по полю, потому что дороги всем не хватало; уже и там, в солдатской колонне, заметно заволновались, прибавили шагу, отчего ряды их еще более расстроились, и казалось, что вот-вот и те и другие побегут навстречу друг другу. И вот в то самое время между ними, на горбовине большака, хлопнул выстрел. Будто сломали сухую еловую жердь. И над желтой кипенью сурепки понесло низовым ветром синий дымок Тут же хлопнуло еще один раз и еще, и еще.
– Стреляют!
– Это ж вроде стреляют!..
– Кто стреляет?
– Кто?
– Где?
– Вон, на большаке!
– Да кто ж это, а?
Взводная колонна вначале остановилась в нерешительности, но после третьего или четвертого выстрела там подали протяжную команду, и тут же, наклонив к земле блеснувшие на солнце штыки сорванных с плеч винтовок, строй рассыпался, развернулся в густую цепь. Цепь продвинулась немного вперед и вначале одним, а потом и другим флангом залегла.
А на окраине села сразу заплакали, заныли, зашвыркали носами дети, а взрослые пригнули головы, замахали руками и сжатыми кулаками. Старухи голосить перестали.
Стреляли через одинаковые промежутки времени. И теперь самые смелые и любопытные могли разглядеть справа от дороги бугорок свежевырытой земли и то, как над тем бугорком после каждого выстрела взбрасывался и тут же таял синеватый реденький дымок.
– Да кто ж это там? Г-гад!
– Кому-то, видать, не по нутру все это. Ой, не но нутру кому-то!
– Не по нутру? Нешто есть у нас в селе такие?
– В своих… Кто же это?..
– Значит, есть. Всякая кость есть.
– Ты гляди, гляди, как, сволочуга, пуляет.
И тут над перепуганной и снова сбившееся в бесформенную кучу толпой послышался громкий возглас:
– Осип! Это ты, Осип! Ты, поганая сила!
Все обернулись и увидели Павлу Михалищину. Она стояла посреди толпы, сухая, высокая, в. черном глухом сарафане с упавшим на плечи подшальником, и смотрела туда, где залегла цепь и где появлялись и тут же исчезали дымки выстрелов. От околицы казалось, что залегших на поле расстреливал и. в упор, что, наверное, они все там уже лежат убитые.
– Это он! Он, злодей! Он! Он! – и Павла шагнула к большаку.
Люди, расступились пропустили ее вперед, но, когда она отошла шагов на сто, закричали:
– Куда ж она?
– Остановите ее!
– Тетка Павла! Вернись, тетка Павла!
– Павла! Паша, воротись! Куда ж ты, господи! Он же убьет тебя!
– Ах ты, боже ж мой, что ж это на белом свете делается…
А Павла Михалищина шла и шла, не оборачиваясь на зовы односельчан. Ветер трепал ее подшальник и черный подол сарафана, облеплял худые ноги и впалую грудь тан ни разу в жизни и не набухшую и не поболевшую от притока материнского молока. Другой болью болела всю минувшую в одиночестве жизнь ее грудь. Изболелась. Выболела. Ничего в ней не осталось. Кроме жалости и невысказанной, окаменелой обиды. Этого до смерти не выплачешь.
– Мужики! Да что ж это вы, окаянные души, стоите? Он же убьет ее! Остановите ее! – закричала истошно какая-то баба и кинулась было следом за Павлой, но ее переняли, схватили за руки.
Она забилась, закричала еще громче и страшнее и повалилась на землю. Долго еще голосила и рвала землю из-под себя и волосы. Державшие ее мужики хватали за руки, разжимали скрюченные, будто судорогой сведенные пальцы, выпутывали волосы и успокаивали дрожащими осевшими голосами:
– Ну, тетка Настя. Ну, уймись же ты. Что ж ты так, тётка Настя…
Ребятишки, как только ударили в поле первые выстрелы, яблоками осыпались вниз и попрыгали в большую круглую ямку неподалеку. Была здесь, под липками, когда-то давно, еще до войны, колхозная рига. В войну ее сожгли, один бултырь остался. Туда же пихнулись некоторые из молодок, боявшиеся всякого шума. Они лежали и сидели, спрятав в подолы лица, и вздрагивали, ойкали после каждого выстрела.
– Надо уходить! В село уходить надо! Всем – за дворы! Всем – за дворы! – закричал кто-то из мужиков.
И ему тут же ответили:
– Иди! Иди, Степан Петрович! Беги! А там, между прочим, и твои сродственники есть!
– Ложись! Ло-ж-жи-ись! – закричали опять. – На землю! Детей хороните! В ямку детей! – теперь кричал Василий Прасолёнков.
Митька, всё это время гревший, животом землю на краю бултыря, опустив вниз лишь ноги, вскочил и кинулся к отцу. Но тот схватил его за плечи, встряхнул и повалил на землю. А сам, раздвигая мятущихся людей, стад протискиваться в середину толпы, поднял руку и опять закричал:
– Бабы! Мужики! Если оттуда залпом ударят… Ложись, говорю!
Митька поднял голову. Хрустнула на зубах земля. Он сплюнул раз, другой черную тягучую слюну и хотел было заплакать, но в самый последний миг перед слезой Сдержался и начал отыскивать в толпе отца. Никогда Митька не видел его таким. Отец метался в толпе, кричал, властно командовал, и ему повиновались, он будто ростом стал выше. Митька испугался, как бы не попала в него, такого большого, пуля. Неподалеку он увидел бабку Просу. Опершись на ореховую палку, она напряженно всматривалась в горбовину большака. Митька приподнялся на руках, руки тряслись, и, вскочив на ноги и пригнувшись, побежал к ней.
Он увал возле самых ног бабки Просы, опять захрустело на зубах, дернул ее за подол и закричал:
– Ба! Ба! Ходи скорей в ямку! Сейчас стрелять оттуда будут, ба!
– Погоди-ка, внучек, – ответила бабка Проса и сильной цепкой рукой ухватила Митьку за плечо, не давая ему встать.
– Пойдем скорее, ба, – заныл, задергался под ее рукою Митька. – А то сейчас по Дятлу залпами начнут бить и пули сюда полетят!
– Все померкло. Все чернотой залило. Ничего не вижу. Подведи-ка, Митюшка, меня к отцу. К папке веди. Слышишь? Поднимайся. Поднимайся, не бойся. Веди, детка.
Все уже лежали. Кто где. Кто притулился за деревьями. Кто добежал до кустов и схоронился там в глубоко прорезанных колеях старой дороги. Кто лег прямо на краю поля в выпаханной до песка борозде. За такую пахоту по морде бы следовало, но теперь те, кто лежал в той рыжей борозде, поминали нерадивого пахаря разве что добрым словом.
Один Василий Прасолёнков не пригнул ни колен, ни головы. Он стоял, смотрел пристально в поле, и ветер неистово разбрасывал его русый чуб.
Митька подвел к нему бабку Просу.
– Сынок, – позвала старуха, ощупывая перед собою пустоту. – Где ты, сынок? Вася?
– Мама? Почему вы здесь? Идите в яму. Сейчас же идите в яму! Митя, сейчас же уводи бабушку!
– Погоди, Вася. Там… там… – она указала трясущейся рукой в поле. – Твой отец там. Иди, Вася, сынок, к нему. Иди скорее. И храни тебя господь.
Василий Прасолёнков некоторое время смотрел на мать, потом на Митьку и, тряхнув головой, так он делал всегда, когда на что-нибудь решался, сказал:
– Митя, сынок, веди бабушку в укрытие. Веди скорее, слышишь! И За мамой, за мамой смотри, Митя. Чтобы не высовывалась, смотри!
Митька шел с бабкой Просой к бултырю и время от времени оглядывался в поле: там асе еще хлопали одиночные выстрелы, далеко, уже на самой почти горбовине, чернела высокая фигура бабки Павлы, а правее, наперерез ей, бежал по пашне отец.
– Куда ты его послала, ба? Куда? – теребил Митька бабку Просу за полы фуфайки.
– Ему туда надо, – ответила ровным опавшим голосом бабка Проса.
– Куда, ба?
– Туда, внучек, к мужикам нашим.
– К каким мужикам?
И вдруг бабка Проса остановила Митьку и спросила:
– А где же народ, Митюшка?
– Тут, ба. Лежит, ба, весь народ.
– Лежит. Лежит? И мужуки лежат?
– Все лежат.
– А, лежат… Они, может, и в штаны наложили! Эй, мужуки! Вставайте, мужуки! Да как же вам не совестно! Что ж это вы похоронились? Осипка забоялись? Он, антихрист, над матерями вашими измывался да над сестрами. Некому тогда за нас заступиться было. А теперь он вон опять ружье взял. Совсем власть над вами, валухи чертовы, забрать хочет. Поднимайтеся, мужуки! Не принимайте грех на душу! Поднимайтеся все!
Старуха подняла голову вверх, откуда шло, струилось тепло родившегося дня, подумала: «Хоть солнце, может, увижу». Но ничего не увидела она и поняла, что ослепла окончательно. Но не это ее сейчас заботило. Она выждала немного н так же громко сказала:
– Чтой-то, Митюшка, не слышу я, старуха старая, как встают наши мужуки. Может, я не только ослепла, а и оглохла?
– Мужики лежат, ба, – сказал Митька.
– Лежат? А, тогда они оглохли. От Осипковой стрельбы оглохли мужуки наши. Ну, внучек, тогда я до них не докричусь. Веди меня туда, – и махнула властно рукой в сторону большака, где бил и бил по залегшей в редкой сурепке цепи из немецкой винтовки надежно зарывшийся в землю Осипок.
И тогда только, облизав сухие губы и уняв дрожь в руках и ногах, поднялось все Пречистое Поле. Поднялось и молча, не глядя друг другу в глаза, пошло вслед за старухой и мальчиком, а вскоре и обогнало их. Старуха почувствовала нечто такое, что до этого чувствовала только во сне, и то всего несколько раз за всю свою долгую, как. она сама считала, жизнь: Она узнала, что это. Необыкновенную легкость ощутила она во всем свеем теле, задышала чаще и глубже и, боясь, что силы вот-вот покинут ее вовсе, спросила Митьку:
– Идут? – Идут, ба.
– А теперь? – спросила чуть погодя, уже с трудом разлепляя губы.
– Идут! Все идут! Глянь, ба, и там тоже встали! Там! Там, ба! Солдаты встали, ба! – закричал Митька и еще сильнее потянул бабку Просу за руку.
– Митя, детка, – сказала она тихо, почти шепотом, – помоги-ка мне лечь. Вот тут, на землице. Тут я лягу. Тут мне хорошо будет.
– Ты что, ба? Все пошли, а мы!..
– Делай, что говорю, неслух. Вот так, так, детка. Спасибо тебе. А теперь отойди, я помирать стану. Отойди, Митя. Тебе, поди, страшно будет.
Митька молча отошел от бабки Просы на несколько шагов и остановился. «Как же так, – смятенно думал он, оглядываясь по сторонам, – если ты помрешь, то как же я без тебя, баба Проса?» В какое-то мгновение он хотел побежать вместе со всеми, но потом подумал, что одну бабку Просу оставлять умирать нельзя. Подойти к ней он тоже не осмеливался: не велела, да и страшно было. Раньше он видел мертвых. Бегал, и не раз, смотреть похороны, Но тут умирала его бабка, бабка Проса. Митька сел на землю и заплакал. Он размазывал трясущимися кулаками слезы по щекам и лбу и время от времени смотрел на бабку Просу, вытянувшуюся на пашне поодаль, Бабка Проса лежала смирно и смотрела в небо не щурясь. Митька с надеждой думал, что, если глаза открыты, человек еще жив.
А на горбовине большака между тем происходило вот что.
Не успели пречистопольцы миновать и половины того расстояния, которое отделяло их от Осипкова окопа, как с той стороны один за другим стали вставать солдаты залегшей цепи; кто-то из них крикнул, отрывисто, непонятно, а может, ветер оборвал, унес тот крик или нуля Осипкова, и, покачивая низко наклоненными к земле штыками, так что поблескивающие кончики их иногда задевали желтые головки сурепки. Побежали навстречу, полукольцом охватывая то место, откуда стрелял и етрелял Осинок.
Но первой настигла Осипка не пуля из той, густеющей от злобы и быстро приближающейся к нему цепи. И не штык, длинный, как копье, тяжелой русской винтовки первым настиг Осипка в его окопе, который некоторое время помогал ему держать прижатыми к земле обе половины села. Первой настигла Осипка Павла. И те и другие видели, как она подошла к бровке бруствера, подняла с пашни что-то похожее на тяпку или лопату и, размахнувшись высоко, во все плечо, рубанула в глубину окопа. Глухо и придавленно бухнул последний выстрел, совпав с ее ударом, и Павла, вскинув руки, стала медленно падать навзничь. Первым подбежал к Павле Василий Прасолёнков и подхватил ее на руки.
Люди сразу остановились, охнули, и в поле зависла такая тишина, что стало слышно, как в стороне выгона, сидя в сурепке, плакал навзрыд Митька. Голова его то поднималась из желтой кипени сорняков, то пропадала опять. Когда поднималась, рыдания были слышнее.
Осипка вытаскивать не стали. Он лежал на дне своего окопа, уткнувшись толовой в осыпавшийся угол и неловко подвернув под себя руку. Рядом лежал немецкий карабин, личное его оружие. Повсюду, даже на бруствере, валялись стреляные гильзы. А и много ж он их тут насеял, качали головами пречистопольцы и отходили в сторону. Из окопа воняло пороховой гарью, старческим потом и еще чем-то, непонятным пока, от чего, видно, и воротило всех.
Пречнстопольские бабы и мужики стояли с одной стороны и уже понемногу переговаривались, отходя от немоты. Заглядывали то в глубину окопа, то в глаза солдат. Те сгрудились с другой стороны и, тяжело дыша, молчали. И те и другие чувствовали за собой глухую непоправимую вину: одни – что вот так, не по-людски встретили своих, долгожданных; а другие – что не успели, что залегли перед какой-то сволочью, что допустили пролитие крови.
– Успел-таки, гад, – послышалось в толпе.
– А винтовка-то, винтовка, гляди, немецкая.
– Какую выдали.
– Ишь, сколько годов берег.
– А Павла ж что, живая еще?
– Унесли Павлу, к фершалу понесли.
– В грудя, говорят, в самые попал.
– Эх, беда-беда.
– И так несладко жила.
– Беда, а не одна беда. Тетка ж Проса тоже померла. Сердце остановилось.
– Глядите, глядите, люди! Живой вроде.
– И вправду, дышит.
– Дышит, гад. А то бы и прикопать тут… – Нельзя. Живой…
– Лопата, должно быть, вскользь прошла. Оглушила. Не охрянет, видишь, – никак.
– Надо тогда вытаскивать. Судить чтобы.
– Э, вытаскивать… Кто ж его будет вытаскивать? Вытаскивай. Он там, чуешь, вроде обделался.
– Да пристрелить его, суку, и прикопать. Вот будут рассусоливать, что да как.
– Правда что. Он в нас крыл – не жалел.
– В поле?
– Прибить бы можно, да поле гадить…
Потом пречистопольцы подняли глаза и пристальнее стали всматриваться в лица солдат, в плотно сомкнутые рты, обведенные серовато-грязными потеками от высохшего пота, в изгибы То ли запыленных, то ли выгоревших бровей. Кое-кто уже узнал в тех изгибах и морщинах родное и пошел, расталкивая толпу, навстречу. И через минуту в поле чуть в стороне от большака вихрем поднялся и закружился, втягивая в себя все окрестное, такой стон и крик» какого здесь испокон веков земля, быть может, и не слышала.
В Пречистое Поле взвод вошел строем, как и полагается воинскому формированию на марше. Вот только песню не пели, не до песни было. Пропылил до центра села, где когда-то стояла церковь Всех Мучеников, а теперь лишь бугрилась рыжая от кирпичной крошки земля, кое-где поросшая конским щавелём да полынью, остановился возле ракит, составил винтовки в козлы, по шесть. Возле козел был выставлен часовой. А остальные разошлись по селу, по родным дворам и усадьбам. У кого что осталось. К чему или к кому можно было идти, туда и шли.
Глава шестая. В ЧЕРНОБЫЛЬНИКЕ
Иван Шумовой снял с чердака несколько тесин, отнес их к верстаку, поточил о наждачный круг лёзгу, заправил ее в рубанок и сделал несколько пробных застругов. Тес был сухой, лежал долго, сосна – такой строгать хорошо. Такой тес строгать – не работать, а отдыхать. Но теперешняя работа не радовала Ивана Шумового. Врямя от времени он откладывал рубанок в сторону и, прижмурив один глаз, прикидывал, ладно ли будет.
Григорий сидел поодаль, под старой рябиной, привалившись плечом к ее стволу, будто обтянутому глянцевой свинцово-серой кожурой. Он уронил одну руку на землю раскрытой ладонью вверх и смотрел куда-то бессмысленно и тупо.
– Так-то оно вот, – не выдержал молчания Иван Шумовой, – живешь, живешь… А доски хороши. Ладный дом Павле состроим. Не осерчает. Да она никогда и не серчала на меня. Соседями мы с нею были смирными, незлобными друг на дружку. Я-то что, я ж в основном поговорить любитель. Но особо не надоедал. А она, бывало, стоит вон там, на калитке, и слухает. Молчит. Молчала все. Редкое словечко какое скажет. Это я, старый балабон, всё молотю языком, молотю, молотю… Ну, н выпить я другой раз заходил. Что было, то было. Это ж как загорится внутрях, кидай все, штыки в землю. У ней всегда в шкапчике четверточка стояла. Про запас. Оно ведь как при нынешнем порядке: за деньги, к примеру, дрова не повезут, и не подходи, огород тоже не станут пахать – бутылку надо. Я у ней этот энзэ сегодня, к примеру, разорю досуха, а назавтра опять на место поставлю. Честь по чести. Там, в этом… в шкапчике, может, и теперь что стоит. Слышь, Григорий? Не слышишь… А, ну ладно. Это я так. Потом помянем. А что ж, и помогали друг дружке другой раз. Сыны мои, кобели чертовы, по державе разъехалась. Один на севере, другой на юге. Держава-то наша российская, ой, брат, велика! Девка замужем, мужик военный, капитан, скоро, пишет, майора присвоют. Всё, знаешь, по гарнизонам. А по мне так: бездомное ихнее житье. И у сынов, и у дочки. Бабка-то моя померла. Бабка моя из Ковалевкн была. Взял я ее из Ковалевки. Я на ней после войны женился. Может, знаешь, Зинка Поличенкова? Это в девках – Поличенкова.
Григорий ничего не ответил. Даже глаз не поднял. Будто никого здесь и не было. Курил. И теперь смотрел куда-то вниз, на свои изношенные ботинки. Рука его все так же покоилась на земле раскрытой ладонью вверх.
Иван Шумовой внимательно посмотрел на него, покачал головой и тоже промолчал. Только крепче стал нажимать на рубанок. На том и кончился их разговор.
К полудню гроб был готов. Открыли сундук, и Павлу обрядили во все, что она собрала себе в дорогу еще живучи на земле Обрядили, положили в гроб. Гроб поставили на стол. В сомкнутые на впалой груди руки между закостеневших пальцев сунули свечку и зажгли ее. Свечка стояла прямо, длинная, тонкая, и пламя стояло прямо, и от этого было не очень заметно, как она тает. Тоскливо запахло воском. И сразу все бывшие здесь вздохнули облегченно.
Погодя пламя в руках лежавшей в гробу вздрогнуло, заметалось, оплавляя воск на краешках выгорающей свечи, – пришли другие люди. Потом еще. И еще. Те, которые последние, помолчали с обнаженными головами, покашляли и позвали Григория. Григорий вышел. Это были Иван Филатенков, Иван Федотенков и какой-то парень, высокий, плечистый.
«На Каменку нам надо, – сказал Иван Филатенков – Христину проведать. Могилку хоть поправим. Помянем. К вечеру вернемся». «Христину?» – переспросил Григорий; он посмотрел на Ивана Федотенкова и, вспоминая что-то, покачал головой. «Гриша, мы лопату и косу тут поищем, попросил Иван Федотенков. – Там без косы и лопаты…» «Ищите», – сказал Григорий.
Косу нашли в сенцах. Там же на пыльной полке отыскали засаленный, порядком сточенный и теперь похожий на щепочку брусок. Парень сбегал в огород и принес старенькую с коротким надломанным черенком лопату.
– Пожалуй, и топор бы надо, – сказал парень. – Черенок надо будет новый насадить. Крест там тоже сгнил.
Топора хорошего не нашли, и парень пошел к Ивану Шумовому. Тот к тому времени, завершив хлопоты с гробом, успел-таки приоткрыть шкапчик, где стояла распечатанная им еще на прошлой неделе поллитровка, захмелел й ушел домой отдохнуть.
«Чей это?» – спросил Григорий и кивнул вслед парню. «Христинин племянник. Таси, младшей ее сестры, сын. Тоже Иваном зовут», – сказал Иван Филатенков; он тоже смотрел, как уходит племянник, покачивая крутыми плечами. «Христе поклон от меня. А вы к вечеру возвращайтесь. Вечером всем надо быть на месте», – сказал напоследок Григорий, повернулся и пошел в дом, к Павле.
От Пречистого Поля до Каменки дорога не ближний свет. Вначале полем – поле ж до леса долгое, – потом лесом километра три. Вот по ней и шли три Ивана, три пречистопольских мужика. Шли не спеша, друг друга плечами касались, разговаривали.
– Тебе сколько ж от роду? – спросил Иван Филатенков Ивана Младшего – Так они звали его между собой.
– Восемнадцать, – ответил тот и живо понравился: – Осенью будет.
– В армию когда?
– День рождения отмечу и пойду на службу. А может, и весной. Когда призовут.
– Сам-то как, хочешь в армию? Или – как в неволю?
– Чегой-то – как в неволю? Пойду служить, – Иван Младший засмеялся. – Что ж я, бракованный, что ли?
Когда вошли в лес, Иван Младший вытащил из-под ремня топор и нагнулся было к березке, росшей у дороги, но Иван Федотенков окликнул его: – Ты что?
– Черенок же для лопаты надо…
– Лопата нам где понадобится? На Каменке. Вот на Каменке черенок: и сделаем. А на опушке дерево рубить… Гляжу я, живете на своей земле, а как все равно последний год.
Иван Младший виновато покрутил головой и сунул топор обратно за ремень, сказал:
– Чего ее жалеть, все равно тут скоро все раскорчуют? Я уже и план видел. Землеустроитель из Новоалександровской приезжал, ходил тут, смотрел, замерял.
– Как это раскорчуют? – спросил теперь Иван Филатенков, до того не очень-то прислушивавшийся к разговору своих спутников.
– Поле расширять будут. Чтобы пашни больше было.
– Что же, мало ее, что ли, пашни?
– Не хна, замерял.
– Не знаю. Наверно, мало, если расширяют.
– А, ну тогда точно мало, – с усмешкой сказал Иван Филатенков. Но Иван Млад видать, не почувствовал его насмешливого тона и простовато сказал:
– Понимаешь, дядь Вань, стране больше хлеба надо, мяса, молока.
– Так ведь это стране всегда надо было. Но и думать надо. Думать! Слыхал, Иван, пашни им мало? Раскрестьянствовались землячки. Луга запахали, поймы осушили. А теперь, гляди ты, за лес принялись! Это ж чье распоряжение? Кто ж это у нас в Пречистом Поле такой умный?
– Кто… Кому положено Председатель. Вадим Георгиевич Кругов.
– Ишь ты! Председатель! Кому положено… А что, кроме вашего Кругова, что ж, больше никому не положено умную голову на плечах носить? Кругов… Кругов? Что-то не слыхал я раньше у нас в колхозе такой фамилии.
– Да он нездешний. Приезжий.
– Приезжий… Ты, парень, вот что: приезжего от своего умеешь отличить?
– Как это?
– А так. Приезжих да проезжих тут знаешь сколько было? Еще до тебя. Тут они в нашем дому – как сквозняк. Так что отличай. Учись жить – пора.
– Да он вроде мужик ничего.
– А скажи-ка ты мне, Ваня, дорогой мой односельчанин, ты вот на тракториста выучился, права имеешь. Скоро тебе, глядишь, и трактор дадут. И пошлет тебя твой Вадим Георгиевич Кругов лес вот этот корчевать. Поедешь? Корчевать поедешь? Пашню расширять поедешь? А?
– Ну, дядь Вань, интересно ты рассуждаешь…
– Во-первых, я тебе уже сказал, не дядькай, мы с тобой почти ровесники, а во-вторых, отвечай прямо: поедешь выполнять приказ своего председателя или пошлешь его куда подальше?
– У меня образование не такое, чтобы ему что-то втолковывать. Он институт закончил, диплом имеет.
– А вы что высших образований не получаете? Кто ж вам-то мешает учиться?
– Да, и мешают! – вдруг вспыхнул Иван Младший, и на щеках его закраснели неровные круги. – Нам как говорят: всем классом – в колхоз! на ферму! Нам говорят, что родному хозяйству на ноги помочь встать надо! Вот как нам говорят. А кто уезжает, тому такие характеристики пишут, что с ними только под мостом стоять.
– Нет, Иван, ты слышишь, что у них тут творится? От гады что делают! Родному хозяйству… на ноги… Иван, что ты молчишь? А ну-ка, скажи, солдат, мы за это с тобою воевали?
– Что тут скажешь… – Иван Федотенков махнул рукой. Иван Младший усмехнулся, теперь он взял верх в разговоре, сказал:
– А ты всегда выполнял приказ? Там, на войне, когда тебя командиры в бой посылали?
– Выполнял. Через то и голову потерял.
– Значит, я тебе там тоже не всегда правильные приказы отдавали. Ну, скажи, ведь не всегда правильные?
– А, что теперь на командиров пенять. Нами лейтенанты командовали. Командовали как могли. Там такая мясорубка была, что командармы не знали, что делать. А взводные что… Они сами недолго головы на плечах носили. Как в окружении бывало? Не бросали нас, и то ладно. Вели, выводили. А то ж бывало так, что и бросали. – И вдруг Иван Фнлатеяков ткнул Ивана Младшего пальцем в грудь. – А ты вот можешь ручаться за своего лейтенанта?
– За какого лейтенанта, дядь Вань?
– Да за председателя. За председателя. Что он вас не бросит. Что втравит вас вот в это, в разор этот, и не бросит! Только откровенно говори.
– Не знаю. Странный вопрос.
– Так, не уверен. Значит, не можешь ты за него поручиться. С таким командиром, Ваня, хреново, скажу я тебе, в бой ходить. С таким много не находишься, А ты мне: приказ… правильный… неправильный… Если бы мы там рассусоливали..!
– Там и подумать другой раз некогда было, – подал голос Иван Федотенков, все это время молча слушавший разговор двух Иванов. – А тут все ж таки не война. Тут дело другое. Тут подумать можно. Тут надо думать.
– Нам теперь говорят, что тут тоже война. Вон, в газетах пишут, – по-прежнему горячился Иван Младший, – ударный фронт! Передняя линия! Победители! Пораженцы!
– А раз война, то воюй, – быстро, с нервным придыханием заговорил Иван Филатенков, расстегивая ворот гимнастерки. – Воюй. Раз такое положение. За свою землю воюй. Ты думаешь, за что мы с Иваном воевали? За светлое будущее? Так тоже в газетах писали. В наших газетах тоже чего только не писали. За правое дело? А что такое светлое будущее и правое дело? Мы с Иваном, если так разобраться, вот за этот лес, может, и воевали. За Пречистое Поле. Чтобы стояло оно на своем месте еще столько же, сколько простояло. За вас. За матерей ваших. За землю. Воюй. Ты ее никому не уступай. Ты за нее горло должен любому гаду перегрызть, если он ее поганить посмеет. Понял? Иначе ты не сын ей!
Иван Младший побледнел, опустил голову.
– Понял? – еще раз спросил его Иван Филатенков. Тот молча кивнул.
– Слышь, Иван, надо бы сегодня к этому Кругову зайти, – сказал Иван Федотенков. – Что ж такое, правда что, делается? Лес тут век вековал, а теперь – под топор? Полей и так хватает. Они тут и эти пахать не управляются. Да и опять же, гектарами закрома не наполнишь. И ты, Иван, если и вправду план такой неумный есть, не смей нашу землю разорять!
Теперь другой Иван положил руку на плечо Ивану Младшему:
– Ты вот говоришь, лес можно отодвинуть на полкилометра, что его от этого не убудет. А ведь убудет. Еще как убудет. Наши отцы лес не трогали, мы не тронули, и вы не смейте. Вот ты березку под корень рубанул – и меньше у твоей, родины стало на одно дерево.
– Ну, я ж не рубанул. – Не рубанул… Не ухватили бы за руку, рубанул бы и не подумал.
– Да ладно вам! – обиделся Иван Младший, стряхнул с плеча руку одного из Иванов и скорее зашагал вперед.
– Иван! – окликнули его. – Иван, постой! Ваня, да что ты, боже ты мой!
Но тот даже не оглянулся. Иван Филатенков кивнул Ивану Федотенкову, усмехнулся и вдруг ни с того ни с сего негромко пропел частушку:
Ты Иван, и я Иван —
Голубые очи.
Мы с тобою в Магадан,
Ну а кто-то в Сочи.
Пропел, притопнул ногой и окликнул Ивана Младшего:
– Вань! Слышь, Вань! Ты в Сочах бывал? Ну, обиделся…
– Не бывал, – ответил тот, не оборачиваясь.
– Жаль. Побывай обязательно: Там, говорят, хорошо. Тепло. Море. А в Магадане тебе делать нечего.
Иван Младший обернулся, горбясь и кося плечом, и усмехнулся.
Дорога в лесу была сухая, только кое-где ночью с долгих трав нападало росы, и теперь там темнело, парило. Полуденная жара проникала всюду, в такую пору и в тени не отдохнешь. Хотелось пить, они облизывали губы, оглядывались по сторонам и молча шли и шли дальше. До Каменки оставалось немного, и с разговором прикончили.
Вскоре лес отступил от дороги, и чем дальше Иваны шли, тем шире он расступался. По обочинам– тянулись уже настоящие луга, и если бы их косить, к примеру, не к лесу, а вдоль, то надо было бы Делать, пожалуй, не меньше трех, а то и все четыре загонки. Рос здесь сочный и цепкий придорожный клевер, местами пестрела иван-да-марья, от нее даже глазам больно становилось, мрели на жаре на лысых песчаных буграх, потревоженных съехавшей с насыпи машиной, столбы иван-чая и коровяка, а кое-где лоснились ровными, будто перья на птичьем крыле, усами колосья ржи. Дорога стала немного кривиться вправо, обходя сырую лощину. По дну лощины неслышно тек ручей, русло его будто нарочно кем было беспорядочно закидано крупными и мелкими округлыми камнями.
– Ну, братцы, вот и пришли, – сказал кто-то, и каждому из троих показалось, что эти слова сказал он.
Они свернули с дороги. Гремя ботинками и сапогами, пролезли через пыльную полынь – чернобыльник, вольно росший по откосам насыпи и дальше, до самого леса, подошли к невысокой тесной оградке и обступили ее молча.
Давно сюда никто не ходил. Оградку, как видно, покрасили лет пять назад, краска побелела, местами и вовсе отшелушилась и опала заскорузлой чешуей. Крест повалился навзничь, вывернувшись из земли рыхлым заплесневелым комлем и опершись одной стороной широкой верхней перекладины на оградку. По нему, таская различный сор и пряча в глубокие трещины белые продолговатые кругляшки яиц, ползали муравьи. Они спешили по невидимым дорогам, обгоняли друг друга, останавливались друг перед другом, стригли чуткими усиками, будто антеннами, возвращались назад; в своей разумной неиссякаемой суете они были похожи на людей. Холмик зарос все тем же чернобылом. Возле калиточки, державшейся на проволочных скрутках, валялся позеленевший стакан с отбитым краем и пустая бутылка. Да, лет, пожалуй, пять сюда никто не ходил.
Иван Филатенков сорвал с калитки проволочный обручок, шагнул за оградку, встал на колени, раздвинул пыльную полынь и поцеловал сухую натруженную землю и, запрокинув вверх потную стриженую голову, сказал: «Прости, Христинущка. Прости, родимая. Что не увидал тебя с дороги, когда шел сюда, прости. И что не вернулся. И за все остальное тоже, Христннушка…»
Долго он стоял на коленях перед могилой жены, долго немо смотрел в землю, вдыхая горький и жаркий полынный дух, обжигающий не только гортань и глаза, а и проникающий в самую душу й запекающийся там, в ее потемках, больными сгустками. Никто не смел ни окликнуть его, ни потревожить остановившуюся здесь и будто засмотревшуюся на них тишину. Он больше чем кто-либо имел право на эти долгие немые минуты.
«Эх, да словно ж вчера все было!» – сказал он, качнулся и снова приник лбом к горячей земле. Здесь, внизу, полынью пахло еще сильнее, и Иван Филатенков подумал в какое-то мгновение: «Вот, родным духом хоть подышу вволю. Говорят, что полынь везде пахнет одинаково. Может, кому-то и вправду одинаково. Но вот эта… Горше этой, видать, во всем свете нет».
Так думал Иван Филатенков, лежа на могиле своей жены.
Потом он встал, так же молча и не поднимая головы, пошел в лес. Час или два спустя, никто того времени не считал, он вернулся на выкошенную уже луговину, неся на плечах своих широкий розоватый ясеневый крест. Иваны, попеременно косившие округу, подхватили было тот крест под перекладины, как подхватили бы человека под руки, но Иван Филатенков отстранил их.