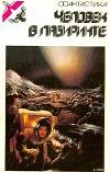Текст книги "Пречистое Поле"
Автор книги: Сергей Михеенков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц)
– Откуда она у тебя? – спросил.
– В лесу подобрала. По ягоды ходила и нашла. Под ухват подсовываю, чугуны катаю. Деревяшку засунула и катаю.
– Нашла на чем чугуны катать, – усмехнулся он в темноте и подумал, что завтра надо бы сделать Павле каток, дубовый, чтобы подольше послужил. И еще хотел сказать Григорий Павле, ощупывая тяжелый затыльник гильзы, что вот из такой пушки и накрыло их с Иваном Фидатенковым в той проклятой лощине возле шоссе. Рота поднялась на прорыв, передовая цепь, смешавшись и не сделав ни одного выстрела, благополучно добежала уже до опушки леса, и там можно было уже и залечь, осмотреться, а при необходимости, если немцы обнаружат их и откроют огонь, окопаться, хоть как-то прикрыть остальных, помочь им перебежать лощину. И те тоже уже поднялись и ринулись следом, молча» только оружие глухо побрякивало. Вот тогда-то с левого фланга, из лесочка, ударила скорострельная пушка. Снаряды рвались прямо под ногами, тут и там среди бегущих, разбрасывая черную весеннюю землю и верезжащие осколки. Один из снарядов разорвался рядом с залегшим взводным, и Григорий, отерев с лица грязь и копоть, увидел лишь кусок шинели лейтенанта и разорванный сапог с торчащей из него белой костью. Тут Иван подхватил его под руки и крикнул, что надо бежать вперед, к лесу, что если залечь здесь, то больше уже не подняться, что здесь, в лощине, перебьют всех. И они побежали к лесу, держа наперевес винтовки с примкнутыми штыками и низко пригибаясь к земле. Но пушка, замаскированная в дальнем углу лощины, била и била, снаряды ложились в самую гущу бегущих, словно те, кто из нее стрелял, заранее знали, что окруженная, зажатая со всех сторон, рота начнет прорыв именно здесь.
Кто споткнулся первым, Григорий теперь не мог вспомнить. Видимо, все же он. А Иван? Почему тогда не добежал Иван? Значит, он вернулся… Вернулся, чтобы поднять его? «Он подумал, что я ранен, и вернулся. Вернулся, и его – тоже. Зачем ты вернулся, Иван? Эх, Иван, Иван…»
Григорий вытащил из гильзы обгорелую деревяшку. Вырезал из куска шинельного сукна полоску, разгладил ее на коленке – фитиль получился неплохой. Залил керосин в гильзу, сплющил ее. Чиркнул спичкой. Со спички пламя перекинулось на фитиль, торчащий из гильзы немного косо, вспыхнуло ярче, вытянулось, захлопало острым! стремительно вьющимся кончиком.
– Ну, вот и с огнём мы теперь, – сказал он. – Только копоти много.
Он поставил гильзу на середину стола. Красноватый свет снова озарил старые стены, белый бок печи, белые рушники в углу и всё небогатое, блеклое убранство малой горницы.
Павла отворила окно. Сразу засвежело. Послышалось монотонное стрекотание цикад, и где-то тоскливо, с надрывом, завыла собака.
– Что это она? – прислушался Григорий.
– А, ну ее, благую, – отмахнулась рукой Павла. – Она каждую ночь так, окаянная. Вот жилы вытягивает, вот душу мытарит.
Глава вторая. ПАВЛА, ВДОВА ГРИГОРИЯ
Павла убрала со стола. Только недопитую бутылку и стакан оставила рядом с гильзой. Сама села напротив, и Григорий, глядя ей прямо в глаза, сказал:
– Ну, Павла, рассказывай, как вы тут без нас жили? Каково теперь живется? Все рассказывай, что на душе скопилось. Ничего не таи.
Она вдруг догадалась, что для этого он и пришел, и испугалась: расскажу ему все, он посочувствует мне, пожалеет да и уйдет скоро. Вспомнила, так-то вот точно к Варе Громовихе приходил ее мужик, тоже убиенный; Варя пожаловалась ему на тогдашнего председателя сельсовета Ларюшку Утёнкова, тот огород у нее отрезал и облогу заставил разгородить, помешала, видишь, сельсовету Грамовихина загородка, тот будто выслушал ее слезы, вздохнул, а вздохнувши, встал и молча ушел. Варя Громовиха сама рассказывала, плакала. «Так и мой Гриша, видать, уйдет», – подумала Павла. Она не знала, что делать, что сказать.
– Жили, – вздохнула она через силу и некоторое время молчала.
Собака в селе умолкла, цикады тоже угомонились, и настала такая тишина, что Павла побоялась говорить громко, как бы не услышали с улицы и не подумали чего зря, зашептала: – Жили, Гриша, так и жили. Потому что живые остались.
– Ну а ты? Ты-то как?
– Я? Да я что ж… Я ж одна. Пережила. Одна голова не бедна, а и бедна, так одна. Это у кого семеро по лавкам было…
– Немцы здесь долго стояли?
– Почесть два года. Да, так оно и было. Осенью в сорок первом годе пришли, а в сорок третьем, в августе, аккурат после Успенья, нас и освободили.
– Лютовали?
– Всего было. Я и не знаю, про что вспомнить тебе.
– О чем сердце болит, о том и вспомни.
– Оно обо всем болит, Гришенька…
Григорий вздохнул и опустил голову. Павла посмотрела на него, покачала головой, видать, вспоминала.
– Как это они пришли, – начала она, – Алдоху с девками побили. Девок-то Алдохиных помнишь?
– Помню. Шура и Зина.
– Да, Шура и Зина. Зина, помнишь, глазастенькая такая: была да продувная. Всем, егоза, прозвища давала. Ей девять годков тогда только и было. А Шуре ж и того меньше. Ах, деточки вы мои…
– Погоди, Павла, – остановил ее Григорий; и узкий красноватый язык пламени качнулся и затрепетал, размазывая по тусклому пространству горницы черную нитку копоти. – А Прохор, Павла? Он что же, тоже не пришел?
– Нет, Гриша. Не пришел Прошка. Похоронная бумага на него пришла в сельсовет уже после Победы. Где-то на неметчине и остался. Когда Пречистое Поле освободили, пришло от Прохора письмо. Из госпиталя. А бабы, куриные головы, возьми и напиши ему, что Алдоха с девками уже давно в землице лежит. Видно, он там после ихнего письма: смерти и искал…
– Вот так… Да… Значит, всю семью вырубило. Всю. Под корень.
– Всю, Гриша, – горестно качнула Павла головой. – Всю. Павла видела, как побледнел он, как расширились его глаза, став на миг страшными. Она хотела сказать, что и ихний, михалищинский корень тоже не прижился на свете, что вот свекует свой век она, старая вдовица, и оборвется совсем родовая ветвь, тоненькая и ненадежная, как паутинка, и за нею уже ничего и никого не будет. Но увидела, как сошел с лица Григорий, узнав о том, что и Прохор тоже где-то споткнулся и лег, передумала говорить.
– Павла, – сказал погодя Григорий. – Я ж, Павла, с его братом, с Иваном, вместе воевал. Я ж, кажись, и писал тебе об этом?
– Не получала я, Гриша писем твоих.
– Не получала? А я писал. Писал.
– Не доходили. Видать, терялись где-то.
– Оккупация. Да… Какие ж письма? Сгинули где-то.
– Что ж – письма? Народу вон сколько погинуло.
– А мы с Иваном в одном взводе. Всё, чуть что, выручали друг друга да табачком делились. Нас, Павла, тогда, возле шоссе, вместе… В лощине. Из скорострельной пушки… – и Григорий, не договорив, кивнул на сплющенную гильзу.
– Степаняты тоже не пришли, – отозвалась Павла.
– Карп и Гриша? А разве их тогда: успели призвать?
– Призвали. Почесть всех призвали. Вы ушли, а через неделю и их на Новоалександровскую проводили. Степанчиха все жила, все дожидалась сыночков своих, а летось померла. Летось много народу нашего, пречистопольского, прибралось. Високосный год. А Степанчиха вроде я не собиралась помирать, пошла перебирать картохи, да так около копца и ковыльнулась. Внучку напужала.
– Где похоронены?
– Кто? Карп и Гриша? Э-э, где ваши могилы… – всхлипнула она, чувствуя, как стало судорогой плача кривить набок рот. Но тут же она начала пересиливать себя, догадавшись, что не время сейчас голосить. И пересилила кое-как. Утерла платком глаза и нос и далее все еще дрожащим, как кончик пламени коптилки, западающим голосом: – Ей, Гришенька, отписали, что без вести пропавшие они.
– Без вести?
– Без вести, – подтвердила Павла. – Тогда ж много так, без вести которые, погинуло. А считай, полнарода.
– Да, Павла, много, – кивнул он. Григорий потянулся к бутылке и сказал:
– Я, Павла, еще себе налью.
– Налей, Гриша, налей, – сказала она, встала и принесла из сенцев тарелку с огурцами. – Закуси вот. Они хоть и летошние, а крепкие еще. До свежих-то еще не скоро. Я и сама съем огурчик.
– Так что ж ты про Алдоху с девками не досказала, – напомнил он ей, выпив и снова, как н в первый раз, понюхав ломоть хлеба. – Ты, Павла, расскажи, как их… Как все было, расскажи.
– Эх, Гриша, и вспоминать-то – лихо на душе делается. Когда через нас от Борка снаряды стали лететь, мы побросав ли все и побеглн. А куда бечь? В лес побегли. Кто-то из мужиков крикнул, что в лес надо, вот и побегли в лес. В узелки схватили кой-что, что под руки лопалось. А Алдоха, и что ей взошло в голову, с хлебами занялась. Хлебы-то она с утра поставила, а тут, на тебе, бомбить начали. Я забегла к ней, Алдоха, кричу, кидай свою стряпню, надо в лес, хорониться, а то уже все село ушло, одни мы только остались. Тут и девки у окошечка прижавшись сидят. Как ласточки. А она мне на это: куда ж, говорит, надо хоть хлеба взять, неизвестно, что дале-то будет. На девок кивнула, есть, говорит, запросят, что я им дам? Вот и взяла хлебы. Тогда я, это, к девкам, Алдоха, кричу, давай я хоть Зину с Шурой уведу. Нет, говорит, они со мной пойдут. А они уже, деточки мои, с узелочками так-то сидят, на коленочках узелочки держат. Снаряды стали совсем близко рваться, окна затряслись, тырса с чердака посыпалась. Ухватила я Зину за руку, и она, знаешь, это, тоже так-то ко мне и прянула. Алдоха, молю, отпусти ж ты хоть Зину со мной, я одна, я ее на руках, коли что, унесу. Как чуяло мое сердце… Алдоха забранилась на меня. Ну, я и побегла одна. Бегу и плачу. Чуяло-таки сердце. Так и вышло. Вечером бабы пошли в село, а вскорости бегут назад и рассказывают: немцы уже прошли, хаты целы, а деда Коляя и Алдоху с девками в ямке под горкой побили. Пришли мы двору. Алдоха с девками лежит в картофельной ямке под одеялом. Дед Коляй с ними тоже. Подняли одеяло. Бабы сразу в голос. У Ал дохи, страшно глянуть, все лицо побито, санки ажно на затылке… А девки так-то с двух сторон прижавшись к ней лежат. Зине в шею и в голову, вот тут, повыше темени, и пятка сбита, кость набок прямо торчит. А у Шуры, у той вся спина… Пальчиками вцепились в мамку, думали, что мамка их спасет. Так мы их от Алдохи и не оторвали. Некогда было. Хотели разнять, а тут заговорили, что опять уходить надо. Скот уже погнали. Накрыли одеялом ихним да и закопали.
– Что ж они, сволочи, детей-то?.. – заскрипел зубами Григорий; уронив на руки голову с едва-едва назначившимися отрастать русыми волосами, теперь, в этом неверном свете казавшимися седыми.
– Они, может, и не тронули бы, если б не дед Коляй. Когда немцы в Пречистое Поле взошли, Алдоха с девками – куда деваться? под горку да в картофельную ямку. Дед Коляй тоже что-то сразу не ушел, да возьми и тоже к ним сунься. А у него пиньжак был такой, может, помнишь, из шинели перешитый. Немцы-то как наступали, видать, подумали – солдат. Побегли и прямо по одеялу… Эх, Алдоха-Алдоха, что ж ты мне, Алдоха, Зину-то не отдала? Вот и умру, а не прощу тебе, Алдоха.
– Многих из нас теперь не воротишь, – Григорий встал, пламя качнулось и вновь выровнялось, только красный кончик трепетал с тихим треском, размазывая копоть. – Ладно, Павла, будет об этом. Добро мое солдатское пускай тут полежит, а я пойду село обойду. Пока не рассвело.
Павла молчала. Ей хотелось спросить Григория, куда он, на ночь-то глядя, но слушала молча. Она знала, что все, что нужно, он скажет сам. В этом доме всегда было так, как он скажет.
– До рассвета ты меня не жди, – сказал Григорий,
– Ты что ж, – осмелилась-таки Павла спросить его о чем дрожало ее сердце, – никак встречать кого собираешься?
– Собираюсь, Павла, – ответил он; он, похоже, ожидал ее вопроса. – Они тоже придут. Они придут на рассвете.
– Кто, Гриша? – спросила опять она, приложив сухие, разбитые нелегкой работой ладони к груди, такой же сухой и немощной, как и все ее изношенное тело. Она спросила, хотя уже знала, к. то придет и кого собирается встречать Григорий. Догадывалась.
И ответил Григорий:
– Иван Филатенков, Прохор Филатенков, Егор Тарасенков, Степан Ильюшенков и все остальные. Все наши, пречистопольские, все придут.
Павле показалось, что вот сейчас она и умрет, так сдавило в груди, так там перехватило все. «Вот и хорошо бы помереть теперь, пока Гриша дома, – подумала Павла. – Похоронил бы. До кладбища проводил. Не насовсем ведь пришел. Вижу, не насовсем! Так насовсем не приходят. Повидаться пришел. Вон, шинельку даже не повесил. Завтра, глядишь, в обратную дорогу. Как же тогда жить одной? Умру, одна, и не вот спохватятся». Но в груди, вопреки ее жестокому желанию, дернуло, потянуло раз-другой, в последнее время так часто бывало, и отпустило. Только горячее что-то осталось, как будто железо раскаленное вынули, а боль осталась. Боль там, в груди, да горечь во рту. «Вот и в этот раз не умерла, – вздохнула она. Но во вздохе ее не было ни облегчения, ни. избавления. – Видать, поживу еще, на белый свет погляжу. На Гришу».
Григорий взялся за дверную скобу, но, прежде чем отворить, обернулся неожиданно, как если бы вспомнил что-то недосказанное, спросил:
– Павла? А скажи, жив ли Осип Дятлов?
– Осипок? жив Осипок, – ответила Павла, сразу насторожившись, но виду не подала. – Жив. Что ему сделается? Работает еще Бригадирствует.
– Ну, и как он?
– Все такой же. Покрикивает на людей да ухмыляется.
– О чем же он ухмыляется?
– О чём… Он знает о чем. Тогда с винтовкой ходил, начальствовал, а теперь с сумкой через плечо ходит. Такая, знаешь, сумка, навроде портфеля. И опять верховодит.
– Живет-то все там же?
– Нет, он себе новую хату поставил. Возле пруда, где раньше амбары колхозные стояли. Амбары-то повалились. Теперь их на новом месте востро или. А Осипок там себе для усадьбы место расчистил и построился. Теперь живет, как барин, в липках, особняком. Дочка ему шибко помогает, Людмила Осиповна. Дочка у него хваткая, вон как быстро наверх пошла. Институт закончила, учительницей у нас в Пречистом Поле с год проработала, может, и меньше, в райком кем-то там взяли. Потом в совхозе «Новоалександровском» два года партейным секретарем пробыла. А теперь Людмила Осиповна – заместитель председателя райисполкома. Мужик ейный тоже какой-то большой начальник, по строительству. Так они Оснпку и сруб привезли уже готовый, еловый, из лесничества. И фундамент залили. И так все везли, и везли, и везли на красных машинах. Машины большушшие, у нас в колхозе таких-то нет. Ночами все возили, чтобы поукромнее от глаз людских. Теперь Осипка за повязку не ухватишь, он ее вместе с зипуном немецким скинул. Зипун-то скинул, а душу не оденешь в другие одежки. Мы ж тут, кто живой остался, помним, все помним. Как он над нами, солдатками, измывался. На окопы гонял. Да кабы только это. Пристанет к которой, а та откажет, ну, тогда белого света через его измывательства не взвидывала. Всем смена, а ей, глядишь, опять на окопы. А на» окопах что? Холод, грязь, обсушиться негде, воши заедали. Лето и осень траншея копали под Крестами, это ж вон где, а зимой опять же иродром ихний от снега расчищали. Да, натерпелся от него народ. А теперь вон, гляди, опять Осип Дятлов герой перед нами. По праздникам медалями брякает, выхваляется. Речи перед школьниками говорит.
– А власть-то что же?..
– Э, власти… Кто у нас нынче власти? Там, наверху, они, может, и правильные речи говорят, а тут Осипки свое дело делают. Тут все – как было, так и осталось. Царские милости, что ж, в боярское решето сеются. Власти… У нас нынче Степан Дорошенков председателем сельсовета. А кто его выдвигал туда? Он, Осипок, его и выдвигал. Он да Людмила Осиповна. Она тут на дню по три раза. Как в вотчину свою приезжает. На белой машине. Идет по улице, так первая «здравствуй» не скажет, ни боже ты мой. Ни малому, ни старому. Барыня барыней. Из нашей-то грязи да в такие-то князи!.. Куда ж тут теперь?.. А председатель колхоза молодой парнишечка, из города присланный. Они его пригнули уже; куда им надо. Оженили на Степановой племяннице. Что прикажут, то он и делает. И тоже уже на людей гордо смотреть стал. Научился у Осипков. Дурное дело нехитрое. Таня, жена его, хорошая, простая. Остановится другой раз, поговорит, порасспросит, учеников пришлет, помочь чего. Да только вроде как украдьмя. Стоит, говорит, а сама по сторонам оглядывается, Э, Гриша, тут всё Осипок с Людмилой Осиповной под свой полоз подмяли, – Павла утерла косячком платка слезу. – Что тут, Гриша, рассказывать. Нехорошо живем. Да, нехорошо. А народ что? Народу лишь бы самому сытым быть да под носом от этой сытости не пахло. А раз сыт, так и ладно. Это когда сразу у всех скибку отымут… Народ на Осипка не оглядывается, будто и не видит ничего, Он, лукавый, знает, кому да как в глаза поглядеть. Кому – с медом, а кому – с полынью. Раз вот так попросила я коня, огород распахать, Осипок сунул мне хомут и селедку и говорит: на, Мнхалиха, паши. Я сперва не доняла, беру это, значит, хомут на плечо, седелку. А какого же коня, говорю, Осип Матвеич? А он будто, не слышит, про коня-то. Давай, говорит, я тебе, Мнхалиха, с хомутом-то помогу. И этак: наклонись-ка, говорит. Я и нагнулась сдуру. А он мне, полицейская его морда, хомут тот на голову и накинул. Это ж он мстил мне. Пожалилась я раз на собрании председателю и миру на него: что ж такое, сказала, делается на белом свете, старым колхозникам коней огороды пахать в последнюю очередь дают. Вот он и озлился. Не поняла я тогда, дура старая, что он с председателем все равно что две ручки одного плуга. На собрании-то Осипка пробрали, он и сам сидел, головой кивал. А потом все равно на, свой клин поворотил. Так огород в ту весну лопатой и копала. Хорошо, Иван Шумовой помог. Пол-огорода вскопали, а там свояк его, Санька Прокончин, на тракторе подъехал, то-то помог, дай ему бог здоровья. Вспахать-то вспахал, а потом его на пол-оклада оштрафовали. За использование государственной техники в личных целях. Говорят, закон такой есть. Видишь, какие законы нынче пишутся: Саньке, чтоб мне, старухе, огород подсобить вспахать – нельзя, а Осипку – все можно. Гриша? – позвала вдруг Павла.
– Что, Павла? – отозвался он.
– Я, Гриша, вот подумала: поди, зря я тебе про все это говорю. Жалюсь…
– Говори, Павла, говори. Я для того и пришел.
Но Павла замолчала. Видно, думала о том, что он только что сказал, веря в то, что он действительно пришел д лятого и что на рассвете, как он сказал, придут и остальные, и одновременно не веря в это. Григорий тоже молчал, стоя в темном углу у двери. И вдруг Павла усмехнулась и сказала:
– Злопамятный он. Злопамятный. А с чего у нас вражда началась? С петуха. Кому окопы, кому что, а мне он петуха не прощает. Хоть и не говорит, а я чувствую – петуха.
– Какого петуха?
– Петуха. В сорок втором годе было. Осенью. Немцы в Пречистом Поле всех курей переловили, так и подмели все перушки. И голоса куриного в селе не осталось. А у меня, веришь, нет, петух остался. Помнишь петуха нашего? Красного? Ох и боец же был! На все село красавец!
– Помню, как же. Сожрали-таки фрицы нашего жениха?
– Рожна им лихого, а не петуха! Осипок пришел, помню, и говорит: давай, мол, знаю, прячешь, по утрам орет, слыхал, пан Курт курятины желают. Пан Курт – это немец, начальник был надо всей нашей округой, холеный такой. Полицейские его боялись тоже. Как огня. Видно, пан Курт их тоже недолюбливал. А петух мой так-то из-под сенцев выбег и заходил перед Осипком, крылом сердито по земле зачертил. Осипок нагнулся, ухватить его хотел, да не тут-то было. Погоди, говорю, Осип Матвеич, я сама его поймаю. Гляжу, руку Осипок об шинель вытирает, раскровенил наш вон ему руку. Руку вытер, гляжу, и винтовку так-то с плеча сымает. Поймала я тогда нашего петуха возла сарая, взяла за крылья и говорю: Осип Матвеич, а нехорошо ведь так-то получается, у меня мужик в Красной Армии, воюет противу супостата, я одна мыкаюсь, а ты, говорю, мало что им пособничаешь, а еще пришел ко мне последнюю животинку забирать. Что, спрашиваю, Григорию моему говорить будешь, когда он вернется? Какими, говорю, словами оправдываться? А он, Осипок-то, озлился на такие мри слова, забранился, и все нехорошо так бранился, матерно, затопотал ногами да в плечо кулаком и пхнул. Он хоть и не больно, ударил, да обидно. Ох, как обидно! И взяло ж меня тогда зло! Ну, антихристова сила, думаю, на ж. тебе, немецкий обносок, курятины! На! На! Отсекла петуху голову да этой петуховой шеей ему по мордам. По мордам! По мордам! И-и, что там было! Божечка ж ты мой, что было! Стрелять меня хотел. Спасибо, бабы траапилися, порятоваля. На руках у него повисли. Полечка Кузнечиха да Ульяниха. А то б, наверно, и застрелил, антихристова сила. Так дулом промеж грудей и ткнул, полицейская шкура. Болит у меня в грудях с тех пор. Разом там сожмет, что не продохнуть, белого света не вижу, все в глазах меркнет. Увели меня бабы двору, легла я на лавку, вот тут, лежу и думаю: вот вернется Гриша, уж я-то ему пожалюсь на этого христопродавца.
Павла пододвинула гильзу к краю стола, чтобы лучше видеть Григория; Тот все так же неподвижно стоял у двери и молча, широко раскрытыми глазами, смотрел то на Павлу, то в угол, где темнели иконы, то на винтовку, стоявшую у подоконника и тускло поблескивавшую маслянистым, стволом. Твердые скулы его бледного лица все чаще и чаще вздрагивали, а подслеповато-красный свет еще сильнее оттенял худобу его щек и белки напряженных глаз.
– Кто из пречястопольцев еще в полицаях был? – Из наших боле никого. Двое окруженцев еще было. В примаках жили. У Души Макарчихи да у Степаниді Кошечки. Но те были не такие злодеи, как Осипок. Хоть и чужие. Он же их потом и пострелял на Новоалександровском большаке. Пострелял, все у них забрал и с этим добром через фронт, к нашим подался. В селе уже и думать об ём забыли, вон сколько народу тогда погинуло, всякого, и хорошего, и худого. Только он вскорости вот он, на костыле, с медалями. Герой. Раненый. В госпитале его вылечили, справки нужные выдали. И опять запановал Осипок в Пречистом Поле.
Ночь уходила в глубину, как память в прошлое, и, чем глубже в теиь, тем смутнее становилась она. В Михалищах и в селе за ручьем все угомонилось, успокоилось, замерло. Даже дрожащего, проникающего всюду свиста летучих мышей не было слыхать в открытое Павлой окно. А погодя немного, будто выждав, когда Павла, выговорившись, умолкнет, а Григорий еще не найдет слов, чтобы ответить или хоть как-то успокоить ее, крикнул первый михалищинский петух, и ему на более высокой ноте с нетерпеливой поспешностью ответили из-за ручья сразу два пречнстопольских. Крикнул, сотрясая горбатый, убого прилепленный к коровьему хлеву, видать, самой хозяйкой курятник, и Павлин петух.
– Все бы ничего, Грнща. Ты уж не подумай, что мне хужей других. Живем-то сейчас хорошо. Пензия идет, недавно еще десяточку прибавили. Теперь больше полсотни получаю. Молоко сдаю, тоже деньги хорошие плотят. Жить бы да жить. Только ни к чему. Не для кого мне копейку собирать. Умирать буду, все сбережения, какие от похорон останутся, в сиротский дом передам. Больно много сирот нынче, Гриша. Народ в водке захлебнулся. Даже бабы пьют. Совсем стыд-совесть потеряли. Детей порченых родют. И хороших тоже в приют сдают. Матерями быть не хотят. Стратился народ наш, Гришенька. Уж ежели бабы пить стали, то что ж дальше будет? Теперь продают меньше, законы написали противу пьянства. А по нашему сельсовету и вовсе объявили сухой закон. Пока, сказали, покос не пройдет, продавать не будут. А народ только сильнее озлился, и еще хуже запивают. Работу кидают, на Новоалександровскую едут. Отраву разную пьют, даже вон чем мух да клопов травят. Лишь бы одуреть поскорее. И мрут. Мрут ведь, детей сиротами на свете белом кидают. А все одно пьют. Самогон теперь в каждом доме гонят. Тут хоть какой закон пиши, а толку не будет. Сахару в кооперации с весны нету. Мешками волокли. Сказали одно время будто подорожает, вот и волокли. Другой раз так-то вот подумаю, Гришенька: а может, такой разор на нас потому, что силу да власть над нами осинки забрали? А? Правительство вон хочет державу на правильный путь наставить, в газетах всю подноготную правду писать стали, что и читать бывает страшно. Осипки на это еще злее зубами скрогочут да нас гнут. Потому как раньше им куда вольнее жилось. Теперь про них пишут. Пишут да по радио передают: сымают с работы и судют. Бабы вон говорят, что ежели всех их, воров, сажать, то и тюрем не хватит. А и не хватит. Где ж на них тюрем наспеешься? Видно, что так оно и есть: где-то потурили осипков, вернули людям справедливость, а потом глянули, сколько их везде, воров, да и плюнули. Я так, Гриша, думаю, что не справились с этим племенем.
– Ничего, Павла, и с нашими разберемся. До рассвета всего ничего осталось.
– Как же так вышло, что Осипок тогда, осенью, вернулся? Он же той же осенью, когда немец пришел, и вернулся в Пречистое Поле
– А как… Ушел. Бросил нас и ушел. Шкура. Мы оборону на Десне держали. Да, была там рубка… Сутки только и продержались. Полк наш обходить стали, с флангов, с боков, значит, отходить надо было. Вызвали добровольцев – в группу прикрытия. Мы втроем и вызвались: Иван Филатенков, я и он, Осип Дятлов. Мы ж тогда дружили. Вроде как. Выбрали позиции, ровики выкопали, установили пулеметы. Ребята нам патронов побольше оставили. Гранат. И ушли. Роты ушли. Снялись с позиций и ушли. А мы остались. Ждем. За Десну смотрим. Немца там еще не видать было, а уж гудело все гудом страшным. Мы с Иваном на взгорке так. Внизу Десна. И берег тот да-алеко просматривается. Осип ближе к лесу залег. И все у нас было рассчитано. Мы с Иваном перед самым бродом сидели, друг друга прикрывали, а Осип должен был ударить попозже, если немцы всё еще переправятся и начнут обходить нас по склону. Им только так и можно было нас с Иваном взять. Не ударил Осип. Мы когда с Иваном уходили, то побежали сперва к лесу, к Осипку, думали, может, раненый лежит, нас ждет. Мы ж как: договорились не бросать друг друга, если что. Вот тебе и если что. Подбежали мы к лесу, видим; пулемет целехонький стоит, цинки с лентами… Всё на месте. Только Осипа, дружка нашего: боевого, нету. Ушел, гад. Полк мы догнали только через месяц где-то. Нас уже и числить там перестали. Думали, что каюк заслону. Заслонов ведь вон сколько оставляли. Не одних нас. На каждой речке, на каждом бугорке. Да только мы одни, считай, и вернулись. Ротного нашего убило, взводного тоже ранило тяжело, на носилках несли. Докладывать пошли комбату. Комбат и не рад вроде, что мы вернулись. Глядел исподлобья. Потом спросил, стрелял ли Дятлов. Иван сказал, что стрелял. Я тоже подтвердил. И начал он нас тогда ругать за то, что не нашли Осипа. Бросили, говорит, товарища. Под трибунал, дескать, отдать вас за такие дела, да воевать некому. И правда, в батальоне штыков осталось с гулькин нос. Так что послал нас комбат в окопы. А Осипка записали пропавшим без вести.
– Ну, вот вы его на наши головушки, от начальства и оборонили.
– Эх, Павла, не брани ты нас. Хотели ж как лучше. Как же, земляк все-таки. Друг-товарищ. Думали, сами разберемся. Ладно, теперь и разберемся. Пришел час. Были мы ему с Иваном защитниками, а теперь мы ему судьи будем. Да черт бы с ним, если бы он тогда за полком тяганул! Хотя… Мы-то с Иваном, понимаешь, надеялись на негр, думали, если что, Осип прикроет. И он же знал, гад, что нам без него не выйти, если немцы поблизости где переправятся. Там еще была история… Когда уже поперли немцы, откуда ни возьмись, наших несколько человек, с десяток так, может, чуть побольше, прямо перед нами реку переплыли и к лесу по балочке побежали. Думали укрыться поскорее. А немцы поняли, что сейчас они уйдут, пулемет у самой воды поставили и – длинными очередями. Всех положили. Осипу в самый бы раз ударить по тому пулемету, это его сектор был. Всех посекли. Мы с Иваном потом по тому месту проползали, так страшно смотреть было. Вся трава в крови была. По стольку убитых сразу мы тогда еще не видели. И вот думаю я сейчас и не пойму: то ли он к тому времени ушел уже, когда окруженцы-то эти через Десну к нам… то ли смотрел, как их в балке добивали.
– Иуда, – отозвалась Павла, нарушая тишину, царившую несколько долгих минут после того, как умолк Григорий.
– Присягу забыл.
– Иуда и есть. А из госпиталя пришел в село героем. Как же! За Родину, за Сталина кровь проливал! Грудь в медалях!
– Что ж, видно, хорошо воевал.
– Воевал. Всюду поспел. И все неправда его, Гриша. Вот у меня сердце и заходится: как же так, думаю другой раз, неправдой тогда жил, неправдой и теперь разживается, и все ему ладно, все ему хоть бы что? А ежели бы, к примеру, Гитлер победил и власть свою установил? А? Нет, не пострелял бы тогда Осипок на большаке дружков своих. И через фронт бы не побег. Тогда бы он, гляди, повыше нынешнего начальником над нами сделался. Ему все едино было, что Гитлер, что Сталин. Любой власти сумел вот угодить.
– Бог с ним, Павла! Придут мужики, разберемся. Решим, что с ним делать.
Григорий вернулся на середину горницы и, глядя в темный угол, чуть подкрашенный дрожащим светом солдатской коптилки, сказал:
– Павла, гляжу я, икона у тебя. Ты что же, веруешь?
– Верую, – не сразу ответила Павла.
– И молишься? – снова спросил Григорий.
– Раз верую, значит, и молюсь.
– О чем же молишься, Павла? Какие молитвы читаешь?
– Какие жизнь подсказывает, такие и читаю. Всякие. О тебе вот все молилась.
– Обо мне?
– О тебе. Особенно когда молодая была. Ох, Гришенька, как я об тебе молилась!
Григорий покачал головой и спросил погодя:
– Правильная ли твоя вера, Павла?
– Правильная, – она посмотрела на иконы, на Григория, снова на иконы и опять на Григория. – Вон сколько лет я тебя ждала, ты пришел. Правильная моя вера. Она, может, самая правильная и есть.
Григорий снова покачал головой. Вздохнул. Заговорил, блестя глазами:
– Перед Десной село одно, помню, брали. Это когда мы уже наступали. Наш взвод в первую траншею ворвался. Обычно немцы бросали траншеи, уходили глубже. Даже трупы утаскивали. Тогда было легче. Тогда можно было осмотреться, закрепиться А когда не бросали, когда им некуда уходить было, мы прыгали им на головы, и начиналась рукопашная. В тот раз они не ушли. Видать, тоже приказ был железный – ни шагу назад. Через несколько минут от взвода несколько человек осталось. Мы с Иваном взводного своего перевязали, штыком ему немец пах проткнул, и потащили к церквушке. Такая маленькая церквушка была, меньше нашей, вся разбитая сверху. Ни куполов, ни крыши. Немцев мы вроде выбили. Но из второй линии окопов начали нас минами забрасывать. Как ударит мина где рядом – пыль красная, ничего не видно. Ползем, лейтенант кричит, лихо ему стало, весь живот немец штыком разворотил. Помер он потом, у нас, в церквушке той и помер. Глубоко штык прошел, по самый, видать, упор. И как он так наскочил, вроде верткий был мужик. Доползли. Лейтенанта положили у стены, на ризы какие-то. Иван толкает меня под руку, гляди, грворит, все размолотили, а Христос нетронутый. Поднял я голову, пыль как раз осела, а над входом в церковь большая такая икона светится. Видать, золотом покрашенная. Христос с черной бородкой, с книжечкой в руках. На нас смотрит. Как мы внизу копошимся. Вокруг по полу иконы раскиданы, вот такие, как твои, маленькие. И побольше тоже были. Иные расколоты. Иван пополз, стал подбирать. Брось, говорю, давай к двери, немцы, говорю, не зря мині кидают: покидают, покидают и в атаку пойдут. Погоди, говорит. И все на четвереньках ползает и иконки те подбирает. Наберет охапку и к стенке отнесет, сотрет пыль с каждой и сложит там. Я у двери лег, винтовку на камень положил, посматриваю, что там, снаружи, делается. Мина как ударит в стену или поверху, так гул по всему храму идет. Иван, слышу, рядом лег. Что, говорю, собрал святых? Собрал, говорит.