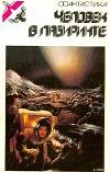Текст книги "Пречистое Поле"
Автор книги: Сергей Михеенков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 10 страниц)
Сергей Михеенков
Пречистое Поле
Пуля пролетела, назад не воротится.
Русская народная пословица
Глава первая. ПЕРВЫЙ СОЛДАТ
Душным июньским вечером, еще не улеглась в селе Пречистое Поле пыль от коровьего стада, прошедшего по давно не мытой дождями дороге, в поле, на самой его горбовине, увидели идущего большаком человека. Человек тот, как видно, шел издалека, может, от самой станции Новоалександровской, а то и подальше откуда, – походка у него была тяжелой, будто нес он на своих плечах непомерный груз не одной дороги. Так-то оно и было, но поначалу этой особенности никто из пречистопольцев, даже самых внимательных и памятливых, не разглядел; человек и человек, идет себе своей дорогой, мало ли тут прохожих. Но когда тот сошел с большака на выгон и остановился около гонявшей мяч ребятни, бабы, доившие возле крайних изб своих коров, посмотрели на путника с тревогой, которую и сами себе не могли объяснить, и это разволновало их привыкшие к покою размеренно и однообразно текущих дней сердца еще сильнее, и подумали: «Господи, да ведь это солдат какой-то, и с ружьем вон даже…» Они оставили подойники и разглядели, что и одежда на нем какая-то чудная и сильно поношенная: старопокройная гимнастерка с накладными карманами, такие нынче уже и забыли, шинель в скатке через плечо, ботинки, обмотки. Бабы наспех выдоили коров, заметив между прочим, но как-то рассеянно и без особой озабоченности, никак пока что не связывая это обстоятельство с приходом в село незнакомца в солдатской одежде, что молока они дали сегодня меньше, чем обычно, проводили их в хлева, нашлепывая ладонями по бокам и мосластым крестцам, и молча, кто присев на крыльцо, кто опершись на штакетник, кто затаившись под ветлой, стали ждать, куда же солдат пойдет дальше. Словом, бабы есть бабы, племя прелюбопытное, притаились – авось что и высидишь, благо все
дневные дела уже, кажись, переделаны, сверху не каплет и снизу не пылит, а тут, глядишь, будет о чем языком попеть.
А солдат постоял возле игравших в футбол мальчишек, раза два поддал шарахавшийся к нему под ноги мокрый от росы мяч, что привело в невообразимый восторг играющих, спросил у них что-то, посмотрел на пречистопольские дворы, посмотрел пристально и не раз, поправил на русой голове пилотку, выгоревшую до такой степени, что в сумерках она казалась белой, как дорога, и пошел не но улице, а мимо крайних бань, понизу, как пришлый ни за что не пошел бы, перебрался через ручей и скрылся в ольшанике.
– Да кто ж это такой? – окликнула одна молодка другую.
– А я тоже не узнала. Прошел… Чужой вроде, – ответила та, кутаясь в короткую шерстяную кофту. – Молодой. Или мне это показалось. И одет в военное.
– Э-э, девки, да что ж вы-то не разглядели, у вас же глаза моложе моих, – подойдя к молодкам, сказала третья, по голосу старуха, и высморкалась в передник.
Те все еще смотрели за ручей, куда уходила тропинка, соединявшая одну часть деревин с другой, прозванной когда-то Михалищами. Потому что жили там, как на выселках, одни Михалищины. Теперь дворов в Михалищах стало меньше – всего шесть. Да и в тех шести живут уже не одни Михалищины.
– Нет, девки, чужой так-то по нижней стежке не пошел бы. Чужой бы по дороге пошел. Это вы когой-то из своих не признали.
Та из молодок, которая начала разговор и вокруг которой начали собираться остальные, окликнула сына. Прибежал тот не сразу, запыхавшийся, недовольный; она его сперва выбранила, но бранила не зло, а так, по привычке; и как бы между прочим спросила, кто это к ним подходил давеча и о чем расспрашивал.
– Солдат какой-то, – ответил мальчик. Говорил он торопливо, сбивчиво, и то и дело поглядывая на своих товарищей, гоняющих мяч по набрякшему росой выгону. – Спросил, жива ли Павла Михалищина. Мы сказали, что жива, что живет в Михалищах, за ручьем. Тогда он сказал нам спасибо и пошел. У него винтовка была. Видели? Ма, а зачем ему винтовка?
– Погоди. Так и спросил, жива ли Павла? – переспросила мальчонку старуха.
– Ага, так и спросил, – подтвердил тот торопливо, – жива ли. говорит, Павла Михалищина? А что?
– Ничего. Стежку на Михалищи вы ему указали?
– Ничего мы ему не указывали. Когда он спросил про бабку Павлу, мы сказали, что туда надо, за ручей. Хотели Митьку послать, чтоб дорогу показал, все равно плохо играет, два раза его уже прогоняли с поля, а он опять напрашивается. Только солдат нам сказал, что провожать не надо, сам, говорит, знаю. Мам, а мам, ну я побегу? А?
Они отпустили мальчонку, тот, шумя мокрыми от росы штанинами, отстрельнул обратно на выгон, в ребячью гущу. И старуха, прижав ко рту смуглую увядшую ладонь, сказала:
– Девки… Ой, девки! Я ж, милый, кажись, признала его. Ее обступили еще плотнее и молча ждали. Ждали терпеливо, а может, просто боялись лишнего и неверного, слова.
– Я как глянула, так, девки, – и походка его, и ростом такой-то, и плечами так вот поводит, когда задумавшись… Ага, милый, точно он. Он! Да только как же это?.. – старуха обвела всех растерянным взглядом, должно быть, соображая, не сбрендила ли она часом с умного порядка, но причин тому не нашла и тут же поправилась, подобрала губы и оглянулась в сторону михалищинской стежки, которую здесь звали нижней.
– Ну? Кто? Ты ж, баб Шур, скажи хоть, кто? А то наговорила, наплела…
– Наплела… Я-то не наплела. Григорий это. – Какой такой Григорий?
– Гриша Михалищин, Пашин мужик. Вот кто.
– Муж бабкин Павлин, что ли?
– То-то и дело, что он самый и есть.
Молчание густело, как темень. А когда заговорили, то говорили тихо.
– Какой, баб Шур, Григорий? Ну что ты такое говоришь? – Да вы его и знать-то не знаете.
– Как же так, не знаем? Если наш, пречистопольский… Мы ж тут, баб Шур, всю жизнь никак живем.
– Всю жизнь… А велика ли ваша жизнь? Он, Григорий-то, во-он еще когда на войну ушел. Откуда ж вам знать его? – старуха вздохнула, подобрала под груди беспокойные руки, покачала головой. – Все они тогда на войну пошли. А вы что… Вы ж, девки, во-он уже когда родились, вас уже после войны бабы в пеленки нашвыряли.
– Баб Шур, ну что ты такое плетешь? Она ж, бабка Павла, с войны вдова. И муж ее, я не знаю, как его звали…
– Григорий, – подсказала старуха.
– Ну, Григорий. Но он погиб. На прошлой неделе Степан Петрович посылал меня еще всех вдов солдатских переписывать. Я и к бабке Павле заходила. Она сама сказала….
– И правда, погибший он у нее, – подтвердила старухину неправоту другая из молодых. – На обелиске вон имя его значится. А этот же, который пришел, молодой совсем. Похож, может, баб Шур? В форме, в пилотке Вот и обозналась?
– Да то» то и оно-то, что вы на все поглядели, да всего-то и не увидали. Форма у него какая? А, во… Форма-то нынче
у солдат другая. Я хоть и старая, а знаю. А этот – в ботинках, в обмотках.
– Ой, ну хватит вам языками молоть. Вот как возьмутся за что… А ты, баб Шур, хоть бы думала, что говоришь, – молодой голос был громким, неуместно громким, и, наверное, оттого на говорившую тут же зашикали, остепенили.
Кто-то вздохнул, и тут же завздыхали; заохали остальные. А молодка, минуту назад громко возражавшая бабке Шуре, недоверчиво и с некоторой даже, обидой взглянула на старуху, подняла с земли ведро, в котором, шурша, еще оседала теплая молочная пена, и сказала тем же громким голосом:
– Ой, и наслушаешься тут с вами. Может, тут где поблизости учения проходят, вот и отстал солдат. А мы уже – Григорий какой-то к бабке Павле вернулся. Охохонюшки-и! И чего только не наплетут люди! Вот так и нам с Васей запрошлым летом так-то вот тоже чужой грех приклепали – будто сено колхозное мы с заливного луга увезли. А все вот так: сама не видала, а другому передала, а та уж по-своему переврала, – и зевнула, прикрыв ладонью рот, и пошла к дому.
– То-то ж все так: пришел ввечеру, а вышел поутру – скажут, что ночевал, – укололи ее вслед.
Погодя другие тоже стали расходиться.
И только три старухи долго молча стояли поодаль на краю выгона и смотрели в сомкнувшуюся темноту, откуда, еще минуту назад ее видать было, приходила в Пречистое Поле белая, как выгоревшая солдатская пилотка, дорога, так обманувшая их однажды в год всеобщего возвращения. А потом одна, упрекнув молодых, сказал:
– Что и говорить, нынче народ хуже прошлогоднего. Куда хуже!
А другая пожамкала сухими, как осенние листья, губами, прокашлялась с трудом, и уж и на это, видать, сил не хватало, сказала:
– И не говори, подруг. Они ж теперича все нас, стариков, хают. И хают, и хают. А посмотрели б они, как мы после войны в плуги да в бороны впрягались, да с утра до ночи… всюё, бывало, ж, упрёжку… – и плечи посотрешь, и жилушки все повытянешь. Теперича про это и не вспоминают. Будто и не было. Будто сразу на тракторах поехали.
– Потому и не вспоминают, что хлебушек тот давно съеден. Я вот всю жизнь в колхозе отвалтузила, руки на ферме стратила, а пошла надысь к председателю, так он, дьявол, страмить меня наладился. С севом, кричит, не справляемся, сроки затянули, а ты, бабка, со своим огородом.
– И-и, Хведоровна, это ж ты из-за этого, городского хлюста ноньча огород не посадила?
– Из-за него, окаянного. Так и бросила земелюшку. Сколь осилила лопатой вскопать, столько и посадила. А меньше половины. То-то лебеда возрадовалась, то-то лютует, ненасытная?
На лето, видать, и Ночу свою на Новоалександровскую сведу. Он же, дьявол, то тихай-тихай, а то благой сразу делается, ажио лицом полотнеет. Гляди, и сена к восени не даст.
– И правду, подруг, и правду. Гляжу и на жисть нашу нонешнюю… А горе… Председатель на работу в рубахах белых ходит, да при галстуках, да всё это расчесочкой волоса поправляет. Как все одно на концерте где.
– Молодой.
– А и что как молодой. Были у нас и помоложе его хозяева. Помнишь, Дементий Прохоренков какой молодой был? Куда моложе этого.
– Моложе, моложе, Хведоровна. А этот-то молчит, глаза хоронит, как все одно больной какой, то, рычит, прямо кобелем на народ кидается. Раньше, при других председателях, разве ж было такое?
– Э-э, раньше и похужей было.
– Было-то было, а стариков все ж таки почитали. Эх, возвернудись бы наши мужики, они б с него, с черта благого, спросили.
– Да он, председатель, что, он и не правят колхозом. Разве ж он тут хозяин? Тут Осипок со своей дочкой всеми делами заправляет. Всё они, Осипки, у нас тут и вершат.
– А правду, правду ты, подруг, гомонишь. Осипок тут теперича опять силу забрал.
– Вот я и говорю, пришли бы наши мужики…
А третья, говорившая меньше всех, утирая скомканным платочком слезящиеся и, видать, плоха видевшие глаза, не утерпела и за всех, потому как все трое думали об одном и том же, сказала:
– А надо б, девки, завтрева к Павле зайтить…
И ей в ответ согласно закивали головами и замолчали надолго.
Вечер опускался густой, душный. Слышно было, как летала, искала глупую беззащитную мошку летучая мышь да невдалеке где-то дзынкала то так, то этак о стенку подойника тугая молочная струя. Такие вечера как божья благодать…
Солдат перешел через ручей и немного поодаль, в ольхах, откуда его не видать было ни с деревенской улицы, ни от Михалищей, остановился. Постоял, огляделся, раздвинул пахучие кусты бузины и шагнул по болотине куда-то в сторону от сырой, но все же натоптанной и верной стежки, которую по всему видно, стали уже забывать. Вскоре вернулся, но не на стежку, а взял на этот раз немного правее своего следа. Наконец он нашел то, что искал. Это был родник. Свежий глаз его и не заприметил бы, заплывший, заросший ржавой, неживой болотной паутиной.
«А когда-то сюда стежка была, досточки каждую весну укладывали, не жалели, – подумал солдат и снял пилотку.
Теперь она казалась совсем белой. Солдат смахнул паутину, зачерпнул краем пилотки родниковой воды и не спеша, отдыхая несколько раз, напился. «Некуда теперь спешить, – сказал он сам себе, напившись и вытерев пахнущей потом пилоткой губы и подбородок. – Теперь уже пришел».
Он попытался определить, где была та стежка, которую они когда-то так берегли. Обошел кругом раз, потом сделал круг пошире, но стежки так и не нашел, а только в одном месте оступился и едва не провалился в бочажину. Припомнилось, что перед самой войной надумал вымостить стежку, чтобы ходила Павла по болоту, как по большаку, чтобы как барыня по лежневке ходила, чтобы не только подол сарафана, а и ног не намочила. Наколол осиновых плашек, окорил их и начал уже укладывать, да покос все дела перебил. Покос – дело такое, не отложишь, не погодишь. Трава поднялась, залоснилась, а стало быть, что ж, пора ее, матушку, в ряды, да под грабли, да в возы и – домой. Старики еще говаривали, что в покос и о жене забудь. А травы в тот год рано созрели. И покос начали хорошо, лучше и не надо.
Вздохнул солдат, вздохнул потому, что вспомнил: накосить-то он тогда успел, а вот в возы сложить да домой привезти… «Ничего я не успел сделать, – подумал солдат, – ни стежку к ключу вымостить, ни сена для коровы накосить. Все она, война, перебила, все по своему уставу перекорежила. Ни детей не оставил я Павле, да и на родной земле, так выходит, никакого семени живого не заронил. Вот и не видать всходов. Откуда они возьмутся, всходы, раз так сложилось все? Одно запустение вокруг. Запустение, бесприютность». Солдат вздохнул. Не понравился ему неказистый вид родного сёла. Хоть и сумерки уже сползли на Пречистое Поле, а все равно еще с выгона видать было, что не больно-то радели сельчане о своих домах, о дворах и окрестностях. Не понравилось ему уже то, что так немилосердно исхлестан тракторными колеями выгон, так что даже и ребятне стало негде мячик погонять, что упала старая липа и лежит себе неприбранная, догнивает, трухлявеет на обочине.
«Что ж я скажу Павле?» – вслух подумал солдат.
Он вышел из ольшаника, под ногами захрустел крупный сухой песок, теплый, даже через подошвы ботинок чувствовалось, что теплый. Истрепал солдат свои ботинки, вон сколько протопать в них пришлось. В один край только с тысячу верст наберется. А теперь вон и на обратном пути потрудиться привелось: Подошвы совсем истончились, каждый камешек, каждый комочек нога чувствует. Не уберег он ботинки от долгих дорог. Себя – от пули. Павлу – от одиночества. Ничего он не уберег в прошлой своей, такой нескладной, как оказалось, жизни.
«Да уж так, – сказал опять солдат, – что нечего мне будет сказать Павле. А то еще и напугаю. Коли ждала, не напугается. Узнает, коли ждала. Ну, а коли не ждала, коли оприютила кого солдатка безутешная, то что ж, не я ей судья. Жизнь вон какая долгая прошла. Дольше дорог моих. Куда как дольше. И нелегкая, видать, жизнь была».
Впереди забелела крыша приземистого дома. Солдат заспешил, сглотнул слюну, но в горле сдавило, и он сделал усилие, чтобы не перехватило совсем, раза два споткнулся и вдруг увидел, что это у него обмотка распустилась, болтается и он уже наступает на нее. «Ах ты, мать честная», – подумал солдат, снял с плеча винтовку, приставил ее к тыну и нагнулся, чтобы поправить обмотку. Сделав все как надо, встал, огляделся, поправил гимнастерку, вылезшую из-под ремня, и сказал себе: «Вот так оно будет ладно. А то пришел бы…» Он подхватил за брезентовый, изрядно потрепанный ремень винтовку и привычно закинул ее за плечо.
Солдат подошел к своему дому. Уже совсем смеркалось. «А может, – сокрушенно подумал он, пристально вглядываясь в освещенные окна, где была Малая горница, – может, там уже другой кто хозяйствует с Павлой моей?» Солдат снова остановился, ноги отяжелели, словно вся усталость минувших дорог собралась сейчас, навалилась разом и подкосила их. И все же тяжесть эта была иной. «Нельзя сразу туда, надо передохнуть», – подумал он и привалился плечом к тыну. Он почувствовал, как слабо хрустнула под локтем гнилая тынина. Пощупал – и вправду гнилая. Как та липа на выгоне. Солдат поднял голову, пригляделся, и увидел, что тын, которым был обнесен огород, ветхий настолько, что кажется, вот шатни его посильнее – и повалится в бурьян, да крапиву, которые, видать, давно здесь обжились с той и с другой стороны. Не будь этой дурнины, он, может, и завалился бы давно. В некоторых местах в тыну чернели проломы, кое-как загороженные корявыми яблоневыми сушинами. «Тын плохой, облога не обкошена, крапивой вон заросла да чернобыльником, видно, Павла одна век векует», – вздохнул солдат. Он подобрал сломанную тынину и приладил ее наспех, загнув затыльником приклада ржавые гвозди, нарубленные, как видно, из проволоки. Но она не загородила прорехи, и тогда он начал искать, нет ли рядом другой тынины или чего-нибудь подходящего, чем можно было хотя бы мало-мальски поправить худую загородку.
«Да, Павла, осиротил я тебя. Видишь, как оно вышло, – подумал солдат, – осиротил. Знато б было, что в то лето война с немцем начнется; так и свадьбы б не затевали. – И вздохнул в который уж раз, и возразил вдруг сам себе: —Так это ж если б знато было». И уже у самого крыльца остановил себя внезапной мыслью: так ведь как же, он хоть и объявлял, что не нападет, хоть и заключили мы с ним в тридцать девятом договор о ненападении, а все равно ясно было, что схватки с ним не миновать. С нами договаривался, а Европу к рукам прибирал. И готовились вроде, что-то запасали, что-то создавали, танки новые сделали, хорошие танки, самолеты, автоматы, а как началось, куда только все подевалось. Будто и вправду что врасплох застал нас немец и начал одолевать по всем фронтам. Нам говорили, что сила у нас несметная, что воевать, коли придется, будем не на своей, а на чужой территории, что своей – ни пяди, что есть все, что надо, и если навалимся всем народом… Только у него силы больше оказалось. И силы, и оружия, и хитрости. Сила силу ломит. Вот и повоевали на чужой территории – все поля он нам повытоптал, до самой Москвы, танками да бронетранспортерами. «Выходит, что хреново готовились, раз так вышло, раз полнарода под его иго подпустили», – успел додумать солдат, прежде чем вступить на родное крыльцо.
В крайних окнах, занавешенных белыми шторками, закрывавшими их лишь на три четверти, по-прежнему горел свет. Солдат затаил дыхание, прислушался. В какое-то мгновение ему показалось, что там, в глубине дома, кто-то вздохнул, но потом понял, что это ему поблазнилось. И только когда взялся за дверную цепку, не найдя ручки, и толкнул дверь, которая оказалась не запертой изнутри, подумал, что ведь это могли вздохнуть и стены, тоже истосковавшиеся по нем: «А как же, тут каждое бревнышко моими руками выглажено, каждый сучок затесан и заструган, будто зацелован, каждый сантиметр мохом проложен да по пазам доброй паклей проконопачен».
В сенцах было прохладнее, чем на улице. Пахло молоком и чем-то кислым, застоялым, давнишним. Так пахло здесь всегда. Солдат вдохнул эти запахи и почувствовал, как в груди у него, вверху, под самым горлом, забилось, затрепетало, и стало трудно дышать. «Что ж это я, – спохватился он, расстегивая верхнюю пуговицу гимнастерки, – плачу, что ли?» Потрогал щеки. Щеки были мокры, а пальцы дрожали. «Надо было сперва постучать, – подумал он, – там, в крайнее окно, где свет горит».
– Кто тут? – послышалось вдруг из глубины сенцев, где была дверь в дом.
– Павла? Это я, Павла, – ответил солдат и оперся рукой на гладкие бревна стены.
– Кто?
– Я, Григорий.
– Какой Григорий?
– Григорий, муж твой, – вздохнул, сглотнув затвердевший в горле и мешавший говорить комок. – Погибший.
– Грища? Гриша, ты?
– Я, Павла.
Отворилась дверь, желтый свет ударил в лицо солдату, и та, что стояла, в тени, в дальнем конце сенцев, увидела усталое молодое лицо, Некоторое время они стояли так, друг против друга, и молчали.
– Неужто и вправду ты, Гриша?
– Я, Павла. Ты только не пугайся.
– Что ж мне, Гриша, тебя пугаться.
– Да, правда… – он не договорил, шагнул навстречу, она тоже, и обнялись крепко и долго.
– Пришел-таки, Гриша… Знала, что рано или поздно, а придешь, – шептала Павла, оглаживая белесую, пахнущую потом здорового молодого тела гимнастерку на груди и плечах Григория.
– А я думал, приду, испугаю тебя. В дом не пустишь на ночь глядя.
– Да что же. Нешто я тебя не ждала?
Они вошли в дом. Григорий снял шинельную скатку, положил ее на лавку у окна, рядом, стволом к подоконнику, приставил винтовку и сел сам. Павла поправила платок, сбившийся назад и открывший опрятную седину ее когда-то темно-русых, почти таких же, как и у него, волос, и села у стены напротив. Так долго, сидели они и глядели друг на друга. И верно, и того дольше сидели бы так, да вдруг мигнул раз-другой свет и погас вовсе.
– Знать, где-то опять струны порвались, – спохватилась Павла. – Давеча так-то вот тоже, потемну, Костик на тракторе на столб наехал. А нынче, гляди, не иначе как опять кто-нибудь из трактористов напился. Запивает народ, ох как, Гриша, запивает. Избаловался. Нехорошо это. Теперя до завтрева света не дадут. Да что же я сижу-то!
Павла сходила в другую половину, принесла огарок толстой парафиновой свечи в глиняной плошке с отколотым краем. Григорий вспомнил эту плошку, только раньше она была вроде целая и стояла всегда здесь, в малой горнице, на печном борове рядом с хапочком тонко наколотых еловых и березовых лучин для растопки. Он встал навстречу, взял из рук Павлы плошку и поставил ее на середину стола. Пламя свечи было ярким и длинным, оно освещало углы, белый бок русской печи, наполовину задернутый пестрой ситцевой шторкой, колыхало черные, отчетливо вырезанные тени на полу и на стенах.
– Сейчас я на стол соберу, – сказала Павла и ладонью торопливо смахнула со стола крошки и обрывки черных и белых ниток. – А ты, Гриша, посиди тут пока, отдохни. А то и прилег бы? Там, в другой половине? А? Дорога-то, видать, долгая была.
– Долгая, – скупо ответил Григорий, не сводя с нее пристального взгляда.
Он по-прежнему сидел на лавке у окна, положив руки на колени, и смотрел на Павлу. Павла чувствовала его взгляд постоянно, но оглянуться, ответить тем же не решалась. Ей сделалось вдруг страшно. «Как же это так, – думала она смятенно, – ведь он же убитый, и сам давеча сказал, что погибший… А вот пришел. Потому, сказал, и пришел так поздно… А может, это мне блазнит, – подумала она, выйдя в сенцы за творогом, подвешенным в марлечке над кастрюлей, куда стекала, капала редкими уже каплями сыворотка. – Может, в голове что стронулось с места? Сейчас, вот сейчас взойду в хату, – решила Павла, – и на образа перекрещусь. Если это только блазнит, то оно и пропадет, сгинет в сей же час. А если… Господи, да неужто и вправду он, он, Гриша, Гришенька, жалкий мой, двору пришел?»
Павла вошла, поставила на стол алюминиевую чашку с крутым творогом, отерла о передник руки, они дрожали, раньше не дрожали, а теперь задрожали, и, повернувшись к иконам, перекрестилась троекратно. Крестилась Павла размашисто, старательно, кажись, сроду так не крестилась… Она перекрестилась, но оглянуться на него не посмела; она и так знала, что он никуда не делся, не сгинул, что он тут, в доме, у окна. Как сидел, так и сидит. И амуниция его на прежнем месте. И ружье все так же к подоконнику приставлено. Как оставил он его, когда вошел, так оно и стоит. «Ну и слава тебе, господи», – вздохнула Павла облегченно и принялась резать на белой дощечке хлеб. Теперь ей хотелось заговорить с ним. Просто сказать что-нибудь, чтобы не так лихо было на душе, а может, и голос его в ответ услышать. Но Павла не решилась. Да и что. сказать ей было? То, что берегла все эти годы в себе, разве ж вот так, походя, выскажешь?
Вспомнила, что раньше, дожидаючи его наперекор похоронному извещению, разорвавшему ей сердце летом сорок четвертого года, думала, что вот придет он, ее Гришенька, перешагнет порог родимого дома и обнимутся они долгожданно и радостно, а потом долго будут сидеть и разговаривать, что он расскажет ей, как воевал, что повидать довелось, что перетерпеть, где побывать, на каких фронтах и в каких землях, а она расскажет ему о том, как жила без него все эти годы, как переживала оккупацию, как потом работала на Победу и – ждала, ждала, ждала, однажды бросив в печь спрятанную за божницей похоронку. «Жизнь прошла, а что в ней было, – подумала Павла. – Работала да ждала. Ждала да работала». Разом навалилось пережитое, перехватило грудь. Да, нелегко жилось ей. Ой, нелегко. И работалось трудно, вон какую разруху выдюжили, и ждалось несладко. Она подумала об этом и ни о чем не пожалела.
Но Григорий заговорил первым, будто почувствовал ее сомнение и нетерпение и шагнул встречь:
– Хлеб-то нынче, Павла, как, вольный? – Вольный, – ответила торопливо Павла и взглянула на него светлыми, будто и не помнящими слез глазами. – Вольный у нас теперь хлебушек, Гриша. Государственный.
И вздохнула, и хотела было пожаловаться ему, что хлеб-то не очень, что пекут как попало, то кислый привезут, то пресный какой-то, то с гвоздем или тряпкой, а то и чего похуже
запекут, но спохватилась, подумавши: вольный, да и ладно, что ж еще надо, ладно…
– Значит, свойский уже не ставите?
– Не ставим. Давно не ставим. Мы уж и забыли, как и пахнет он, свойский-то хлебушек, – сказала Павла и, присев на краешек лавки по другую сторону шинельной скатки, улыбнулась.
Теперь, когда все улеглось, она поняла, откуда он пришел к ней, из какого далека вернулся.
– Добрый ты стол собрала, – сказал Григорий, кашлянул в кулак и потянул к себе за истрепанную лямку вещмешок. – Ну вот и я тут кое-что принес. Вроде как неприкосновенный запас. Да только ни к чему он мне теперь. Теперь что ж, теперь и прикоснуться можно.
Григорий выложил на стол длинные банки с американской тушенкой, сухари, несколько кусков сахару, завернутого в холстинковый косячок, небольшой кубик белого, по всему видать, доброго сала.
– Вот, Павла, посмотри – солдатский мой паек, – вздохнул он. – Нас там, на фронте, когда все в порядке, хорошо кормили. Особенно когда его, немца, уже туда, назад погнали. А вы-то тут как бедовали?
– А всяко, – в ответ вздохнула она.
Ужинали молча. Григорий изредка отрывался от тарелки и оглядывал стены, запущенные, с темной застарелой желтизной. Или это оттого, что свеча так тускло догорает? Он привыкал к родным стенам, ел неторопливо, хлеба откусывал понемногу, тщательно пережевывал и все следил, чтобы не уронить крошку.
А Павла смотрела на него и только приличия ради подбирала маленькой ложечкой творожку с краю тарелки. Ей нравилось, как неторопливо и обстоятельно ел Григорий. Он, вспомнила, все так делал – обстоятельно, хорошо и чтобы надолго хватило.
– А ты наливай, Гриша, наливай еще, – сказала она, трудно переживая молчание, потому что то, сгоревшее, как ей казалось, что хранила она всю жизнь, прожитую в одиночестве, стало окликать ее изнутри, и надо было как-то отзываться.
Распечатанная бутылка стояла посреди стола. Давеча, когда она, выставила ее, вышел конфуз: Григорий взялся открывать, но не сумел сразу, а она засмеялась и подсказала, что теперь такие пробки делают чудные, что и не вот сообразишь. Он удивился, сказал, что ничего, хорошие пробки, как на солдатских фляжках, только слабые, металл тоненький, совсем как бумажка, и налил горькой в стаканы, сдвинутые друг к дружке вплотную. Они выпили, и Григорий, почувствовав, как водка желанно обожгла горло и пошла вовнутрь, и глядя на пеструю этикетку с надписью «Russian Vodka», подумал почти с тоской о том, что вот прошли годы, а все тут, на родине, да и не только тут, а и по всей, должно быть, стране, другое пошло, незнакомое, что все тут, на родине, как бы уже к не родное, как бы отторгнутое, непоправимо и навсегда, от него, от тех миллионов, кто разделил его участь. Даже вот и водка другая, а уж этикетка… Пестрая – как девка с придурью. Все другое. Люди… И люди, наверное, тоже другие.
Он налил себе еще, Павла отказалась, замахала рукой, отодвинула свой стакан в сторону. Он выпил и понюхал ломоть хлеба. Хлеб был кисловатый, даже дух от него был с какой-то капустной кислинкой, хотя на вкус ничего, хороший хлеб. Едал, конечно, Григорий в своей жизни хлебушек и получше этого, он знал, как должен пахнуть настоящий, какой у него вкус, тоже помнил, но едал и похуже. Хлеб, он хоть всегда и везде – хлеб, а тоже разный бывает. Были у него и такие дни, и даже месяцы, когда его, хлеба, и вовсе не было. Никакого. Тогда он только грезился в коротких, шальных снах между работой войны, когда, кажется, и не сон вовсе одолевает измученное борьбой с ним тело, а морок какой-то. Потому и противиться ему было невозможно. Раз, под Вязьмой это было, в самом начале войны, на них, уже несколько месяцев бродивших в окружении по лесам, ночью напоролась немецкая разведка, и за несколько часов, а может, и минут, никто не знал, сколько времени они там орудовали в окопах, вырезали около взвода из соседней роты. Он в ту ночь тоже спал, положив на дно неглубокого окопа искусанную комарьем голову. Если бы разведка взяла чуть правее, то для него война кончилась бы еще тогда, под Вязьмой, в сорок первом. «Ничего, – думал он теперь, сидя за столом в своем доме, – хороший хлеб, главное, чтоб вдосталь его было, такого».
Свечной огарок вскоре выгорел, зашипел на дне плошки, будто туда капнули воды, вспыхнул напоследок ярко, затрепетал и погас. И снова сомкнулся над сидевшими в тихой горнице мрак.
– О-о, – спохватилась Павла, – а у меня ж и нету другого огня. Лампу беряжила все, а потом уронила, стекло разбилось, я ее и отдала ребятам. Ездили по селу, железки собирали, я и отдала. А летось стекла в кооперацию привезли, всякие. Зри отдала, видишь, каково-то без лампы. Хоть бы свечечка еще была. А нету. Последняя догорела. Догорела моя свечечка.
– Керосин есть? – спросил Григорий и вздохнул.
– Есть керосин. Должен где-то быть. Сейчас. В сенцах… Если остался, – ответила она.
– Не надо, я сам найду.
– Там, в углу, – подсказала она.
Он вышел из-за стола, на ощупь прошел к двери, толкнул ее. Григорий помнил, что дверь всегда отворялась легко, особенно летом, рассыхалась, что ли. Теперь же она подалась не сразу, трудно подалась дверь, нижний угол цеплялся за присад. Все тут, в его» дому, годы состарили, перекосили, переиначили. В сенцах было прохладнее, чем дома. И совсем темно. В окна, там, в горнице, проникал какой-то рассеянный свет, небо, что ли, вызвездило. А здесь было совсем темно. В углу, где валялись какие-то старые зипуны и мотки веревки, он нашел бочонок, заткнутый деревянной затычкой, обернутой тряпицей. В бочонке слабо поплескивало. Григорий вытащил затычку, вернулся в дом и спросил, нет ли где какой-нибудь ненужной посудины или гильзы. И Тогда Павла тоже встала, зажгла спичку, яркий недолгий свет ее выхватил из темноты печное устье, загнетку, темную затулину, откуда покатым мазаным боком выглядывал чугунок, накрытый не по размеру большой сковородкой, нагнулась к подпечью и, погремев черенками ухватов, достала небольшую медную гильзу. Григорий взял ее, Павлина спичка тем временем догорела, и на ощупь угадал – от немецкой скорострельной малокалиберной пушки.