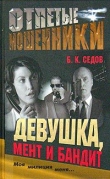Текст книги "Из штрафников в гвардейцы. Искупившие кровью"
Автор книги: Сергей Михеенков
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
Глава шестая
Воронцов шел полем, опираясь на палку. Дорога не совсем просохла после недавнего дождя, но все же не была разбита, как те, многие, которые он привык в последнее время видеть на фронте. Война ушла, дороги опустели, обезлюдели, и колеи, глубоко прорезанные тягачами, танками и колесами тяжелых гаубиц, стали заплывать, крепнуть и даже зарастать гусиной травой и ромашкой. О том, что здесь происходило совсем недавно, напоминали теперь лишь россыпи пустых винтовочных гильз, вдавленных в податливую землю обочины, да брошенные раздавленные противогазные коробки, каски и другое железо войны, непригодное в крестьянском хозяйстве. Потому что все остальное было уже собрано жителями окрестных деревень. Народ за время оккупации обнищал, обносился. Некоторые остались без крова и угла. Жили кто в землянках, кто в чудом уцелевших хлевах и баньках и радовались любому приобретению. Пополняли хозяйство всем, чем могли. Правда, у солдатских дорог и в развороченных снарядами траншеях не особо чем можно было разжиться. Ни плугов, ни кос, ни сеялок война крестьянину не оставляла в изуродованных полях и лугах.
В лесу совсем не ощущалось прихода осени. Пахло грибами, теплой, душноватой прелью затянувшегося лета.
Воронцов прошел еще метров сто и в редком березняке, уже наполовину раздетом, осыпавшемся листвой на траву, на дорогу и на заросли черничника, остановился. Как хорошо было здесь! Впереди чернел густой непроницаемой стеной ельник. Там перелетали через дорогу и полянку крикливые сойки, поблескивая бело-сизым пером на крыльях. Ветер замер. Свежо, как в апреле, пахло молодой берестой. Запах смешивался с другим, тоже сильным, горьковатым – пахла листва. Воронцов ворохнул ее сапогом. Нижний слой оказался уже совсем черным. Природа свой извечный круг свершает молчаливо. Вот и они, там, на передовой, привыкли видеть смерть как обыденное проявление войны. Гибель бойца, стоявшего в соседней ячейке, с которым несколько минут назад разговаривал, смотрел в глаза, делился сухарем, воспринимается как один из законов войны. И они ложатся в землю, как березовые листья. Слоями. Тех, кто погиб вчера, еще вспоминают словом или вздохом вроде: «Пулеметчики, в гроб их душу, окоп как уродливо отрыли. Антипов бы этого не допустил…» «Вот у Семенова „катюша“ была, так он с первого раза прикуривал! А ты тюкаешь, тюкаешь…» Потом стираются и имена, и лица. Под слоем других, новых имен и лиц. Потому что окликаешь живого солдата или товарища. А мертвого… Что его окликать? Его теперь пускай мать окликает. Или жена. Или дети. А воюющей роте нужны живые солдаты и лейтенанты. Иначе как быть тем, кто еще жив?
Он еще раз окинул взглядом отсвечивающие желтизной вечернего солнца березовые листья, среди которых попадались там и тут багровые и ало-розовые крапины бересклета и крушины, потрогал переложенный в карман «вальтер», поправил его, развернул рукояткой вверх и зашагал в сторону ельника.
День уже истаивал в небе, и в лесу стояли сумерки. А среди рядов еловых посадок и вовсе загустело, и очертания пней и кустов можжевельника невольно, как в детстве, беспокоили воображение.
Лесные дороги Воронцов любил за то, что они не только примиряли с неизбежностью дальнего пути, но и словно бы разделяли с путником эту необходимость. Нет, лесная дорога, даже если она и длинна, не так утомительна и тосклива, как, к примеру, полевая. Та, как говорил дед Евсей, сперва глаза выест, а уж потом за ноги примется.
Воронцов миновал посадки, перебрался по ольховым кладкам через ручей, который выбегал из лесу, петлял в зарослях черемушника, журчал в прохладной тени, среди камней, обросших тиной, и затихал на переезде. Здесь он образовывал продолговатое озерцо, со дна подсвеченное промытым песком. Точно такие же светлые речушки и ручьи с переездами и песчаными бродами были и на его родине. Всегда можно было отыскать родник и напиться.
На закраине светлого озерца, на влажном плотном песке отчетливо отпечатались протекторы грузовика, рядом виднелись несколько извилистых лент тележных колес, неровные лунки конских копыт. Воронцов взглянул на следы и сделал вывод, что, должно быть, их оставила одна и та же телега и один и тот же конь. Левая подкова была стесана немного набок. Конь подкован только на передние ноги. А правое тележное колесо делает характерную вилюгу – видимо, разболталась втулка, а хозяину либо недосуг ее подклинить, как, в случае подобной неисправности, всегда делал дед Евсей, либо он по нерачительности просто плюнул на него. Крутись, родимое, пока не развалишься.
Впереди, шагах в ста, за поворотом и лощиной, заросшей густым ивняком, послышались настороженное похрапывание лошади и редкие голоса. Слов не разобрать, но слышно отчетливо. Один спрашивал, другой отвечал. Теперь Воронцов вспомнил, что последний след вел именно туда, в сторону Прудков. И вот теперь он либо догнал повозку, либо она уже возвращалась. Он машинально потрогал в кармане рукоятку «вальтера» и прибавил шагу. Но, когда подошел к лощине, серая в яблоках лошадь уже выходила из-за поворота навстречу. Она тащила широкую немецкую телегу, выкрашенную в темно-зеленый цвет. Из-за крупа лошади виднелась кепка возницы и клинышек поднятого кнута.
Воронцову пришлось посторониться. Он отступил на обочину. Лошадь, кося глаза, прошла мимо, обдавая Воронцова теплым запахом большого тела. Возница же, как ни странно, выказал гораздо меньшее любопытство, как будто они с Воронцовым сегодня уже встречались. Лет шестидесяти, грузный, с седой бородой, он скользнул настороженным взглядом по лицу и погонам Воронцова и тут же отвернулся. Воронцов хотел поздороваться, но передумал. И, когда повозка скрылась за поворотом, он с недоумением подумал: а видел ли он меня, этот седобородый? Смотреть-то смотрел, особенно на погоны и портупею, как будто хотел убедиться, не висит ли на правом боку кобура, а из-за спины высовывается мухор вещмешка, а не приклад автомата. Что ж, война научила людей, даже невоенных, реагировать только на опасность. Одинокий путник, без оружия, опасности не представлял. И все же Воронцова не покидало ощущение странности произошедшего. Но слишком неожиданной оказалась встреча, и она застала его врасплох.
Воронцов еще раз посмотрел назад, где уже никого не было, и даже скрип тележных колес растаял среди деревьев и кустарников, которые глушили все звуки.
Конечно, жаль, что повозка направлялась в противоположную сторону, но, правь возница на Прудки, вряд ли он оказался бы приветливее. Видимо, такой человек. И Воронцов сунул руку в карман – пальцы привычно легли на холодную рукоятку, и зашагал дальше.
Сумерки уже легли на поляны. Какие-то мелкие пичужки, припозднившись, перелетали через дорогу. Воронцов следил за посверкиванием их упругих округлых крыльев. И тут в конце просеки, отмеченной едва примятой тропой, увидел человека. Вначале боковым зрением, а потом, будто пронзенный током, повернулся и глянул в упор. Рука уже лежала на рукоятке, палец торопливо ощупывал предохранитель.
Человек сидел на пне. В осанке, посадке головы, Воронцов мгновенно уловил нечто знакомое. Напряжение сменилось любопытством, а потом и радостью.
– Иванок! Черт бы тебя побрал!
– Что? Напугал? – хрипло пробасил Иванок и встал навстречу. – Здравствуй, Курсант. Я знал, что ты появишься. Там тебя давно ждут. – И он кивнул в сторону Прудков.
Они обнялись. Встреча однополчан – всегда радость. Иванок заметно подрос, вытянулся. Ткнулся носом в плечо Воронцова и сказал:
– А ты все еще лейтенант?
– Как видишь.
– В отпуск? Или списали подчистую?
– Пока в отпуск. А там… В ноябре – медкомиссия, переосвидетельствование. А ты?
– У меня контузия была. Направили домой. Сказали, больше не возьмут. Только через год. И то, если комиссия пропустит.
Разговор быстро иссяк. Потому что оба, отвечая на вопросы, думали о другом.
– А ты что в лесу делаешь? На ночь-то глядя? – Воронцов посмотрел по сторонам. Рядом с пнем, на котором сидел Иванок, в траве лежал кавалерийский карабин с потертым прикладом и самодельным ремнем. Он скользнул рассеянным взглядом дальше, делая вид, что не заметил брошенного Иванком оружия. Что и говорить, странно его встречали Прудки. До деревни еще с километр-полтора, а уже столько событий, о каждом из которых можно думать что угодно.
– Ты мне скажи, как там мои?
Это внезапно вырвавшееся слово прозвучало настолько естественно, что Иванок так же спокойно, даже не взглянув на Воронцова, ответил:
– Все живы и здоровы. Зинка еще красивше стала. Ребята подросли. А Улька уже по улице бегает.
– Иван Стрельцов так и не вернулся?
– Нет. Ни он, ни папка мой. Ни Шура. – Иванок опустил голову, отвернулся.
Помолчали.
– Наши наступают?
– Наступают. А вы что, газеты не читаете?
– Читаем. Но ты, может, новости какие знаешь? В газетах же не все пишут.
– Наши сейчас на Днепре. Под Киевом. Под Чаусами. На Десне. По всему фронту наступают.
– Чаусы – это где?
– Возле Могилева. Наша дивизия как раз там.
– Вот видишь, вперед пошли. А мы – тут…
Воронцов похлопал Иванка по плечу и сказал, как бы между прочим:
– Ладно, бери свою драгунку и пошли домой.
И, когда тот поднял карабин, спросил:
– Лося, что ль, караулил?
– Лося, – ответил Иванок И его усмешка стала еще одной загадкой, над которой тоже стоило задуматься.
Пока шли до Прудков, Воронцов успел о многом расспросить товарища. Но что касалось лося, то эту тему пока не трогали.
– Ну что, пойдешь сразу к ним? Или к нам зайдешь? – Иванок отпустил ремень карабина и повесил его на плечо прикладом вниз. Так он был почти незаметен.
– Сразу пойду.
– Понятно. Они там, в новом доме живут. Возле пруда. Удачи тебе. Завтра зайду. Если не против. – Иванок разговаривал с Воронцовым как равный. И движения его, и жесты были несуетливы и по-мужицки расчетливы.
– Заходи.
– Степаниде Михайловне привет передавай.
– Передам.
Воронцов, с одной стороны, был рад Иванку, с другой – его не отпускало какое-то подспудное беспокойство. Какого же зверя стерег он в лесу, да еще у дороги, в такой час?
От школы Воронцов свернул в проулок. В конце белела свежая щеповая крыша. Поставил-таки Петр Федорович новый дом. Осилил. Интересно, а полы? Или до сих пор живут с земляными? Крыша свежая, еще не потемнела.
Он шагнул через дорогу, к крыльцу. Издали увидел, что в сенцах горела керосиновая лампа. Желтый маслянистый свет ее освещал бревенчатую стену, полку с какой-то посудой, женскую фигуру, наклонившуюся над столом с ведром в руках. Воронцов подошел ближе и разглядел ее. Так и есть – Зинаида. В руках у нее была доенка, сверху накрытая марлей. Зинаида разливала по глиняным крынкам и горлачам молоко. И Воронцову, наблюдавшему за наклоном головы, движениями напряженных рук, показалось, что он чувствует запах не только молока, но и ее рук. Вот она стоит в нескольких шагах. Та, о которой мечтал все эти месяцы, иногда казавшиеся годами. Стоит только окликнуть, сделать несколько шагов. Сбылась ли?
Он стоял, оцепенев, глядя в желтый квадрат света, который казался теперь не просто дверным проемом. Воронцов вдруг ощутил, что там, за крыльцом, живет и он, Санька Воронцов, пусть какой-то своей частью, пусть не весь, но там, там… И всегда жил. А теперь просто возвращается.
Зинаида между тем закончила работу. Сдернула с доенки марлю. Повернулась к двери и, как показалось Воронцову, какое-то мгновение напряженно смотрела в темноту. Неужто почувствовала? Потом вышла на крыльцо, прислушалась. Воронцов замер, как снайпер, когда выбирается на нейтральную полосу. Зинаида сбежала вниз и, сияя в непроглядной темени белым платком и такой же белой доенкой, торопливо пробежала по тропинке. Воронцов догадался, куда она направилась, – к колодцу. Там, в ракитах, был родник, в который Петр Федорович вставил сруб. Той памятной зимой, когда Воронцов с Кудряшовым забрели в Прудки, спасаясь от немцев, мороза и голода, Петр Федорович как раз и занимался ремонтом бочажка. Вытаскивал старые, сгнившие плахи, пахнущие застарелым илом, которые глубоко просели и уже не держали наплывавшего с боков грунта. Петр Федорович поменял их на новые. Вся деревня ходила в этот колодец, чтобы набрать воды для вечернего семейного чая. Его так и называли – Бороницын Ключ.
Воронцов стоял в двух шагах от стежки, по которой возвращалась от родника Зинаида. Туда она пролетела мимо, даже не взглянув в его сторону. Видимо, после света глаза не привыкли к темноте. Она шла на ощупь, но быстро, изредка соступая с белой стежки и забредая в темную дымную росу. И когда возвращалась назад, сразу увидела его, охнула, и белая доенка глухо звякнула у ее ног. Зашумела в траве вода. Всего одно мгновение длилось молчание. А в следующее она произнесла его имя. Без всякого вопроса, как будто заранее зная, что он придет именно в этот вечер и именно сюда. Он подбежал к ней и обнял, и сразу узнал ее тело, запах. В какое-то шальное мгновение показалось, что он целует Пелагею. Но только одно мгновение длилось это ослепление, когда он готов был назвать дорогое ему имя.
– Зиночка… Зиночка… – Он шептал какие-то слова, которые сами собой рождались и выходили наружу. Шептал, задыхаясь, и вновь повторял одно только слово, одно только имя. Его было достаточно, чтобы выразить все, что сохранил и что принес в этот поздний час.
– Вернулся… Ты вернулся к нам… Сашенька… – Она вырывалась из его рук и сама обнимала его, обхватывала голову, оплетала плечи, целовала в глаза и в губы. Он чувствовал ее теплое дрожащее дыхание.
– Зина! Ты где, доча? – послышался голос Петра Федоровича.
– Да здесь я, тятя! – Отозвалась она не сразу, и то, что запоздало откликнулась, и это «да здесь», произнесенное возбужденно, радостно, заставили Петра Федоровича снова окликнуть ее:
– Что там такое, Зина?
– Саша вернулся! – сказала она дрожащим, западающим голосом.
Во дворе на некоторое время воцарилось молчание.
– Какой Саша? – уже тише спросил Петр Федорович.
– Саша! Наш! – снова сказала Зинаида.
– Наш? Неужто Ляксандр, Курсант?
Скрипнула калитка, послышались торопливые шаркающие шаги. Петр Федорович дважды обошел их вокруг и сказал:
– Ну-ка, дочь, отпусти. Дай поздоровкаться. Оплела, как хмель…
В доме, услышав голоса, доносившиеся с улицы, все переполошились. Когда Воронцов переступил порог, возле белой печи, занимавшей добрую половину малой горницы, увидел стоявших в ряд Пелагеиных сыновей. Рядом стояла мать Зинаиды – Евдокия Федотовна. Она держала на руках девочку, которая смотрела на него глазами Пелагеи. Это Воронцов отметил сразу. Зинаида написала правду.
Мать Зинаиды что-то шепнула девочке на ухо. Та внимательно и, как показалось Воронцову, недоверчиво посмотрела на него. Затем Евдокия Федотовна опустила малышку на земляной пол.
И тут младший Пелагеин сын, Колюшка, подбежал к Воронцову и с криком:
– Папка вернулся! – обхватил его, прижался к шинели.
За младшим двинулся Федя. Он молча ткнулся головенкой в живот Воронцова и заплакал. Но старший, Прокопий, остался стоять у печи.
А Воронцов смотрел на девочку, которая, видя, что братья не боятся чужого, медленно перебирала ножками по земляному полу и тоже приближалась. Затем она остановилась, внимательно посмотрела Пелагеиными глазами, словно решая, можно ли доверять ему, и внезапно радостно и доверчиво вытянула вперед ручонки. Воронцов подхватил девочку и бережно, чтобы не испугать, прижал к груди.
– Вот, Ляксан Григорич, дочка твоя. Сберегли. Своячене руки за это целуй. – Петр Федорович подошел к столу, сел на лавку и по-хозяйски положил руку на столешницу.
Улита замерла в его руках, как пойманная птица, которая еще не знала, добро ли то, что она оказалась в этих крепких, теплых руках, или надо попытаться поскорее высвободиться. Зинаида почувствовала настроение девочки и взяла к себе. Улита тут же радостно охватила ее за шею цепкими загорелыми ручонками. Но в следующее мгновение оглянулась на Воронцова и осторожно улыбнулась. Все в ней было Пелагеино.
– Ишь, юла. Иди, иди, Улюшка, он тебе не чужой. Кровь-то – манит.
В эту ночь он долго не мог уснуть. Закрывал глаза, гнал видения, внезапно появлявшиеся из серой мглы бессонницы, и думал оторопело: как же я собирался проехать мимо? Как же я мог даже думать об этом? Вот как война огрубляет человека.
В последнее время Воронцов часто слышал: война спишет… Говорили, не пряча усмешки, те, кто пытался простить себе многое. Люди подчас позволяли такое, о чем в иных, обычных обстоятельствах, и думать бы остереглись. Но теперь перед ними открылись вдруг некие двери, до этого времени запертые, и не просто распахнулись, а будто спали все удерживающие запоры и петли. Многие моральные нормы оказались поколеблены, потеснены человеческим хотением перед лицом смерти: хоть час, но мой, и война все спишет… Как ни странно, меньше всего этот принцип действовал на передовой. Там, под пулями, человек тосковал по довоенному времени, которое вынужденно оставил. Солдата укрепляла мысль о семье, о доме. Мужья думали о женах и детях. Сыновья – о сестрах и матерях, о младших братьях и невестах, которых нужно защитить. Фронтовики знали: каждый день в окопе, каждая атака, даже не совсем удачная, – это метры отвоеванной у врага земли. А значит, все дальше они отгоняют войну от дома. Другим же дом еще предстояло отбить у противника. Белоруссия, Украина, Молдавия, Прибалтика, северные области Российской Федерации, запад Смоленской еще занимали оккупанты.
А родина Воронцова уже очищена от немцев. Здесь уже тишина. Что ж так неспокойно на душе? И встречают его здесь с добрым сердцем, с открытой душой и, быть может, с любовью, выше и счастливее которой ничего нет и быть не может. Но что же так тревожно?
Его положили на широкой лавке, стоявшей в простенке между дверью и окном. Воронцову показалось даже, что это была та самая лавка, на которую его укладывала Пелагея, когда он из бани перебрался в ее хату.
За ситцевой занавеской вздыхала Зинаида. Видать, и ей не спалось.
Утром Воронцов проснулся оттого, что услышал за окном знакомые голоса.
– Ну что, дядь Петь, дождались зятя?
– А ты откель знаешь?
– Знаю.
– Эх, Иван Иваныч, тебе бы в милиции работать!
– В милиции… Там пускай инвалиды работают. Я на фронт уйду. Вот немного побуду тут с вами и поеду в райцентр, на комиссию. Вашему-то тоже недолго в тылу прохлаждаться.
– А ты чего пришел? На работу сегодня что, не пойдешь?
– Пойду. Я ж не инвалид, выйду и на работу. Нам там немного осталось. К вечеру плуги готовы будут. Железа вот только подходящего нет. Надо бы в лес сходить.
– В лес… Опасно ходить по лесу. Минеры обещались приехать. Вот потом и пойдешь.
– Дело, дядь Петь, не ждет.
Что-то Иванок задумал. Что-то он и вчера вечером недоговаривал. И этот странный седобородый, встретившийся на дороге в лесу… Воронцову сразу показалось, что все это связано в один запутанный узел. И Иванок наверняка знает, где спрятаны концы.
Воронцов встал. Дети еще спали. Он слышал тихое посапывание, доносившееся с печной лежанки.
Вышел на крыльцо. Иванок сидел на боковой лавке и встретил его таким взглядом, как будто они расстались минуту назад.
– Здорово, товарищ лейтенант.
– Здорово. Ты что так рано?
– Дело есть. – Иванок покосился на Петра Федоровича, заводившего в оглобли гнедого коня, которого Воронцов сразу узнал. – Пойдем-ка к пруду.
Они спустились к ракитам, пошли по дороге, ведущей на соседнюю улицу. Именно там, за ракитами, стоял когда-то Пелагеин двор. Но туда они не пошли.
– А дело, товарищ лейтенант, вот какое. – Иванок приступал к разговору основательно. – На прошлой неделе пошел я в лес. Я ж на кузне теперь работаю. Надо было железяку подходящую подобрать, чтобы бороны подлатать. Пошел. Дай, думаю, самолет покурочу. Взял зубило, молоток, ключи. Домой возвращался уже ночью. Иду, а возле нашего лагеря, слышу, голоса. Помнишь, землянка где была? Я вначале подумал, что опять из трофейной команды приехали. Они тут все лето местность обшаривали. Даже землянку разобрали. Правда, там, кроме костей двоих полицаев, ничего не нашли. Нет, смотрю, не трофейщики. Форма на них странная. Одни одеты как партизаны. Кто в чем. И оружие у них наше, ППШ и винтовки. А другие в куртках, штанах с напуском, в ботинках и кепи.
– «Древесные лягушки», что ли? Откуда они здесь?
– Вот именно, «древесные лягушки». Чуть погодя, смотрю, забегали. А со стороны Черного леса послышался гул мотора. Самолет. Они побежали на поляну и подожгли кучу хвороста. Потом другую. Разговаривали и по-русски, и по-немецки. Одного-то я вроде признал. Он в отряде у Юнкерна был, в Андреенках. И голос его я, кажись, слышал. Командовал он. Самолет пролетел низко. Вернулся назад. Опять пролетел, теперь уже выше. А через минуту опустились два парашюта. Человек и контейнер. Самолет улетел. Ушли и эти. Костры потушили, разбросали по лесу.
– И что, ты никому не рассказал?
– Кому тут расскажешь? Только народ переполошишь. Хотел в райцентр съездить. Но они вроде сами обещались приехать. Вот, жду. А время уходит.
– А на Андреенском большаке что ты делал? Карабин у тебя откуда?
– Карабин из землянки. Когда я казаков пострелял, убитых мы с Зинкой в дыру спустили. Туда же побросал и винтовки. Вот, теперь пригодились. Трофейщики не нашли. Винтовки я в другую дыру засунул и сбоку землей присыпал. Казака я точно узнал. Его зовут Кличеня. Знаю, у кого он и жил там, в Андреенках. У Кирюшчихи. Мужа ее в сорок первом под Ельней убили. Вот и приняла себе нового мужика. Он, гад, и Шуру угонял. И деревню потом грабил. Я его хорошо запомнил.
– Кличеня? Это фамилия или прозвище?
– Может, фамилия. А может, и прозвище. Возле костра так и носился. И Юнкерн, это точно его голос был, называл его Кличеней. Сестру, Шуру, именно он к машине привел и потом на кузов запихивал. Мать рассказала, за волосы тащил. Измывался, гад. Утром я опять туда ходил. Взял карабин и пошел. Там у меня патроны были припрятаны… Следов они почти не оставили. Действовали осторожно. Но там, где бегал Кличеня, след я все же нашел. Раздавленное муравьище. След отчетливый. Видны все рубчики, все гвоздочки. Я его запомнил. А назавтра пришлось ехать с дядей Петей в Андреенки. И там, возле дома Кирюшчихи, на дороге, я увидел точно такой же след.
– Так вот ты какого лося вчера караулил?
– Хочется мне его за волосы потаскать. Живого. Спросить, помнит ли он Шуру Ермаченкову. А потом шлепнуть, гада. Такие жить не должны.
– Насчет шлепнуть ты не горячись. Может, обознался.
Иванок усмехнулся.
– Ты что, товарищ лейтенант, труханул? Не хочешь связываться? Ну и ладно. Только помалкивай о том, что я тебе сказал. Сам справлюсь. Я знаю, где их можно подкараулить.
– А что это за человек, с которым ты в лесу на дороге вчера разговаривал?
– Я? Ни с кем я не разговаривал.
– Как не разговаривал?!
– А так. Сидел в кустах и наблюдал за дорогой. Конюх Куприянов действительно проехал мимо. Но он меня не видел. Ни когда ехал в Прудки, ни когда – обратно. А ты что, слышал разговор?
– Слышал. И думал, что это ты разговаривал с тем стариком.
– Вот тебе и загадочка. Конюх-то Куприянов знаешь, кем Кирюшчихе доводится? Отцом!
– Выходит, я вчера слышал разговор тестя и зятя?
– Выходит. Что будем делать?
Воронцова поражал цепкий ум Иванка. Полгода, проведенные в разведвзводе, явно не прошли даром. Последняя фраза заставляла подумать. Иванок уже не рассчитывал на свои силы.
– Сколько их было?
– Четверо бегали возле костров и человек пять сидели в овраге. Еще один спустился на парашюте. Так что не меньше десяти.
– Многовато для двоих.
– Но мы ведь с тобой фронтовики, – подмигнул ему Иванок.
– А ты думаешь, там необстрелянные новички? Надо доложить в комендатуру. Пусть ими Смерш займется. А у нас и оружия нет.
– Оружие-то найдется. Вторая винтовка у меня есть. Патронов тоже достаточно. Есть пять гранат, четыре «феньки» и одна противотанковая.
– Они тебя не видели?
– Нет.
В тот же день Воронцов попросил у Петра Федоровича Гнедого и вместе с Иванком отправился в райцентр. Петра Федоровича спросил:
– Где есть пилорама?
– Только на станции. Там, за путями, в леспромхозе.
И он сказал Петру Федоровичу, что решил раздобыть досок для пола. Иванок с матерью тоже жили в недавно отстроенном доме без полов.
– Э, ребята, где ж вы нынче пиломатериал раздобудете… – безнадежно махнул председатель колхоза. Уж он-то знал, что доски и тес отпускаются по строжайшему лимиту, через райисполком, и накладные подписывает сам предрик Павел Савельевич Силантьев. Но Гнедого им все же дал. – Поезжайте, раз прокатиться захотелось.
Когда проезжали Андреенки, Воронцов чувствовал настороженные взгляды местных жителей. Да, это село жило своей жизнью.
Возле моста они встретились со вчерашней повозкой. Седобородый старик Куприянов и на этот раз только скользнул по их лицам рассеянным встречным взглядом.
– Видал? – толкнул Иванок Воронцова в бок, когда они выехали из села.
– Тихое место. – И Воронцов некоторое время смотрел в сторону уходящих за перелесок дворов.
Погодя спросил:
– Смерши их тут не потревожили после ухода немцев?
– А все казаки и те, кто с ними был, смылись. Одни бабы остались. Сочувствующие. Так их тут теперь называют. И обыски были, и облавы. Ничего не нашли. А следы, как видишь, появляются. Свеженькие.
В райцентре Воронцов пошел прямо к предрику Силантьеву. Расстегнул шинель, чтобы видны были боевые награды. Полевую сумку, на всякий случай, оставил под подстилкой в телеге. Иванок ждал его на улице. И вскоре Воронцов вышел на райисполкомовское крыльцо сияющий, с какой-то бумажкой в руке.
– Вот! Вот наши доски, Иванок! Так что к зиме с полами будете.
Иванок покрутил головой:
– И как ты его уговорил?
– Все просто! Он в сорок первом был ранен под Юхновом. Наша Шестая рота сменяла их на Извери. Бывший пограничник. Из батальона Старчака [6]6
О командире батальона особого назначения капитане Иване Георгиевиче Старчаке см. первую книгу серии – роман «Примкнуть штыки!»
[Закрыть].
– Выходит, блат у тебя тут?
– Выходит.
– А тебе что, бесплатно доски выделили?
– Почему бесплатно? Вот сейчас оплатим в кассу леспромхоза, и можно будет забирать наши полы!
– А деньги?
– Есть, Иванок, деньги. Есть. Это уже не твоя забота.
Иванок втянул голову в плечи. Потом, уже когда переехали через железнодорожные пути, сказал:
– Как думаешь, война еще долго продлится?
Воронцов засмеялся:
– Думаю так: до офицера ты успеешь дослужиться, так что домой вернешься при деньгах.
Иванок тоже улыбнулся. И вдруг спросил:
– А что ж мы в комендатуру не заехали?
– Незачем нам туда ехать. Ты же сам понимаешь. Ну пришлют они взвод. Начнут лес прочесывать. Выйдут на хутор…
– Тебе Зинка рассказала?
– Рассказала.
– Как думаешь, Юнкерн про хутор знает? А может, они там живут?
– Вряд ли. Тогда бы они и парашютистов встретили там. Место укромное. Не хуже Красного леса. Надо нам туда как-то съездить. Не знаешь, седла у Петра Федоровича есть?
– Есть. Как раз два седла. Немецкие, кавалерийские. Председатель наш человек запасливый. У трофейщиков за самогон выменял.
– Если сегодня доски привезем, завтра поедем на хутор.
Иванок вскочил, обхватил рукой Воронцова и сказал:
– Ну, Сашка, веселый ты парень! Хорошо, что ты приехал. А то мне в деревне, со стариками и бабами… Значит, завтра в разведку.
– Винтовки хорошенько почисти и смажь. Патроны тоже протри. Они у тебя в обоймах? Или россыпью?
– И в обоймах, и россыпью.
– Обоймы тоже прочисти. Чтобы нигде ни песчинки.
– Слушаюсь. Будет сделано.
С запиской от Силантьева их встретили, как на армейском складе с приказом от командующего армией. И через полтора часа они уже гнали Гнедого, поспешая за тяжелым ЗИСом, до края бортов нагруженным доской-пятидесяткой. Завскладом приказал грузчикам брать доски из сухого штабеля.
Бой, произошедший между оборонявшими берег и форсировавшими реку, пуля наблюдала сверху. Ей вдруг захотелось посмотреть, каковы укрепления на высоком берегу над обрывом. Чем выше она поднималась над рекой, тем виднее становилась общая картина событий на линии «Восточного вала». На западном берегу проводилась лихорадочная перегруппировка. Танковые и моторизованные колонны двигались то вправо, то влево. Они концентрировались в нескольких километрах в глубине обороны. Там же занимали заранее подготовленные позиции артиллеристы. И только пехота подтягивалась ближе к Днепру, занимая передовые линии траншей. А с другой стороны к реке текла другая масса войск. Тягачи тащили тяжелые гаубицы. Конные упряжки выбивались из сил, выволакивая из грязи длинноствольные противотанковые орудия. По большакам, растянувшись на многие километры, двигались танковые колонны, пополненные новыми, пахнущими заводской краской «тридцатьчетверками» и тяжелыми КВ. Шла не знающая устали матушка-пехота. В небе рыскали истребители. Иногда они схватывались прямо над Днепром, но вскоре уходили каждые на свой берег. Пока у неприятелей еще были свои берега. Но русские стремительно наращивали силы. В некоторых местах они переправились на правый берег и отбили небольшие плацдармы, яростно расширяя их. Русским нужен был правый берег. Потому что это их река и их берега. Там, за Днепром, многих ждали семьи.