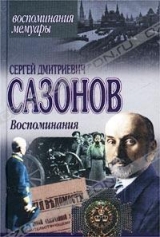
Текст книги "Воспоминания"
Автор книги: Сергей Сазонов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц)
Таким образом, нам приходилось поставить крайним пределом нашей уступчивости вопрос о неприкосновенности сербской территории и государственной независимости. За этим пределом перед нами восставал, во всём своём ужасе, кровавый призрак европейской войны, отогнать который, несмотря на все жертвы, принесенные для этого сербским народом и Россией, нам не удалось. Нет ничего тягостнее, как становиться на путь отречения и жертв, предвидя их бесполезность.
Предложение мое, четвертое по счету с появления австрийского ультиматума, со внесенными в него сэром Эд. Греем изменениями, было сделано 31 июля, т. е. в день объявления Германией «состояния опасности войны» и нашей общей мобилизации. Между ними, как я уже сказал, не было существенной разницы, кроме той, что объявление опасности войны давало возможность мобилизации без объявления о ней. Но между самим понятием мобилизации у нас и в Германии была огромная разница. В России на мобилизацию смотрели не только как на средство нападения, но также как на средство самосохранения, и в 1914 году нашей мобилизации был придан именно этот характер, как об этом Государь лично предупредил императора Вильгельма в одной из своих телеграмм к нему, подтвердив это утверждение своим словом и обещая ничего не предпринимать против своих соседей, пока переговоры с Австрией не будут окончательно прерваны. В Германии же мобилизация вела непосредственно к войне, как мне объявил о том германский посол. Как видно из телеграммы Бетмана-Гольвега к Чиршкому от 30 июля, генеральный штаб настаивал на «быстрых решениях», т. е. на немедленной мобилизации, иными словами – на войне.
Желание германской военной партии было исполнено, хотя и не без некоторого сопротивления со стороны государственного канцлера [16] [16] Адмирал Тирпиц в своих «Воспоминаниях» утверждает обратное.
[Закрыть] и г-на фон Яго, старавшихся отложить на некоторое время объявление войны, сознавая, по объяснению г-на Каутского, что Германия начинала войну при неблагоприятных для себя международных условиях [XLV] [XLV] К. Kautzky. Comment s'est déclanchée la guerre mondiale. Paris, 1921.
[Закрыть].
31 июля в полночь германский посол вручил мне ультиматум, в котором Германия требовала от нас в 12-часовой срок демобилизации призванных против Австрии и Германии запасных чинов. Это требование, технически невыполнимое, к тому же носило характер акта грубого насилия, так как взамен роспуска наших войск нам не обещали однородной меры со стороны наших противников. Австрия в ту пору уже завершила свою мобилизацию, а Германия приступила к ней в этот самый день объявлением у себя «положения опасности войны», а если верить главе временного баварского правительства Курту Эйснеру, вскоре затем убитому, то и тремя днями раньше. Как будто этого всего было недостаточно, германский ультиматум предъявлял нам ещё требования каких-то объяснений по поводу принятых нами военных мер.
Ни по существу, ни по форме эти требования не были, само собою разумеется, допустимы. Военные приготовления наших западных соседей представляли для нас величайшую опасность, от которой нас могло оградить только немедленное прекращение ими всяких мобилизационных мер. Не приходится говорить о том, что демобилизация в эту минуту внесла бы полное и непоправимое расстройство во всю нашу военную организацию, которой наши противники, оставаясь мобилизованными, не замедлили бы воспользоваться, чтобы осуществить беспрепятственно свои замыслы.
Передавая мне ультиматум своего правительства, германский посол обнаружил большую возбужденность и настойчиво повторял своё требование демобилизации. Мне удалось сохранить моё спокойствие, и я мог разъяснить ему без раздражения причины, по которым русское правительство не могло пойти навстречу желаниям Германии. Я уже несколько ранее был подготовлен к этому шагу берлинского кабинета и отчётливо сознавал, что дело мира, на которое мы положили бесконечные усилия, было бесповоротно проиграно и что за этим шагом через несколько часов последует другой – последний и окончательный, результатом которого будут для всей Европы бедствия, о размерах которых самое живое воображение не могло дать и бледного представления.
Пока протекал данный нам для капитуляции перед центральными державами срок, австро-венгерское правительство неожиданно выразило своё согласие на возобновление прерванных с нами переговоров, которые оно так решительно отвергало, пока от них можно было ожидать какой-нибудь пользы. Имело ли на решение Берхтольда какое-либо влияние давление из Берлина, как это утверждало германское правительство, обнародовавшее с запозданием целого года [17] [17] Факт этого труднообъяснимого запоздания побудил многих сомневаться в подлинности этих телеграмм.
[Закрыть], телеграммы Бетмана-Гольвега к Чиршкому, в которых он советовал венскому кабинету возобновить с нами разговоры, или же это решение было принято Берхтольдом самопочинно ввиду неготовности австрийской армии к активным действиям не только против России, но и против Сербии, или же, наконец, – просто для отвода глаз, так как в Вене уже имели уверенность в предстоявшем объявлении нам Германией войны и поэтому могли безнаказанно обнаружить некоторую примирительность, – в настоящее время не представляет большого интереса. Гром орудий помешал возобновлению этих переговоров, которым я придавал практическое значение только в первую стадию австро-сербского столкновения. Объявление войны Сербии и бомбардирование Белграда лишали их этого значения, и я, не отказываясь от них по вышеприведенным соображениям, утратил к ним всякий интерес. Помочь они ничему не могли, а отсрочивать было более нечего. Этот шаг, последний и бесповоротный, был совершен Германией в субботу 1 августа. В 7 часов вечера ко мне явился граф Пурталес и с первых же слов спросил меня, готово ли русское правительство дать благоприятный ответ на предъявленный им накануне ультиматум. Я ответил отрицательно и заметил, что хотя общая мобилизация не могла быть отменена, Россия тем не менее была по-прежнему расположена продолжать переговоры для разрешения спора мирным путем.
Граф Пурталес был в большом волнении. Он повторил свой вопрос и подчеркнул те тяжёлые последствия, которые повлечет за собою наш отказ считаться с германским требованием отмены мобилизации. Я повторил уже данный ему раньше ответ. Посол, вынув из кармана сложенный лист бумаги, дрожащим голосом повторил в третий раз тот же вопрос. Я сказал ему, что не могу дать ему другого ответа. Посол, с видимым усилием и глубоко взволнованный, сказал мне: «В таком случае мне поручено моим правительством передать вам следующую ноту». Дрожащая рука Пурталеса вручила мне ноту, содержащую объявление нам войны. В ней заключалось два варианта, попавшие по недосмотру германского посольства в один текст. Эта оплошность обратила на себя внимание лишь позже, так как содержание ноты было совершенно ясно. К тому же я не имел времени в ту пору подвергнуть её дословному разбору.
После вручения ноты посол, которому, видимо, стоило большого усилия исполнить возложенное на него поручение, потерял всякое самообладание и, прислонившись к окну, заплакал, подняв руки и повторяя: «Кто мог бы предвидеть, что мне придётся покинуть Петроград при таких условиях!». Несмотря на собственное моё волнение, которым мне, однако, удалось овладеть, я почувствовал к нему искреннюю жалость, и мы обнялись перед тем, как он вышел нетвердыми шагами из моего кабинета.
Несмотря на то, что граф Пурталес не всегда удачно выполнял свою роль посредника между германским и русским правительствами в критическое для обоих время и, по-видимому, односторонне и неполно осведомлял берлинский кабинет о положении вещей в Петрограде, я не сомневаюсь, что он искренно желал избегнуть разрыва между своей родиной и Россией не только по чувству врожденного миролюбия, но и потому, что он отдавал себе отчёт в том, какие последствия означенный разрыв должен был неизбежно повлечь за собой. Вероятно, представление об этих последствиях восстало в его воображении с особенной силой в минуту, когда ему пришлось принять непосредственное участие в его совершении, и было причиной того припадка отчаяния, который овладел им, когда он осознал, что совершилось нечто грозное и непоправимое, ужас чего не было в силах охватить ничье воображение.
Если бы Пурталес не был образцовым прусским чиновником, я бы мог подумать, что в его мысли в данную минуту промелькнуло сомнение в том, было ли его правительством и им самим сделано все, что было возможно, чтобы избежать или, по крайней мере, отсрочить надвигавшуюся катастрофу. Но такое сомнение навряд ли его мучило. Он не подозревал о многом, что сделалось известно лишь долгое время спустя, и верил, как большинство его соотечественников, в непогрешимость своего правительства.
На другой день, в 8 часов утра, посол со всем составом посольства и баварской миссии и 80-ю другими германскими подданными покинул в экстренном поезде Петроград, направляясь в Берлин через Швецию. Я с удовольствием отмечаю здесь, что отъезд германских дипломатов из России состоялся благодаря заботливости и предупредительности русских властей в полном порядке и благочинии. В этом отношении он выгодно отличался от отбытия из Берлина нашего дипломатического представительства и некоторых членов русской колонии, покинувших Германию вместе с С. Н. Свербеевым и подвергшихся оскорблениям уличной толпы.
Таким образом состоялся разрыв с Германией, вручившей нам в течение трёх суток два ультиматума, требовавших немедленного приостановления предпринятых нами мер военной безопасности без всякого ручательства взаимности ни с австрийской, ни с собственной стороны, и вслед за этими ультиматумами, после нашего отказа от капитуляции, объявила нам войну. Эти угрозы были направлены против России, делавшей нечеловеческие усилия, чтобы избежать войны, и приступившей к мобилизации своей армии только для того, чтобы не быть застигнутой событиями врасплох, тогда как в Вене, где война была давно предрешена с ведома и согласия Германии, не раздалось из Берлина ни одного внушительного слова, чтобы спасти Европу от угрожавших бедствий. Германия отчудила свою свободу действий, свыклась с мыслью о войне и поэтому не хотела и не могла её предотвратить. В этом заключается тяжкий грех берлинского правительства перед человечеством и собственным народом.
Между тем мы все ещё не находились в состоянии войны с Австро-Венгрией, главной зачинщицей создавшегося невыносимого положения. Так как венский кабинет в последнюю минуту заявил нам о своём желании продолжать прерванные им с нами переговоры, русское правительство не давало своим войскам приказа перейти австрийскую границу, имея в виду данное Государем обещание не нарушать мира, пока будут продолжаться переговоры, т. е. пока не исчезнет последняя, хотя бы и слабая надежда на его сохранение. Германия, таким образом, оказалась в положении державы, обнажившей меч для защиты союзницы, на которую никто не нападал.
В Вене не торопились с объявлением нам войны. Как уже было сказано выше, генералу Конраду фон Гетцендорфу, на которого падает главная ответственность за решение императора Франца Иосифа и его правительства вести войну во что бы то ни стало и с кем бы то ни было, пришлось убедиться, что военные силы Австро-Венгрии совершенно не соответствовали подобному замыслу и что не только война с Россией, но даже с Сербией являлась для них задачей, сопряженной с большим риском. Этим открытием должно быть, очевидно, объяснено выраженное в Вене желание возобновить с нами переговоры и таким образом выиграть некоторое время для спешного окончания военных приготовлений. Такое неопределенное положение, среднее между войной и миром, не могло продолжаться долго. В Германии медлительность «блестящего секунданта» [18] [18] Так называл император Вильгельм Австро-Венгрию.
[Закрыть] производила сильное раздражение, и вскоре из Берлина последовал совет, весьма похожий на приказание, объявить России войну, что и последовало на шестой день по объявлении нам войны Германией.
Что мнение венского генерального штаба относительно неподготовленности австро-венгерской армии было обосновано, выяснилось вполне определенно после ряда поражений, нанесенных сербскими войсками генералу Кробатину, командовавшему австрийскими войсками в Боснии. При этих условиях воинственный задор Конрада фон Гетцендорфа был бы вполне непонятен, если бы в Вене рассчитывали осуществить свои планы собственными силами и не имели бы безусловной уверенности в военной помощи Германии.
Впрочем, этого не приходится больше доказывать после всего, что нам теперь известно и о чём я заявил ещё в начале конфликта как в Берлине, так и в союзных столицах, а именно, что ключ положения находился в Берлине.
Союзники наши в этом не сомневались, но германский посол в Петрограде отвергал это утверждение с негодованием как оскорбительное для чести своего правительства. Германские националисты отвергают его и поныне, не освободившись ещё до сегодняшнего дня от дурмана, навеянного на них в первые дни войны речами императора Вильгельма и германского канцлера и ещё более статьями патриотической печати. До каких пределов доходило в Германии самообольщение не только взвинченных народных масс, но и правящих кругов, не исключая членов царствующих домов, видно из факта, что не довольствуясь утверждением, что Россия и её союзники – причём степень их ответственности колебалась и видоизменялась бесчисленное количество раз – вынудили Германию вести войну для самозащиты, но под конец договорились до того, что уверовали в объявление войны Германии Россией и Францией и совершенно забыли о нотах, переданных в Петрограде и в Париже 1-го и 3 августа, равно как и о вручении 2 августа ультиматума Бельгии и вторжении, без всяких формальностей, в пределы Великого герцогства Люксембургского. Ярким образчиком подобной забывчивости и путаницы в мыслях может служить речь короля Людовика Баварского, сказавшего в связи с празднованием юбилея баварского Kanal-Verein'a следующую фразу: «Объявление войны Францией последовало за таковым со стороны России, и когда наконец англичане также напали на нас, я сказал себе: всё это меня радует и радует потому, что теперь нам будет возможно свести счеты с нашими врагами».
Такая фраза в устах главы второго по величине и значению Германского государства раскрывает яркую картину того психоза, жертвой которого сделалась Германия в эпоху мировой войны. Если так мог говорить король Баварский, то чего же можно было ожидать от рядового немца. Невероятная способность самообольщения, которой обладает германский народ и от которой его не спасает высокая степень его культурного развития, должна быть, очевидно, отнесена насчёт его особой психологии, являющейся первостепенным политическим фактором, с которым и впредь будут вынуждены считаться его соседи во всех своих сношениях с Германией и которому до сих пор не придавали должного внимания.
Глава IX Начало военных действий. Нарушение нейтралитета Бельгии. Объявление Англией войны Германии. План кампании берлинского генерального штаба. Его неудача. Значение сентябрьских боев на Марне. Степень военной неподготовленности России и её союзников. Присоединение Турции к Австро-Германии. Значение этого факта для участников войны. Нейтралитет Италии и Румынии. Военное выступление Болгарии и его последствия. Затруднительность военного положения России
Великая война началась на Восточном фронте бомбардированием Либавы германским флотом, а на Западном – несколькими нарушениями французской границы, вызванными, по утверждению германского правительства, подобными же действиями французских войск в Германии.
В числе таких враждебных действий, приписанных Франции, были и совершенно фантастические, вроде появления французских аэропланов над Карлсруэ и Нюрнбергом, бросания с них бомб для разрушения железнодорожных путей и т. п. Эти обвинения, никем не проверенные и не доказанные, тем не менее послужили официальным поводом для объявления войны Франции, состоявшегося 3 августа. Накануне германский посланник в Брюсселе вручил бельгийскому министру иностранных дел ноту, в которой он требовал, под угрозой войны, согласия Бельгии на свободный доступ германских войск на бельгийскую территорию ввиду предупреждения намерения Франции нарушить неприкосновенность Бельгии с враждебными Германии целями, о которых, будто бы, германское правительство было осведомлено из достоверного источника. На полный достоинства отказ Бельгии подчиниться этому требованию последовало немедленное вторжение германских войск в Бельгию и появление их под Льежем. Это был первый шаг к занятию Германией бельгийской территории, доведенный последовательно до конца, несмотря на геройское сопротивление бельгийской армии, вынужденной под давлением более сильного противника перейти на территорию союзной Французской Республики, где она под командованием своего короля продолжала, вплоть до перемирия, принимать деятельное участие в военных действиях союзников против германского нашествия.
Насколько искусственно было построение, которым германская дипломатия старалась прикрыть давно обдуманное и наперед решенное нарушение бельгийского нейтралитета, и как неосновательны были возведенные ею на бельгийское правительство обвинения в соучастии в каких-то враждебных замыслах Франции и Великобритании против Германии, видно из того факта, что ранее германского вторжения в бельгийские пределы симпатии брюссельского правительства и общественного мнения Бельгии не только не клонились предпочтительно в сторону Франции, но скорее шли по направлению к Германии, с которой Бельгию связывали её экономические интересы и, в значительной части её населения, кровное родство.
Бельгийский посланник в России граф де Бюиссере, с которым мне приходилось неоднократно касаться вопроса о положении его отечества как международного фактора, повторял мне, что Бельгия настроена нейтрально не только политически благодаря своему географическому положению между тремя великими державами, но также и в силу своего исторического прошлого и особенностей своей национальной культуры, спасающих её от односторонних увлечений. Положение Бельгии, по словам Бюиссере, вынуждает её жить в одинаково дружественных отношениях со всеми её соседями, не отдавая предпочтения никому из них и считая своим врагом того, кто бы он ни был, кто обнаружит поползновение покуситься на её независимость. «Nous serons contre 1'agresseur de qulque сфtй qu'il vienne», – говорил посланник. В основательности этих слов трудно было сомневаться, потому что было ясно, что они вполне отвечают правильно понятым интересам культурной и богатой, но в военном отношении слабой страны, уверенной, что в борьбе за свою независимость она всегда найдет могущественных союзников. В Париже это было хорошо известно, и французскому правительству не приходило в голову использовать Бельгию для наступательных целей против Германии.
Риск, связанный с подобной политикой, должен был бы быть известен и в Берлине. Но давно выработанный на случай нападения на Францию стратегический план и уверенность как в непогрешимости этого плана, так и в быстрой и решительной победе, не говоря уже о возможности, одинаково заманчивой с экономической и военной точек зрения, захвата устьев Шельды, затмевали взор германских политиков и стратегов, и Германия решилась на шаг, который должен был неминуемо спутать её расчёты и разрушить надежды на скорый успех, вовлекши Англию в войну на стороне союзников.
Хотя в Германии, особенно под первым впечатлением выступления Великобритании на стороне России и Франции, посыпались по адресу английской политики бесчисленные обвинения в заговоре, коварно подготовленном вместе с союзниками для уничтожения Германии, русское правительство находилось до самой минуты вторжения германских войск в Бельгию в тревожной неизвестности относительно намерений лондонского кабинета. Настойчивые убеждения, обращенные мной к английскому правительству заявить о солидарности его интересов с интересами России и Франции и тем раскрыть глаза германского правительства на страшную опасность пути, на который его поставила самоуверенность берлинского генерального штаба и германских государственных людей, не имели в Лондоне успеха. Едва ли надо мне прибавить, что если бы между Англией и Двойственным союзом существовал означенный заговор, то просьба моя, обращенная к лондонскому кабинету, не имела бы никакого смысла. Эмпиризм английского народа отвергает национальную опасность, пока она не стала осязательной всем и каждому. Поэтому понятно, почему в Англии немало государственных людей, не решающихся, предупреждая изъявление воли общественного мнения, говорить от его имени.
Война не была своевременно предупреждена, и приходилось её вести. Поздно вечером, 4 августа, в Берлине произошло свидание германского канцлера и британского посла, во время которого было произнесено роковое слово о «клочке бумаги», ставшее с тех пор нераздельным с именем Бетмана-Гольвега.
Едва ли можно найти в истории политической жизни Европы другое неосторожно сказанное слово, которое причинило бы больший нравственный урон не только человеку, произнесшему его, но и тому правительственному строю, которого он являлся представителем.
5 августа утром весть об объявлении Англией войны Германии достигла Петрограда и была принята с одинаковым удовлетворением как в правительственных, так и в самых широких кругах населения. Чувство грозной опасности, тяготевшее над нами при вступлении в борьбу, ставшую неизбежной, благодаря безумию Австро-Венгрии и попустительству Германии, сменилось у нас надеждой на её благополучный исход. У меня лично с момента вторжения германских войск в Бельгию исчезли всякие сомнения насчёт участия Англии в европейской войне на стороне Двойственного союза и явилась не только надежда на её благоприятный исход, но и полная уверенность в торжестве над попыткой Германии навязать Европе свою гегемонию. Не достигнув объявления лондонским кабинетом своей солидарности с нами, мы могли только радоваться, что сама Германия вынудила его вступить в ряды своих противников и таким образом добилась того, к чему мы тщетно стремились. Раз европейская война не могла быть избегнута, было существенно важно вести её в условиях наибольшей успешности. Эти условия наступали для Двойственного союза в том случае, если бы борьба велась не только сухопутными силами, но в ней участвовали бы громадные морские силы Великобритании, которые парализовали бы всю экономическую жизнь врага.
Оставалась однако ещё одна и весьма серьезная опасность. Германия могла нанести сокрушающий удар Франции и России в первые же недели войны, обрушившись всеми своими силами на одного из союзников. Опасность эта была особенно велика для Франции, легче уязвимой, чем Россия, благодаря сравнительной близости Парижа от границы. Мы все слышали о плане кампании берлинского генерального штаба, состоявшего в сосредоточении главных сил Германии против одного из противников Германии, а затем, после его разгрома, обращении их против другого. Эти операции должны были быть произведены в возможно короткий срок. Поэтому во мне давно укоренилось убеждение, что если Германия не одержит в первые два-три месяца войны решающих судьбу кампании успехов, она не выйдет из неё победительницей.
Этот план не был приведен в исполнение, по крайней мере в полном его объеме. Ответственность за его изменение, кажется, ещё не выяснена в самой Германии. Тем труднее говорить о ней иностранцам. В печати я видел указания на то, что виновником его неисполнения одни считают императора Вильгельма, другие – генерала Мольтке, племянника знаменитого стратега, не унаследовавшего его талантов, третьи – подначальных лиц, не имевших определенных взглядов на вопросы такой важности, а силившихся угодить тому или иному власть имущему лицу. Несомненно только то, что Германия в 1914 году начала войну на обоих фронтах и этим, может быть, лишила себя возможности быстрых и решительных успехов на одном из них.
События скоро подтвердили мои ожидания. Победа на Марне, которой Франция обязана генералам Жоффру и Галлиени и самоотверженной помощи России, пославшей по просьбе французского правительства на почти верную гибель армию генерала Самсонова, неподготовленную для наступательного похода, в пределы Восточной Пруссии, сразу остановила победное продвижение германской армии на Париж и этим спасла не только столицу Франции, но в значительной степени предрешила и исход войны. Истинное значение поражения на Марне не оставило в германских руководящих кругах никакого сомнения, и берлинское правительство приняло должные меры для того, чтобы помешать ему проникнуть в сознание общественного мнения и тем поколебать в самом начале войны уверенность народа в её счастливом исходе. Эта цель была легко достигнута, и по сей день в Германии ещё не много людей, которым значение сентябрьских боев на Марне было бы ясно.
Из всего, что сказано выше, можно вывести заключение, что европейская война началась для Тройственного согласия как в дипломатическом, так и в военном отношениях при благоприятных условиях. Тем не менее не только Россия, к ней совершенно не готовая, но даже и Франция, находившаяся с 1870 года под вечной угрозой вторжения германских войск, оказалась, с точки зрения технического снабжения, в положении, мало соответствовавшем требованиям минуты, и её промышленности пришлось сделать невероятные усилия, чтобы наверстать потерянное время. Англия находилась в том же, и едва ли не худшем положении, потому что, не говоря о несовершенстве технической части, ей пришлось работать над созданием армии, способной вести на континенте борьбу с лучшей армией Европы, технически и численно во много раз превышавшей её силы. Для этого ей пришлось улучшить свой командный состав, оставлявший желать лучшего, и обеспечить набор своей армии.
Для этого Франции и Англии пришлось разрешить задачи, представлявшие громадные трудности. Тем не менее обеим нашим союзницам удалось довольно быстро с ними справиться и вскоре сделаться поставщицами России, остро нуждавшейся в вооружении и снарядах, несмотря на что она продолжала вести тяжёлую борьбу, благодаря превосходному духу армии, несшей с геройским самопожертвованием ужасающие потери.
Я не буду выходить за пределы моей личной осведомленности и касаться подробно военных действий в эпоху мировой войны. Эта задача отчасти уже выполнена военными писателями Тройственного согласия, хотя всесторонняя её разработка, поскольку это касается России, может быть совершена лишь, когда нужный для этого материал станет доступен военным историкам и когда наступит пора нормальных условий жизни и научного труда. Если мне придётся упоминать о тех или иных военных событиях, то я буду делать это лишь поскольку оно будет необходимо для освещения тех событий, которым посвящены мои воспоминания.
По мере того, как развивались военные действия, принявшие благодаря отсутствию решительных успехов как со стороны Тройственного согласия, превратившегося слишком поздно в Тройственный союз, так и со стороны центральных держав с первых же месяцев великой войны затяжной характер, перед союзными правительствами начинали восставать, поочередно, политические вопросы первостепенной важности. Эти вопросы требовали разрешения путем специальных соглашений ввиду общего интереса, который они представляли для каждого из союзных государств.
Благодаря крайней сложности политических интересов, связанных со многими из этих вопросов, разрешение их требовало долгой предварительной работы и самого внимательного и беспристрастного изучения. Работа эта была настолько трудна, что едва ли было возможно надеяться довести её до удовлетворительного разрешения при иных условиях, чем те, в которые великие державы внезапно были поставлены наступлением европейской войны. Ею открывалась новая эра в истории человечества.
Под давлением мировых событий, которые должны были повлечь за собою коренные изменения в карте старого света, разрешение важнейших политических задач, остававшихся целые столетия неразрешенными, стало не только возможно, но и настоятельно необходимо. Державы Тройственного согласия, спаянные страхом перед германской опасностью, не замедлили проникнуться сознанием неизбежности взаимного размежевания в тех частях света, где до тех пор их интересы находились, казалось, в непримиримом несогласии между собой.
Низвержение Германии с высоты мировой державы не было целью ни одной из держав Согласия ввиду очевидной невыполнимости подобного замысла иначе, как путем принятия на себя риска и ответственности, на которые ни одна из них не отважилась бы. Но с другой стороны, умаление силы и значения Германии как мировой державы представлялось каждой из них естественным и законным возмездием тому государству, которое взяло на себя означенные риск и ответственность и подвергло самое существование держав Согласия серьёзной опасности. В этом отношении между ними с осени 1914 года не было никакого разногласия. Все сходились на том, что результатом войны должно было быть обезвреживание Германии. Вместе с тем всем было ясно, что если Германия будет разбита соединенными силами Согласия, её положение великой державы, лежащей в центре Европы и обладающей вторым по численности населением, богато наделенной естественными и культурными благами, мало чем изменится вследствие нанесенного ей поражения. Германия была опасна для мира Европы не как европейская, а как мировая держава, поставившая себе цели, несовместимые с политическим существованием великих держав, вступивших несколькими столетиями раньше её на путь империализма и не угрожавших более миру Европы. Пока Германия довольствовалась соперничеством с ними на торгово-промышленной почве и вела борьбу ради вытеснения своих соперников из старых рынков и приобретения новых, в чём она преуспевала благодаря своей предприимчивости и энергии, а также созданным ею финансовому и техническому аппаратам, она была неприятной соседкой для других европейских держав, которые смотрели на неё косо, сознавая, что им было трудно с ней состязаться, так как она могла быть побеждена только тем же оружием, которое она создала для своих целей и которым никто иной в Европе не обладал. Государственные люди, следившие за необычайным ростом экономического влияния Германии, предвидели её конечное торжество не только на европейских рынках, но и далеко за их пределами, на что указывали поразительные успехи, одержанные ею в Старом Свете, как-то в Индии и на Дальнем Востоке, а равно и на обоих континентах Америки и в Австралии.
Подобные перспективы тревожили среди держав Согласия прежде всего Англию, интересы которой были задеты наиболее чувствительным образом торжествующим шествием германской торгово-промышленной конкуренции, и меньше всего Россию, стремления которой не шли дальше овладения своим собственным рынком и проникновения русских товаров на ближайшие азиатские рынки. Франция занимала в этом отношении, особое положение. Для неё быстрый рост германской промышленности и соответственно ему развитие внешней торговли представлялись менее опасными ввиду того обстоятельства, что французская вывозная торговля ограничивалась преимущественно вывозом на мировые рынки товаров, по отношению к которым у неё существовала как бы монополия. Европа начала мириться с мыслью о неизбежности своего превращения в германскую данницу. Если бы Германия, оценив истинное значение такой победы в настоящем и ещё более в будущем, удовольствовалась громадным результатом, достигнутым трудолюбием своего народа и организаторским даром своих промышленников, и предоставила естественному ходу событий завершить начатое дело, она в настоящую пору стояла бы по богатству и могуществу во главе государств Европы. Призрак мирового владычества заслонил в её глазах эту легкодостижимую цель. Угрожая каждой из великих держав Согласия, сблизившихся между собою не по влечению сердца, а из сознания общей опасности, в самом центре уязвимости каждой из них, Германия превратила их из соперниц, до известной степени свыкшихся с уменьшением своего экономического значения, в непримиримых врагов, знавших, что им не будет пощады в случае достижения Германией своих политических целей.







