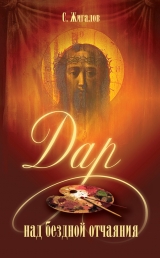
Текст книги "Дар над бездной отчаяния"
Автор книги: Сергей Жигалов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Под такой молнией владыческого гнева иные служители на колени падали, слёзы точили, а селезневский попик лишь помаргивал и, показалось архиепископу Иннокентию, усмехался исподтишка.
После рассказа отца Василия, как было дело, архиерей раздосадовался на себя за горячность и оттого скорёхонько переменил тон. Оглядел его новую рясу, улыбнулся.
– Ну, не стала обнова плетнём меж тобой и прихожанами?
– Памятлив ты, владыка, – поклонился поясно отец Василий. – Не солгу, по дворам ходить в старенькую облачаюсь. Низок подновил…
– Экий ты строптивец, – усмехнулся в бороду архиерей. – Мог бы и смолчать.
– Прости, владыка, по скудоумию.
– Ты про крестника рёк, будто зубами иконы пишет…
– Привёз я справленную им иконку.
– Ну так показывай.
Долго рассматривал икону с ликом Христа архиерей, то на вытянутых перед собой руках, то вплотную к лицу приближал, щурился. Потом поцеловал, поставил на шкафчик.
– Неужто зубами написана? Аж не верит ся. Надо сказать, простоват лик-то Иисусов вы шел у него. – Владыка пожевал сухими губа ми. – Плотник Назаретский на нас глядит с иконы, а не Спаситель мира. Плотского много в Нём, и взор человечий, не горний. Учиться твоему крестнику надобно. Дар Божий есть. Ты оставь на время мне иконку, покажу тут. Он читать-писать у тебя умеет?
– Искусен, владыка. Здесь, в Самаре, в гимназии заочно учится. Памятью несказанно цепок. «Новый Завет» наизусть читает. «Евгения Онегина» всего выучил.
Служка принёс чай. Владыка поглядывал на иконку, доливал в чашки и вроде как нудился разговором.
Заметив это, отец Василий засобирался.
– Постой, – владыка отёр рукавом лоб. – Седьмую чашку пью. Век со мной такого не случалось. Гляжу на икону и жажда мучит…
– Вот и со мной такая картина. – И отец Василий рассказал о гришаткином сне-видении. Владыка поражённо качал львиной гривой, крестился. – Чудны дела Твои, Господи. За девятнадцать веков мы, маловеры, не утолили духовной жажды Спасителя… Труды и слёзы убогого отрока Ему угодны… Григорием, говоришь, наречён? И совсем ни рук, ни ног нету?
– Совсем, владыка. У ног одни начатки от бедер чуть более четверти, а рук совсем лишён. За чьи грехи Господь наказал, никому неведомо.
– Иисус как отвечал на вопрос, кто виноват, что человек родился слепым? – Владыка отставил чашку, просветлел ликом. – Сказал, не согрешили ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нём явились дела Божии. Вот и являются, – снова повёл глазами на иконку. – Великие милости истекают попущением Господним из дарованных Им скорбей.
– И твоя милость, владыка, – светло улыбнулся отец Василий. – Опалил гневом, теперь чаем потчуешь.
– Какой раз ты меня, отец Василий, во гнев напрасный вводишь? Сознайся, на испытку брал, когда долдонил: грешен, грешен, а?
– А разве я, владыка, не грешен? Когда канон Ангелу Хранителю читают, помнишь: «…Которыми очима, Ангеле Христов, воззреши на мя, оплеташися зле во гнусных делех?..» – думаю, про меня, окаянного, сказано.
– Ты вот что, раб Божий, лукавый, – по-доброму усмехнулся архиерей. – Окормляй его не устанно. Сатана с пути истинного ох как сбивать будет. Бди.
Распрощались дружески.
Отец Василий вышел на улицу. Взлетевшее в зенит сентябрьское солнце пекло. Снял с головы скуфеечку, ветерком овеяло напотевшую голову. Шёл, держась под тенью деревьев. На углу его догнал запалившийся служка.
– Как на крылах летишь, думал, не настиг ну, – заполошно выговорил он. – Владыка велел передать крестнику твоему книгу. Пусть, наказал, житие митрополита Московского святителя Алексия чтёт. Не убоявшись жары, отец Василий пошёл окружным путем. Поманулось взглянуть на строящийся Кафедральный собор на Соборной площади. Над крышами домов, будто пять ровных языков золотого пламени, возносились к небу купола. Собор небесным островом парил над тронутой багрянцем зеленью садов. От его чудного вида простецкая душа сельского священника зашлась радостью. Отец Василий остановился и стал истово креститься на жарко горевшие луковицы куполов.
Когда же вышел на площадь, собор открылся во всём своем могучем величии. Взгляд отца Василия, привыкший к камышовым крышам и трубам сельских изб, будто неудалый верхолаз, карабкался по стенам, запинался на изузоренных каменной кладкой наличниках окон, стыл, поражённый красотой башенок, бежал по аркам на купола: «Господи, как же мастера держались на эдакой вышине, – глядя на трепетавшие крестики стрижей, с восторгом вопрошал отец Василий, и сам же отвечал: С Божьей помощью строят на века веков во славу Господнюю…»[12]12
Кафедральный собор в Самаре на нынешней площади Куйбышева был разрушен в 1932 году. На месте храма, над его усыпальницами с мощами священнослужителей, построено прямоугольное тяжелое здание, известное самарцам как театр оперы и балета. По сей день длятся «половецкие пляски» на святых мощах.
[Закрыть]
Государь покойный Александр II серебряным мастерком, своими ручками, камень в основу положил… До семи ведь разов покушались на него супостаты. Будь он жив, то-то бы порадовался. Упокой, Господи, душу грешную раба Божьего Александра… То-то Гриша обрадуется подарку владыки… Про митрополита московского велел читать. А ведь святой Алексий – покровитель Самары неспроста, – подумал отец Василий, перекрестился радостно. – Говорил, иконы в Петербурге заказали для собора. Неужто Гришу хочет попытать сразу на столь великом деле?»
8
Без Данилы мастерская осиротела и не кормила более. Оклады на иконы заказывали редко. А письма Гриша писал за так. К новине и хлебушек из закромов под метёлку вымели. Арина отруби в муку подмешивала, отчего хлебы не подымались в печи, трескались. Скотина выручала. Зойка-кормилица отелилась – молочко хоть шильцем, а ели. Курочки по теплу занеслись, яичками на Красную Пасху разговелись. Арина сметанку да яички больше на продажу собирала. Гришатку на учёбу в Самару одного не отправишь, Афоню с ним посылать надобно. За постой, за стол платить. Одеть, обуть – всё деньги.
Наизнанку выворачивалась, каждую копейку берегла. И Никифору покою не давала. Сплановали тёлку-летошницу в зиму оставить вместо старой коровы. Да лошадь, да бычка-полуторника, да овчатышек. Долгую зиму такую прорву скотины кормить омёта сена не хватит. Всё лето до осени Арина подол в зубы и чуть свет по овражкам, по опушкам. Где какую полянку углядит, гонит Никифора с Афоней траву косить. По осени дожди прошли, вторым укосом косить понужала. Афоню до свету будила.
– Эх, повезло Гришану, быть бы мне тоже без рук, без ног, не гнала бы косить, – бурчал Афонька спросонья.
Арина – рушником по спине:
– Не буровь абы чего. Гришатка до свету рыбачить залился. На ушицу вам.
– В холодке на речке, а тут на жаре. Куда столь сена девать?
– Зима долгая, всё подберём.
Никифор черпал ложкой тюрю с квасом, молчал. С годами он всё чаще клал печать на уста и не встревал в пустые разговоры.
Поднявшееся над крышей соседского дома солнышко заглянуло в окно. Огнём пыхнул лежавший на лавке медный оклад для иконы. Никифор сожмурил глаза, отёр ладонью бороду:
– Брусок не забудь. Слышь, Афонь?
– Щас квасу налью.
…Тем часом Гриша с отцом Василием сидели под кручей на Самарке. Тупо глядели на мёртво лежавшие на глади омута поплавки. За кустами, ниже по реке, раздался напугавший их всплеск, будто корова с кручи в воду свалилась. Глядь, вдоль берега против течения темная лобастая голова плывёт. «Бобёр…», – догадался Гриша. Перед самыми поплавками зверь хлобыстнул хвостом, осыпав брызгами юного рыбаря, и ушёл под воду.
– Ишь, злится на нас, – шепнул отец Василий. – Место его заняли. Хвостом, как лопатой, лупанул, всю рыбу распугал.
На конец гришиного удилища, трепеща, опустилась большая сиреневая стрекоза.
– Про святителя Алексия прочёл?
– Прочёл. – Гриша плечом отёр брызги со щеки.
– Ничего, грешник, про него не знаю. Слыхал, что покровитель Самары.
– Одного бобра на шапку хватит?
– Экося, я ему про святителя, а он мне про бобра, – огорчился отец Василий. – Как святой Алексий в Самару-то притёк? Расскажи-ка мне.
– В детстве его звали Елевферием, а после монашеского пострига нарекли Алексием, – шепотом, поглядывая на стрекозу, заговорил Гриша. – Великий князь Московский Иоанн Иоаннович[13]13
Иоанн II Иоаннович княжил с 1353 по 1359 гг.
[Закрыть] по соборному постановлению избрал святого Алексия в митрополиты. Слава о чудесных исцелениях по молитвам святого Алексия дошла и до татарского хана Джанибека. Хан снарядил послов к Московскому князю. Просил прислать в Орду «сего человека Божия», чтобы Алексий исцелил его ослепшую любимую жену Тайдулу. «Если царица получит исцеление по молитвам того человека, – глядя в омуток, будто все это было написано на водной глади, без запинки пересказывал послание хана Гриша, – ты будешь иметь со мной мир. Если не пошлёшь его ко мне, то разорю огнём и мечом твою землю».
– Басурмане. Какую волю имели… – Отец Василий нанизал на крючок свежего червя, поплевал на него. – На Руси не все караси, есть и ерши. И что князь?
– Убоялся. Велел ехать. – Гриша ткнулся лицом в лопухи, замотал головой. – Спасу нет от этих комаров.
– Сказывай, а я буду их веткой от тебя отгонять.
– Ты, крёстный, лучше за удочками гляди.
– А что Алексий?
– Перед дорогой в Орду молился он в храме Успенья Пресвятой Богородицы, скорбел. И тут у гроба святого Чудотворца Петра сама собой зажглась свеча.
– Знак благой. – Отец Василий помахивал перед гришиным лицом ольховой веткой.
– Ты мне глаза не выстегни, – засмеялся Гришатка. – Машешь как попало.
– А в Самаре-то как Святитель очутился?..
– Экий ты, крёстный, поспешник. Дойду и до Самары. Глянь, поплавок повело.
– Это течением. Сказывай, не томи.
– Святитель Алексий взял часть воска от той свечи, изготовил из неё малую свечку и забрал с собой. В 1357 году по весне вместе с клиром отправился в Орду. Был тогда митрополит уже не молод и, чтоб не растрястись на конях, поплыл в челнах по Волге. В устье Самарки сошёл на берег. В лесу посетил келью благочестивого пустынника. Имел с ним беседу. Тогда и изрёк пророчество, что со временем здесь поднимется град великий. Воссияет в оном граде благочестие «и оный никакому разрушению подвержен быть не имеет».
– А кто слыхал-то, что он так рёк?
– Может, тот пустынник записал, а скорее, кто из монахов, что с ним плыли… Тебе не всё одно?
– А слепая царица?
– Святой Алексий приплыл с клиром в Золотую Орду, – продолжал Гриша. – Хан встречал его с великой честью, повёл в палаты…
…Рассказывал он, и проступали за приречными вётлами дворцы Золотой Орды. Ревели верблюды, ржали кони, нукеры в мохнатых острых шапках толклись у костров. Ели пришельцев рысьими глазами. Слепая красавица Тайдула низко клонила гордую голову перед русским святым. Хан Джанибек, золотым беркутом вкогтившийся в свои колени, восседал на коврах. Ждал, пока русский святой не возжёг малую свечу и не принялся читать молитвы над коленопреклонённой царицей. Чем дольше длилась молитва, тем сильнее наливались яростью жёлтые зрачки хана. Что может этот седой старик? Шаманы били в бубны, жгли костры до облаков, персидские волхвы поили отварами из орлиных глаз и золотого корня, а тут всего-навсего тоненький прутик воска, подожжённый с одного конца… Зря он понадеялся, тьма её глаз не расступится перед старцем, приплывшим из полуночных стран. Но он, хан Джанибек, будет на этот раз великодушен. Урусутского митрополита не привяжут к хвостам диких коней, не сломают ему старческий хребет. На обратном пути при ночёвке на берегу его просто зарежут сонного…
Но что это? Тайдула вдруг вздрагивает от окропивших ее глаза капель святой воды и визжит, как простая дочь пастуха:
– Я вижу!.. Я вижу!..
Джанибек с юношеской быстротой вскакивает с ковра, подбегает к Тайдуле, замахивается на неё. Царица отшатывается в испуге.
– Она прозрела! – Хан сдирает с пальцев золо тые в драгоценных каменьях перстни, подносит в пригоршни урусутскому святому.
…Пока Гришатка рассказывал, отец Василий в волнении оборвал всю ветку, которой отгонял комаров:
– Басурмане, они безжалостные.
– А ты думал. Когда Джанибек умер, сыновья стали драться за престол. Так Бердыбек зарезал двенадцать братьев, а сам… Крёстный, тяни! – закричал вдруг Григорий.
Конец вязового удилища макнулся в воду. Сиреневая стрекоза сорвалась с удилища, затрещала над омутом. Отец Василий взвился на месте. Полы подрясника взметнулись, будто крылья. Что есть сил вцепился в удилище.
– Крёстный, миленький, не оборви, не дёргай, как в тот раз, выводи степенно, – шёпотом просил Гриша, глядя на резавшую воду лесу. – Похоже, головель попался, скоро уморится…
– Да не дёргаю я, она сама тянет дуром!
На речную поверхность вдруг свечой выметнулась здоровенная щука с разинутой пастью, взбурлила воду и скрылась.
Слабину ей не давай, крёстный. Внатяг веди, – кричал Гриша. – Внатяг!
– А то без тебя не знаю! – Отец Василий обеими руками держал в дугу согнутое удилище, то приподнимая, то опуская до самой воды.
– Воздуху, дай ей воздуху хлебнуть, враз присмиреет!
– А то! С глуби щука кинулась на перекат. Отец Василий, увязая в грязи, будто мальчишка, припустил вдоль берега.
Гриша, приминая лопухи, покатился следом. На мели сквозь воду щука виднелась обугленным поленом. Раза два отец Василий изловчился поднять ее над водой. Речная волчица присмирела, водила плавниками.
– Подсак-то, где сидели, остался, – отец Василий стоял по колено в воде, течение играло полами подрясника…
– Давай удочку мне в зубы, а сам за ним беги, – по-взрослому твёрдо сказал Гриша.
– Зубы бы тебе не выбила.
– Давай скорее! Отец Василий, пятясь, мелкими шажочками, подтянул щуку ближе к берегу. Григорий закусил испачканное в песке удилище:
– Беги, не мешкай! Тот по-молодому припустил по траве, мокрые полы захлёстывали ноги. Вернулся с подсачком:
– Тяни!
Григорий, окаменев скулами, как мог стал пятиться от воды.
Отец Василий тихонько подвёл под щуку подсак. Учуяв ловушку, рыбина свивалась в кольцо, колотила хвостом. Отец хрястнул и переломился черенок. Щука вывернулась из обруча, стрельнула в глубь. На конце лесы, рдея красными бочками, метался рябой окунишка.
– Эх, крёстный, кричал же я тебе. – Гриша с досадой выплюнул удилище, чувствуя, как хрустит на зубах песок. – Зачем кверху задирал! По воде надо было вести.
– Обмишулился, воздуху хотел ей дать поболе, – мокрый и виноватый, отец Василий достал из воды обломок сачка. – Ушла, и с Богом. Вишь, вместо себя дань оставила.
– Ага, дань, – сплюнул песок Гриша. – Окунишка на червя клюнул, а она его заглотила…
– Вона-а. – Отец Василий вылез из воды. – Черенок высох, оттого и обломился. У старых щук мясо тиной отдаёт…
– Ага-а, сказывай теперь.
…Когда азарт остыл, вернулись к разговору о митрополите Алексии. Гриша рассказал, как Святитель второй раз ездил в Золотую Орду к Бердыбеку. Кроткими и мудрыми речами укротил ярость кровожадного хана и исходатайствовал мир для Руси.
– Святое слово завсегда сильнее меча, – сияя лицом, будто он сам улестил жестокосердного хана, обрадовался отец Василий.
– Веришь, крёстный, так мне поманулось его лик написать, – тоже окрыляясь радостью, признался Гриша. – На воду гляжу, а сам про то, как его написать, думаю.
– Прозорлив владыка, дай Бог ему здоровья, – перекрестился отец Василий. – Велел тебя ему показать.
– Зачем я ему?
– Иконку твою у себя оставил. И на тебя поглядеть пожелал.
– Жарко… Умой меня, крёстный, и на голову полей.
9
…Царский поезд из Ялты с лязгом и шипеньем, в сверкании свежей краски вагонов, затормозил на полустанке. Сиволапый мужичонка, не веря глазам, примотал вожжи, спрыгнул с рыдвана. Что за чудо: из трубы дым идёт, избы на колёсах везёт. Увидел, как из среднего вагона по лесенке сошёл на землю могучий лысоватый человек в светлой навыпуск рубахе и широких белых штанах. Будто выросший из-под земли, жандарм отшагнул в тень вагона, вытянулся в струну. Мужичонка глядел-глядел на богатыря, расхаживавшего по платформе, и вдруг сволок с головы соломенный брыль и заголосил в несказанном удивлении:
– Глякося, царь! Тудыт твою растудыт!.. Живой царь!!!
Жандарм ястребом пал на мужика, поволок прочь.
– Подожди! – Государь Александр Третий, а это был он, подозвал мужичонку к себе.
Осаженный тяжкой жандармской дланью чуть не по колено в землю, тот обратился в соляной столб.
– Держи мой портрет на память, – государь протянул ему двадцатипятирублёвую ассигнацию.
…Дым растаял, поезд скрылся из глаз, а «соляной столб» всё стоял. В одной руке брыль, в другой – ассигнация. Сон золотой, но четвертная-то – вот она. Глядит с неё тот самый богатырь, что прогуливался вдоль вагонов. «Чудны дела Твои, Господи».
В стороне, где скрылся в степи царский поезд, прогремел гром. Мужичонка глянул на небо, истово перекрестился: «Нигде ни облачка, а гремит…».
…Паровоз, раскочегарившись, мчал на всех парах. Государь, не переставая улыбаться, прошёл в свой вагон-кабинет, сел на кушетку зелёной кожи, придвинул казённые бумаги. После райской Ливадии, утопавшей в садах, после берега лазурного моря, где царская семья провела всё лето, сухая степь за вагонными окнами дышала жаром и скукой. Под стать пейзажу скучны были и документы. Отчёт о кредитной политике Дворянского банка. Доклад о подготовке к строительству Сибирской железной дороги. Проект указа, запрещающий иностранцам покупать недвижимость в западных областях России.
Пробежав глазами указ, государь начертал на полях: «Согласен, Россия – для русских». Вернулся к бумагам о Сибирской железной дороге. Роль этой ветки, соединившей центр с Дальним Востоком, для России непомерно значима. Мысли переключились на наследника. По предложению министра финансов Витте Ники ещё в ранней юности был назначен Председателем комитета.[14]14
Николай II сохранил за собой звание председателя Сибирского Комитета и после того, как стал императором.
[Закрыть] С недавних пор государь стал ловить себя на том, что оценивает речи и поступки старшего сына как будущего императора. Началось это после известия о покушении на него в годовщину панихиды по убиенному родителю Александру Второму. Вспомнил, как раньше твердил воспитателям сыновей: «Не делайте из них оранжерейных цветов. Мне фарфора не нужно. Подерутся – пожалуйста. Но доносчику – первый кнут…». Слава Богу, наследник вырос «не фарфором».
Скачет на лошади по семьдесят вёрст, метко стреляет, отличный пловец. Знает экономику, юриспруденцию, дипломатию, говорит на четырёх языках, выдержан…
В прекрасном настроении император прошествовал в вагон-столовую, где собрались домочадцы, учителя, доктор. Весёлым взглядом обежал собравшихся. Государыня Мария Феодоровна с дочерьми Ольгой и Ксенией в одинаковых белых платьях, оттенявших морской загар, щебетали с мадам Оллегрен. Миша лезвием столового ножа пускал сёстрам в лицо солнечных зайчиков. Ники, заметив его, задёрнул штору на окне. Помолившись вслед за императором, все стали молча есть. На десерт подали любимые пирожные государя со взбитыми сливками. Он рассказал давешний случай на полустанке, представляя в лицах мужика и жандарма. Дети хохотали. Мария Феодоровна оставалась серьёзной, выказывая нерасположение мужнему легкомыслию.
– Вы, папа, на станциях вечно попадаете в истории, – звонко сказала Ксения.
– Не выдумывай, – остановила её императрица.
– Папа вот так же рассказывал, – покраснев от общего внимания, возвысила голос великая княжна. – На станции он вышел с другой стороны вагона. Никто из охраны не заметил. И, пока курил, поезд тронулся… Но папа по великодушию не наказал ни одного человека. Вот.
– А тогда у костра, когда по грибы ходили? – вспомнил и сразу засмеялся Михаил. – Папа прожёг брюки и потом на ходу прикрывал дыру корзинкой.
Он вылез из-за стола и, прижимая к бедру вазу из-под салфеток, показал, как шёл император.
Теперь хохотали все, даже всегда серьёзная мадам Оллегрен.
– А раз Мишель вылил на голову папа целый рукомойник воды за то, что он окатил его водой из садовничьего шланга. И папа…
В этот момент раздался сильный толчок. Ваза с пирожными вырвалась из рук императора и покатилась по столу, пятная скатерть. Государь потянулся её поймать, но его швырнуло грудью на стол и он вместе с ним заскользил по полу вагона. Ударился локтем и головой, но глаза не зажмурил. Разглядел в куче тел на полу дочерей в неприлично задравшихся платьях. «Наследник! Где Ники?!» – полыхнуло в сознании. Увидел хватавшуюся за стену мадам Оллегрен с раскрытым от ужаса ртом. Мелькнуло и пропало залитое кровью лицо министра двора Фредерикса. Вдруг, будто в страшном сне, потолок вагона стал косо оседать, грозя раздавить барахтавшихся на полу людей. Император упёрся в падающую крышу вытянутыми над головой руками и почувствовал, как от страшной тяжести затрещали кости, будто на него рушилась сама земная твердь. Но он бы скорее сам переломился пополам, чем дал этой тверди задавить детей. От нечеловеческого напряжения в глазах поплыли янтарные светляки, потом сделалось темно. Но он успел разглядеть, как Ники, бледный, с окровавленной щекой, поднимал мать.
– Скорее! Скорее бегите из вагона! – прохрипел император. – Мужество не покинуло его и в эти минуты. Набежавшая охрана рвалась снаружи в пролом, мешая выбраться наружу. Когда они, трое или четверо, упёрлись в крышу, государь уронил руки. Он долго потом не мог выбраться из вагона. Ссадил локоть, порвал на плече рубаху.
– Папа, ты не ранен? – спросил подбежавший к нему наследник. Он был бледен, но внешне спокоен. – У тебя глаза в крови. Держи платок.
– Все целы? – государь утерся, размазывая кровь по щекам.
– Слава Богу! Только Ксения сильно ушиблась, не встаёт.
– Где она?
– Вон там, под насыпью, где ставят палатку. Государь побежал, поскользнулся, съехал по на сыпи вниз. Люди кинулись помочь ему встать.
На разостланном в траве офицерском плаще навзничь лежала старшая дочь. Перед ней стояла на коленях мать, платком вытирала ей слёзы.
– Саша, ты ранен? – испугалась императрица.
– Пустяк, – государь тоже опустился перед дочерью на колени. Поцеловал в щеку.
– Где болит?
– Папа, слава Богу. – Она потянулась к нему, но, ойкнув от боли, зажмурила глаза. – Спина… Я не чувствую ног.
Папа, помоги, мне страшно.
– Потерпи, милая. – Он, правитель самого великого на земле государства, владетель несметных богатств, в чьей власти было объявлять войны, казнить и миловать, не знал, как, хотя бы на маковое зерно, уменьшить сейчас страдания любимой дочери.
– Ваше величество, нужно положить княжну на жёсткую основу, – сказал доктор. У него самого был рассечён лоб, моталась надорванная пола фрака. – Повреждён позвоночник. Надо широкую доску или дверь.
От вздыбленных покорёженных вагонов доносились крики и стоны. Император поднялся с колен и твёрдой походкой направился туда. Наследник, на ходу зализывая проткнутую гвоздём ладонь, последовал за отцом.
10
Волки, порезав в хлеву овец, убегают далеко в степь. Так и наш знакомец Георгий Каров после убийства уфимского генерал-губернатора путал след. Пробыв три дня в Самаре, но так и не встретившись с Марией Спиридоновной, укатил в Москву. Оттуда в Петербург. Он не замечал за собой наружной слежки, но волчье чувство опасности гнало из одного места в другое, понуждало менять квартиры.
…Как-то под вечер в Питере, на Морской, шагая по тротуару, заметил плетущегося за ним шагом извозчика-лихача. Свернул в переулок, лихач – туда же. Тогда Георгий развернулся и пошёл тому навстречу. Извозчик, не отводя глаз, усмехнулся: «Чего, барин, глядите!». Георгий понял, что его вели от Самары, а может, от самой Уфы. На улице смеркалось, он зашёл во двор, перелез через забор и побежал. Петлял по улицам, затаивался в подворотнях.
Накатывало неведомое доселе отчаяние. Его выслеживали и травили как зверя. Все высокие цели и жертвы за поруганный народ вдруг разом поблекли, измельчились. Те люди, ради которых он рисковал жизнью и мог кончить виселицей, были беспросветно глупы, пошлы и беспечны. Они покупали у лоточника пироги, пили-жрали в трактирах. Им и дела не было до него, жертвовавшего жизнью ради их же светлого будущего. Ни в тюрьме, ни на каторге он не был так близок к самоубийству, как в тот вечер. И, если бы не мысли о Маше, не её, полные любви, глаза, глядевшие на него из занесённой снегами Бариновки, он бы точно достал из кармана «бульдог» и застрелился…
Его арестовали на следующий день на явочной встрече в ресторане, когда он, сидя в отдельном кабинете, потягивал из фужера каберне. Бархатная портьера отлетела в сторону, вломились двое городовых и один в штатском. Георгий схватил лежавшую под рукой папиросницу и с криком: «Бомба!» швырнул её им под ноги. Плечом выбил окно и со второго этажа выпрыгнул на тротуар. Здесь его и повязали…
А потом был суд, приговор, ссылка в Тобольск на семь лет.
…В ту осень после подстроенной катастрофы царского поезда у станции Борки государевы «рыбаки»-жандармы вылавливали частым агентурным неводом всех подряд – от народовольческих «ершей», дравшихся с городовыми, до акул, точивших зубы на императора.
Друзья Георгия Карова связались с Марией Спиридоновной. Появился шанс смягчить для него наказание, но все упиралось в деньги.
– …Ты не можешь мне отказать. У него слабые лёгкие. Он погибнет в этом Тобольске. – Мария глядела на отца провалившимися за ночь глазами.
– Собирайся, поедем. – Спиридон Зарубин, от чьего рыка приседали жеребцы и у мужиков сдувало шапки с голов, говорил тихо только в крайней степени растерянности.
Только она – разъединственная любимая дочь могла из него вить верёвки. Но и то не во всякий час.
– Куда, отец?
– В Прохоровку. Там бабка-горбунья хорошо порчу с девок на воск сливает.
– Георгий мне жених!
– Всю жизнь таких пройдох за три версты различал, а тут под носом не учуял. – Зарубин замотал медвежьей башкой. – Опутал девку краснобай проклятый!
– Он не пройдоха. Он… герой. За свои идеалы Георгий готов пойти на плаху!
– Д-у-ра! Разбойник он с большой дороги, убивец. С глаз долой, из сердца вон. Что заслужил, то и получил!
– С его больными лёгкими нельзя в холод. Он там погибнет.
– Что искал, то и нашёл. Тихого Бог наводит, а бойкий сам находит.
– Георгий казнил царского сатрапа за невинно убиенных во время мирной стачки рабочих, стариков, детей. – У Марии Спиридоновны поперёк лба шрамом проступила такая же упрямая складка, как у отца.
– Он был генерал-губернатор, а не этот… сатрап. На клочья человека с каретой разорвали, за это надо не на каторгу, а сразу на виселицу, чтоб другим неповадно было!
– Это ему за расстрел златоусских рабочих. – На лице Марии проступило то самое, уловленное Гришаткой, звериное выражение. – Отец, при твоих-то миллионах и какие-то сто тысяч. А это цена моего счастья.
– Убивцу и сто тыщ?! Гривенника не дам! – взревел-таки Зарубин. Хрусталь люстры переливчато звенел и после того, как стих бешеный топот отъезжавшей пролётки. «Сто тыщ убивцу!.. – Нахлёстывал безвинного жеребца Зарубин. – Курица… Как я его не раскусил. В пору кнутом не жеребца, а себя по бокам охаживать…».
…Самарка в ту осень грозилась встать рано. Вдоль берега скалился белыми зубьями ледовый припой. Плыло ледяное сало. На пристани у амбаров грузили пшеницу. Надо было успеть до ледостава поднять хлеб вверх по Волге хотя бы до Казани. От реки наносило сырым теплом: вода остывала медленнее, чем берега. С верховья плыли редкие осенние крыги, толкались в расшиву. Судно подавалось, мужики с мешками на плече, взбегавшие по сходням, покачивались, случалось, падали в воду. На берегу горел костёр. Стояло ведро с водкой. На досках лежал хлеб, квашеная капуста. Пили, сушились. Тут же на разостланной парусине желтела высыпанная из упавших в воду мешков пшеница. Тучей вились воробьи.
Приказчик, завидев хозяина, спрыгнул с порога амбара, пошатнулся.
– Крыги, Спиридон Иваныч, замучили. То и дело толкают. Все робяты перекупались, кашляют… – говорил, а сам всё воротил бороду на сторону, чтобы не дышать на хозяина перегаром. – Мешок урони ли, сам до трёх разов с головой нырял. Хозяйское добро. Ознобился… Но ни зёрнышка не пропало!..
Всё охватил, всё углядел Спиридон Зарубин острым хозяйским глазом – мокрых полупьяных «робят», рассолодившегося приказчика и целый бурт загубленного зерна.
Плечо было само развернулось въехать приказчику в ухо, чтоб шапка по воде поплыла, но совладал с собой: «Кто ж его опосля слушаться станет…».
– Возьми колёсной мази, под сходнями смажь, чтоб не волочились при тычках вместе с палубой.
– Во-о, Москва ты, Спиридон Иваныч. А мы, дураки, не догадались.
– Ты, Терёха, не сепети, – обрезал Зарубин. – Мокрое зерно продашь тут по общей цене. Кто мешок в воду уронит, гони в шею без всякого расчёта. Остальным по гривенному накинь. Водку убрать. Вечером поставишь. Тебя ещё раз пьяным увижу, выгоню! Завтра проверю к утру, чтоб полностью загрузил. Волга пока не встала.
Сто тыщ ей, как же…
– Сколь, сказали? – посунулся к нему приказчик.
– Я так, про себя!
– А-а-а…
…Когда Зарубин вечером вернулся домой, Мария упала ему в ноги. Подол тёмного платья расплеснулся по паркету.
– Отец, ты добрый, ты не допустишь, чтобы он погиб, – в сумерках Зарубину показалось, будто дочь тянется к нему из чёрной полыньи. Он молча прошёл в кабинет, достал из сейфа тысячу рублей, захлестнул резинкой. Дочь всё так же стояла на коленях.
– Вот, и не полушки больше. – Он бросил пачку денег на пол. Марья ещё ниже угнула голову. И такая в этом движении почудилась обречённость, что Зарубин едва удержался, чтобы не броситься на колени рядом с дочерью.
Но тут же ожгло сердце яростью: «Проклятый, до чего довёл девку! Своими бы руками придавил».
…К ужину Мария не вышла. Рано утром, до завтрака, Спиридон Иванович прошёл в кабинет.
Пачка денег темнела на полу там, где он вчера ее бросил. Нагнулся, пересчитал, спрятал в сейф: «Губа толста, кишка тонка…». Сел за расчёты. Во что обойдётся переработка зерна на муку? Надобно для этого откупать землю и строить паровую мельницу. Но чтобы работала не на дровах, а нефтяных остатках…
Когда вышел к завтраку, увидел: дочь, как и вчера, на коленях, с опущенной головой. «Взялась переупрямить»… Не стал есть, уехал на пристань.
Вернулся к обеду. Поднимаясь по лестнице, подумал: «Стоит, небось… В мать, покойницу, настырная…». Поднялся в кабинет, но дочери не встретил. Посреди стола белел лист бумаги, придавленный бронзовой статуэткой Меркурия. Поднёс к глазам, прочёл, трудно шевеля губами: «Прости, если сможешь. Я заранее согласна с любым твоим наказанием. У каждого своя правда. У тебя своя, у меня своя… Будем считать, я взяла моё приданое… Если я правильно поняла, оставив ключ в сейфе, ты сам предложил мне взять деньги». В лицо с листа будто пламя плеснулось. Утром он эту злосчастную тыщу сунул в сейф и тут его отвлекла горничная. Он кинулся к сейфу. Полка, где лежали пачки денег, – аванс за мельницу – была пуста. «Восемьдесят девять тысяч, третья часть стоимости мельницы, – тяжко ударило в голову. – Остолоп осиновый. Забыть ключ. Ловко ты, Мария Спиридоновна, развернула вариянт…».
– Глафира-а! – заревел он, выпуская на волю раздиравшую душу на части ярость. – Где Марья?!






