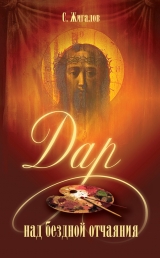
Текст книги "Дар над бездной отчаяния"
Автор книги: Сергей Жигалов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Сергей Жигалов
Дар над бездной отчаяния
Светлой памяти живописца Григория Николаевича Журавлева посвящаю
Допущено к распространению Издательским Советом Русской Православной Церкви (ИС13-310-1794)

Поводырь
Кто согрешил, он или родители его,
что родился слепым?
Иисус отвечал: не согрешил ни он,
ни родители его, но это для того,
чтобы на нем явились дела Божии.
Иоанн Богослов

В Утёвском храме Святой Троицы, стоя перед его иконами, решился я тогда на этот труд. С того момента убогий крестьянин, «обрубок человеческий», «самовар» – и так называли его при жизни – сделался моим сотоварищем. Это он повел меня путями Христовых заповедей. Свет его духовной свечи вырвал из тьмы моего неведения тысячелетние духовные сокровища православной культуры. Открыл величайший на Земле опыт Православной Церкви по бережению и очищению души человеческой, воспитанию сердца милующего – божественный огонь, похищенный в окаянные дни семнадцатого года.
Познакомил с чудом православной иконописи от Рублёва до наших дней. Следом за ним, скромным подвижником земли Самарской, с трепетом душевным входил я мысленно в кельи святых старцев. До слёз сердечных умилялся их подвигу во имя Господне, родниковой чистоте душ, бесстрастной тихой любви ко всем, живущим в мире.
Он подружил меня с ныне здравствующими иконописцами и священниками. Размышления о родниках духовной силы, питавших иконописца, привели меня в лоно Церкви. Помогли прилепиться к краешку ризы Христовой.
В моменты сомнений и отчаяния при работе над романом сама мысль о его терпении и подвиге окормляла и давала силы.
Эпизодами своей биографии Григорий Николаевич «подсказывал» сюжетные ходы, мостил ступени для восхождения к высотам духа.
Он, русский крестьянин, подвигнул меня к изучению и осмыслению величия жертвенного подвига последнего русского государя Николая Второго Александровича, испившего горькую чашу за свой народ. Обелил в моих глазах и поныне распинаемых ложью и ненавистью императрицу Александру Феодоровну Григория Ефимовича Распутина, Анну Александровну Вырубову (монахиню Марию). Потому Григорий Николаевич Журавлев для меня есть большее, чем просто прообраз литературного героя.
Сергей Жигалов

Часть 1
Обрубыш
Человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх.
Книга Иова

1
Высоко в жарком июльском небе ходил великий орёл о двух головах. Растопыренные, будто мужичьи, пальцы, перья на крыльях, подрагивая, ловили восходящие от земли горячие потоки. Рыжевато-серые головы с раскрытыми клювами глядели на стороны. Два жёлтых зрачка одной озирали разлитое в зелёных берегах речное серебро. Другая, не мигая, смотрела на солнце, где в сиянии трепетали стрижи.
Огромная тень летела по белому ковылю, отражалась в зеркалах озёр, заставляя нырять диких утят. Невиданный, будто слетевший с золотого царского герба, орёл ходил над поймой реки Самарки, над крышами села Селезнёвки. До красной русской Голгофы оставалось чуть больше полувека. Для человека – жизнь, для вечности – всего лишь миг. Как страшно не видеть будущего и как милостиво…
Две пары орлиных глаз углядели вдруг зашевелившийся у воды камыш. Птица пала из поднебесья, зависла в ожидании, часто махая крылами. Вывалилась на луговину из зарослей грязная по самые рога телушка, мыкнула освобождённо. Орел взмыл в синь. Живой молнией пролетел над канителившимся у омута стариком с ошалелыми глазами. Упираясь голыми пятками в берег, тот тянул уходившую под воду вожжину, а невидимый водяной зверь на конце её волок рыбаря в Ершову слободу.
И это для орла не добыча: человека не закогтишь и в гнездо не подымешь – зело недрист, вдобавок костист. От гнезда на макушке вековой приречной ветлы ветерок донёс голодный писк орлят. Крики птенцов смешались с человечьими. Сельская ребятня, прослышав, что дед Никиша под Черёмуховым омутом сражается с водяным медведем, помчалась ему на подмогу. Афонька с меньшим братом на закорках приотстал. Глотал пыль, злился. Гришатка подрос, тяжелёхонек сделался, как дубовый кряжок. В сердцах ссадил с плеч наземь:
– Обожди тут, я мигом. Гляди, следом не катись, по шее получишь! Брошенный малый поднялся вдыбки, зашмыгал носом. С крутого косогора, как на ладони, видны строчащие пятками по скошенному лугу удалые сомятники, за ними Афонька в пузырящейся на спине рубахе. Добежали до речки, нырнули в кусты. Подняли крик.
«Тянут, сражаются», – аж сердчишком зашёлся малец. Крепок на слезу в свои пять годков Гришатка, а тут не стерпел:
– Почто, Господи, не сподобил меня ножками, как их вот. На этих культяпках и шаг сделать больно… Слёзы бы утереть, да нечем. Шевелятся под рубахой вроде как жавороньи крылышки заместо рук. Воды напиться – ковшик деревянный за край зубами прикусывать приходится. Дома одному целыми днями сиднем сидеть ух как тягостно. Сколько ни ругалась матушка, научился кататься по земле бревешком. Ложится наземь, переваливается с пузишка на бок, с боку на спину, да ловко так. Ребятня бежит, а он за ними катьма катится. Рубаха вот на плечах только быстро протирается и пыль в глаза лезет.
…А крики из-под берега всё гуще. Не поддаётся сомяка-то. У Демьяна Ушакова один такой весной гусака с перьями заглотил и у баб на мостках бельё прямо из рук рвёт… Все там, на берегу, а он тут, брошенный. Афонька, стервец, забыл про него напрочь. «Может, его сом хвостом оглушил…» Охота прямо по косогору скатиться, но больно уж круто. Тележная колея наискось уходит, огибая широко разползшуюся под кручей болотину. Бьют там, в зыбучей бездонной прорве, ледяные родники. Хавает она ядовито-зелёной пастью кучерявых весенних ягнят, телят, не брезгует и распалённой волками косулей. Раз даже заблудившегося хмельного мужика приняла в свои объятья…
…Из подоблачной выси уцелил орёл на косогоре Гришатку. Человек – не человек, сурок – не сурок. Некрупный, подъёмный. Зашёл от солнца, прячась в золотых лучах, как волк в кустах чилиги, и пал на жертву. Мгновенно выпростал из пуха подбрюшья страшные когти. Волкам-переяркам, молодым косулям ломал двуглавый хребты, впившись одной лапою в круп, другой – в загривок. Он чуял всякую несообразность в зверином мире: барсука с капканом на лапе, слепую косулю, раненого гуся… Тут же в облике человеческого детёныша была какая-то недвижная обрывистость.
Крестовая тень чирканула Гришатку по глазам за миг до удара. Он успел поднять голову на шум крыльев – прямо на него падала страшная двуглавая птица с лаково блестевшими когтями. Ребёнок и голодный орёл ударились взглядами. Память птицы молниеносно скатала в горячий ком страха человечий взгляд, посвист стрелы, рвущую крыло боль и понудила отвернуть от добычи.
Теребнув когтями полынок, орел забил крыльями, выправился. Прямо перед Гришаткиным лицом взметнулись кверху две головы с жёлтыми полосками на кривых клювах. От крыльев в лицо плеснуло горячим вихрем. Гришатка упал животишком в полынок и покатился. Ниже косогор был круче и пресекался у самой прорвы обрывом. Гришатка, сам того не желая, катился всё быстрее. Перед глазами мелькали трава, небо, трава… Остистые султаны ковыля секли лицо, впивались сквозь рубашонку в тело. Были бы ноги-руки, упёрся бы, хватался за стебли, за корни, а так – будто брёвнышко, подпрыгивая на кочках, летел вниз. Еще мгновение, и увечное тельце, прочертив над обрывом дугу, канет в трясину. Чавкнет и сомкнётся зелёная жижа, пузыри разбегутся. Мгновение… Не оно ли отделяет наше земное существование от небытия?
Кто убегает, за тем и гонятся. С гудом канул орел из поднебесья на летящего с обрыва Гришатку. Одной лапой впился в надувшуюся на спине рубашонку, когти другой вонзил в ошкор портков. Горбясь от тяжести добычи, натужно замахал крыльями. В водяных оконцах болотины отражённо мелькнуло гришаткино тело с крыльями по бокам. Ветер обдувал посечённое ковылем лицо. Голова кружилась. Вот только что он больно колотился о землю, а теперь летит. Внизу луг, река. Видел, как задрав головы, машет руками, бежит ребятня. Впереди – Афонька. Кричит, швыряет в орла комья грязи. Странное дело, но Гришатка почему-то не испытывал страха. Его вдруг захлестнула несказанная радость. Будто из ребячьего навылет колотящегося сердчишка выросли могучие, поднявшие его к небу крылья. Без ног, без рук, а выше всех. Испугался он позже, когда услышал треск рвущейся рубахи, и повис головой вниз. Орёл снизился, норовя сесть и перехватиться когтями. Но набегавшая ребятня его испугала. Густой камыш, будто постель, принял вывалившегося из орлиных когтей мальца… Афонька первым подбежал к лежащему в грязи братцу. Плача, обтирал ему личико подолом рубахи:
– Глаза-то не выклевал? Ну-ка, поморгай!
– Видели! Вы видели, как я летел?! – Гришатка вскинул сияющую грязную мордашку. – Выше неба!..
– А спину-то как он тебе расчерябал, – задирая брату рубаху, сокрушался Афонька. – Я тебе ждать велел, а ты?!
«Гля, на горбу кровит», «рубаху когтями издырявил», «когтищи-то как серпы…», – ребятишки обступили Гришатку. Стёпка Леушев с крупной как тыква головой на тонкой шее, заводила всех проказ, почесал ногу об ногу:
– Дерево, на каком гнездо с орлятами, обложить сушняком и поджечь, чтоб упало. Будет знать, как людей таскать!
– Не надо, ребя, он меня подхватил, а то я бы в болотину закатился, – тихо попросил Гришатка. – Сома-то вытянули?
– А то. Как боров жирный. Никиша хотел дубинкой оглушить, а он как хвостом ахнул, так дед кверху кобылкой и перепракинулся, – засмеялся Стёпка. – Айда на бугор, а то нас тут гундяки загрызут. Гля, чья-то мать с палкой бежит, вроде Гришкина…
Крестьянские дети – ловкие и смелые, умеющие белками лазать по деревьям, скакать без сёдел на конях, плавать как рыбы – отхлынули от изваленного в грязи окровавленного Гришатки в камыш, от греха подальше.
…Арина месила тесто, когда в избу забежала свояченица Антонина. Платок в горсти, глаза навыкат:
– Гришатку твово орёл унёс!..
– Какой орёл, чо буровишь? – охнула Арина.
– В пойме дед Никиша видал. Подхватил, говорит, и в гнездо понёс.
Не помня себя, Арина выбежала за ворота – босая, руки в тесте. Кинулась через огороды в пойму. Платок с головы сбился, в руке полощется. Увидь она в орлиных когтях своего обрубышка желанного, свечечку ясную, сама бы, наверное, в небо взлетела, догнала бы, отбила. Но до самого горизонта ни пятнышка. Обрывается материнское сердце, летит в пустое небо, как в пропасть. Взбежала на бугор – распахнулась глазам пойма. Ребятня белоголовая в камышах. Афонька там, а Гришатки у него на спине не видать. «Унёс! Знать бы, гнездо где…»
Когда подбежала близко, увидала своего обрубышка в вытоптанной осоке, схватила на руки. Стала целовать, опаляя порывистым дыханием грязное ясноглазое личико. Гладила по вздрагивающим плечам, пятнала тестом. Ребятишки, уже подступившие ближе, тупились взглядами в землю…
Афоня, понурив голову, ловил пальцами ноги зелёную травинку.
2
…Третьи кочета прокричали. Вся нечисть по тёмным уремам да кручам попряталась. Гулёные девки и парни позасыпали на сеновалах – руки вразброс. Один Никифор Журавин до рассвета ворочался. Лезло в голову страшное:
«…А в гнездо бы унёс? Расклевали, или с высоты страшучей разбили бы до смерти кровиночку убогую… Мало этому стервецу двухголовому уток, кур, зверья мелкого… Казахи, какие охотничьих беркутов держат, говорят, если орёл хоть раз собаку утащит, то детей непременно красть станет. Убивать такого надо без жалости…». Представлял, ворочался, разгоралось сердце злобой. Хоть посередь ночи вскакивай с полатей и беги туда, к приречным вётлам… И пусть дерева в три обхвата. За Гришатку бы своего ствол древесный зубами, как бобёр, перегрыз, чтобы ветла с орлиным гнездом оземь грянулась… До ломоты стискивал челюсти Никифор и сам пугался разгоравшейся в нём ярости. Какой тут сон… Пришла вдруг на память ночь, когда Арина рожала. Он на тот час по двору кружил. До пяти разов в снег на колени падал без шапки, молился истово, чтобы не померла родами. Ночь лунная, мороз. Снег под лаптями хрустит.
Студёно, мертво. Месяц ясный полнеба прошёл, пока повитуха, бабка Кондылиха, из банной двери в клубах пара вывалилась. Кинулся к ней в ознобе:
– Сын?
– Сын-то, сын… – шамкнула из парного облака старуха и ещё что-то промузюкала. Но Никифор услышал то, что сильнее всего на свете хотел услышать.
– Сын родился! – сдёрнул с головы шапку, подбросил к колючим звёздам. – Сы-ы-ын!
А Кондылиха, клюка горбатая, за рукав дёргает:
– Сподобил Господь, убогонький младенец-то. Ручек-ножек у души ангельской совсем нетути.
Отпихнул повитуху дерзко. Кинулся в баню. Ударило по глазам распластанное на соломе голое тело Арины. Визг её выбил Никифора наружу. От удара о низкую притолоку в голове колокол загудел: «Нетути, нетути…». На холоде опамятовался, пощупал шишку на затылке, перекрестился: «На всё воля Божья». Поднял валявшуюся на снегу у плетня шапку: «Как же ему без рук, без ног жить – мучиться? Чай приберёт Господь…».
…Первые полгода Никифор к люльке не подходил, стеснялся. На Арину серчал. Корова в хлеву мычит недоеная, тесто из дёжи через край на лавку, с лавки на пол лезет, а она всё с Гришаткой воркует, оторваться не в силах. Но со временем и сам к нему сердцем прикипел. Афоня тоже в младшеньком братце души не чаял. Кошка Пеструшка и та с печи к Гришатке в люльку спать ушла. Арина и тряпкой её стегала, и на мороз выкидывала… Глядь, наутро Пеструшка опять в люльке. В уголке клубочком свернётся и песни мурлычит. Замечал Никифор: на дворе хмарь, дождь, сивер. Все ходят унылые, ознобленные. А Гришатка в зыбке заагукает, разулыбается – по избе будто светозарная зыбь расходится, колокольцы радостные звенят. И все домашние стараются друг для дружки. Данила-богомаз тоже успорял, будто когда Гришатка агукает, у него лики на иконах светлее получаются…
Незаметно мысли свернули на Данилу. Господь его им послал. Гришатка, когда подрос, мог часами неотрывно глядеть, как тот иконы пишет. Позовёшь, а он не откликается. Как завороженный стоит около стола, глазом не сморгнёт. Губёшки сухие облизывает, будто жажда донимает. А поить станешь, уклоняется…
«Нет случайностей в мире Бога»… Ворочался в постели Никифор, вспоминал, как Данила появился…
…Лет семь назад, в самые крещенские морозы, – воробьи налету падали, – постучался в их избу странник. Обогреться. На горбу берестяной короб, вроде как с товарцем. А видом на коробейника не похож. Скуфеечка на нём монашья. Невысоконький сам по себе, не сказать, что старый. В чертах лица тонок, головою лыс, глаза запавшие, но ясные, ласковые. Когда странник рукавицы снял, Никифор ахнул – пальцы все сине-красно-зелёные. Говорит не густо. Часто «печать на уста кладёт». Но в разговоре каждое слово перед собеседником, будто яблоко на стол, выкладывает: «хочешь – слушай, хочешь – скушай». Оказался Данила богомазом, а в коробе у него лежали краски да образцы на листах, с коих он иконы на досточки перерисовывал.
Так и прижился Данила у Журавиных. За лето в четыре руки сложили они саманный пристрой к избе с двумя ходами: один в избу, другой наружу. Окна на солнечную сторону вывели. Потолок из плах осиновых накатали, крышу камышом покрыли. Данила сам печку с большой лежанкой сложил. Полати из досок сколотил, два стола, верстак столярный, лавки. И получилась у них к осени мастерская – и работай, и прямо тут живи. Данила на липовых и ольховых досочках писал растертыми в ступке каменными красками краснушки[1]1
Разновидность народной иконы. Написанные местными умельцами краснушки получали благословление церкви. Имели красно-коричневый колорит, оттого так и назывались.
[Закрыть] – иконы «Иисуса Христа с предстоящими», «Богоматерь скоропослушницу», «Спасителя», святых угодников. Иконки выходили светлые, взору радостные. Никифор наловчился к ним кузнь – оклады из медной и серебряной фольги – ковать. Кто побогаче, заказывали иконы в окладах, крестьяне же покупали «дощечки», убирали их в льняные пелены, устанавливали в святом углу на божнице. И так они с Данилой на этом деле поднялись, что Никифор от земли отошёл и стал свой надел сдавать внаём.
До денег Данила совсем оказался простец. Последнюю копейку встречному-поперечному отдаст. Молился на образа подолгу, истово, будто душой отлетал в мир горний. И лик у него высветлялся так, что Никифор и Арина глядеть на него в такие часы стеснялись. В еде был прост, горбушку хлеба сольцей посыпет, кружку воды зачерпнёт – и весь обед. Но, как ни прост был постоялец, Никифор сразу почуял, что «это птица высокого лёта и не нам чета…»
Сельский почтарь, мужичонка пустой, но занозистый, раза два-три в год приносил Даниле письма в жёстких орлёных конвертах и вручал с низким поклоном. В такие дни Данила ложился на полати лицом к стенке и подолгу лежал недвижимо или пропадал из дома. Люди видели его в дальнем лесу. Сидел на пенёчке, обхватив голову руками. Возвращался иной раз на рассвете, мокрый от росы. Вздувал лампадку, молился. Наводил краски и, острожев лицом, дотемна писал всякий раз чудотворный образ Божьей матери «Неупиваемая чаша» – с изображением Богомладенца в чаше, стоящего на престоле.
«Грех какой-то его мучит», – жалела Арина. «Духовную власеницу на себя человече воздел», – вторил ей селезнёвский священник отец Василий.
С Гришаткой Данила тоже был немногословен, вроде как даже холодноват, но парнишка льнул к нему. Часами неотрывно глядел, как тот левкасил доски, писал образы, крыл олифой. Никифор, ревнуя, остужался на постояльца сердцем и оттого, каясь в душе, был внешне чересчур мягок, боялся брякнуть лишнее.
С некоторых пор стал замечать, – губы у Гришатки чернеть стали. В обед из-за стола вылезает – губы, как губы. А к вечеру опять чёрные. Он к жене, уж не болезнь ли какая напала. Арина рукой махала: «Господь с тобой. Малюет наш обрубышек». – «Как так, чем?» – «А ты приглядись». И правда: забьётся малыш в угол, дощечку оструганную приспособит, уголёк зажмёт зубами и возит. Только головёнка туда-сюда колышется. На Никифора по-первам робость напала. Невесть отчего боялся глядеть. Но как-то вечером Гришатка уснул, насмелился, достал спрятанные дощечки из-печи. На одной окно и кошка нарисованы, на другой – изба. Из трубы дым завитушками. Да так всё явственно, и рукой не нарисуешь. Он сказал Даниле, богомаз не удивился. Оказывается, он давно Гришатку к этому делу подвигал. «С Божьей помощью малый, глядишь, иконы нерукотворные писать зубами станет». С того дня Никифору будто из тьмы луч светлый на душу пал. Ну как и взаправду приделе малый очутится? А тут на тебе – этот орёл налетел. «…Унёс бы в гнездо, расклевали бы, косточки белые на землю побросали…» И опять загоралось сердце, колотило в рёбра, будто лететь за гришаткиным обидчиком просилось…
…Рассвело уж, когда Никифор задремал. Поднялся обессиленный, тело ломит. Будто всю ночь черти воза с горохом на нём возили да тот горох на спине молотили.
– Уж не захворал ли, Никиш? – обеспокоилась Арина. – Всю ночь ворочался…
– С чего ты взяла? – глянул в осколок зеркала, вмазанный в печь, подивился: «Эко злостью рожу-то за ночь скомкало. Орёл этот на грех навёл, окаянный. Теперь повадится…».
…Вечером того же дня Никифор запряг в телегу мерина. Бросил для отвода глаз косу и поехал в пойму. Как сказал учитель Подорожников, у которого он выпросил одностволку и три патрона, «осуществлять возмездие». Лошадь с телегой оставил в кустах поодаль. Раза три обошёл вокруг вздымавшейся над берегом необхватной ветлы с орлиным гнездом. Под ногами хрустели кости, скалились из травы зверушечьи черепа с дырьями глазниц. Сквозь листву виднелась вверху огромная лепёха гнезда. Сыпался оттуда пронзительный клёкот птенцов.
Мелкими колючками впивался в сердце: «…Чем они виноваты, коль Господь создал их хищниками…». Но вспоминалось исцарапанное Гришаткино личико, рубец на спине от орлиных когтей и жалость улетучивалась. Стрелять с земли сквозь ветви было несподручно. Никифор облюбовал жилистый густой вяз напротив ветлы. Влез на самую макушку. Разглядел тёмных, уже в пере, двух крупных орлят. Они взбирались на самый край гнезда и мощно махали крыльями. У каждого по одной голове. Опять шевельнулась жалость, но отвёл глаза и больше туда не глядел. Укрепился в развилке ветвей, ружьё повесил на сухой сук и стал ждать.
Под шум листвы унёсся мыслями домой: «Арине сказал, что поехал сена корове накосить… Всех ей жалко. Когда по осени свинью режут, в дом убегает, подушку на голову кладёт, чтобы визг не слышать. Похоже, и Гришатка сердцем мягкий в мать…». Вздрогнул, сбился с мыслей. На ветку – рукой дотянуться – сел кукушонок, взъерошенный, лупоглазый. Таращился на Никифора, моргал. И тут накатился шум. На край гнезда, раскрылатившись, села пугающе огромная птица. Из листвы Никифор отчётливо видел две головы. Одна была, как у всех птиц, между плеч, вторая, поменьше, росла от основания шеи. В когтях орла обвисал, мягко светился в лучах заходящего солнца рыжеватый зверёк. Птенцы кинулись к добыче. Пронзительные крики оборвались. Полетели клочья меха. Двуглавый сидел на краю боком к Никифору. «Так бы они и Гришатку терзали…» – кривясь от ломоты в затекших ногах, Никифор поднял ружьё. Кукушонок сорвался с ветки. После выстрела орёл закрутил головами. «Выше взял», – понял Никифор. Переломил ружье. Подрагивающими пальцами вытащил медную гильзу. Остро пахнуло горелым порохом.
Второй выстрел сорвал орла с гнезда. Кособоко, почти падая, он полетел на луг. Распластав крылья, кувыркнулся в осоку и скрылся в ней, как в воде. Птенцы рвали добычу. Никифор слез с вяза, хромая, добежал до лошади, погнал туда, где упал хищник. На дереве обдувало ветерком, здесь же, в низине, столбами вилось комарьё. Никифор, враз обессилевший, мокрый от пота, лазил по густой, выше пояса, траве. То и дело оглядывался, будто творил что-то нехорошее, воровское. Он и сам не знал, зачем так упорно ищет подбитую птицу. И, когда за спиной вдруг раздался клёкот, померещилось, будто из осоки тянет к нему здоровенная змея. Резво отпрянул. Перекрестился, с силой тыча троеперстием в потный лоб. Два царя таращились друг на друга. Один, волею провидения или игрой природы повторивший российский герб.
Другой, венец природы, – потный, босой, с вскосмаченными волосами, полный страха и оттого злобный.
– У, тварь, мало тебе еды кругом. На дитё кинулся, – нарочно яря себя, крикнул Никифор. Замахнулся.
Орёл, подминая траву, распростёр одно крыло, заклекотал, повалился набок. Обращённые к Никифору глаза палили палача жёлтым пламенем.
– Не шеперься больно-то! Не шеперься, – теряя в душе задор при виде бессильного противни ка, шептал Никифор. – Возьму щас косу, одним махом бошки-то снесу!.. Вознёсся, думал, слому тебе не будет о двух головах, – с дрожью в голосе про должал причитать Никифор. – Зачем. Гришатку хотел загрызть, нечисть!?
Орёл, подтянув живое крыло за спину, выправился и сидел с полураскрытыми клювами, будто слушал.
– Разинул хлебала-то. Горит рана-то – пить охота, – чуя, как у самого пересохло во рту, остывал сердцем Никифор. Видел, как глаза у орла то и дело подёргиваются белесой плёнкой. Он зашёл к птице с хвоста и накинул ему сверху на головы рогожу, обхватил за крылья. Край завернулся под брюхо. В мгновение страшные кривые когти пронзили рогожку насквозь. Путаясь в осоке, облитый потом, с тяжёлой раненой птицей в руках, Никифор кое-как добрёл до лошади. Обмотал рогожу на головах бечевою, посадил орла в задок телеги. Пару навильней сена натрусил в телегу от чужих глаз.
…Дома он понёс раненую добычу на погребку. Из раскрытого погреба веяло холодком. На дне ещё лежал лёд. Никифор налил в плошку воды, поставил перед двуглавым:
– Пей, окаянный.
«Не трогал бы дитя и я бы тебе ничего не сделал», – злость сменялась чувством вины. Накинул на дверь погребки цепочку, заглянул в мастерскую. Данила клонился над иконой, писал доличное[2]2
Доличное – значит до лица, то есть писал фигуру, одежду.
[Закрыть]. Солнечный блик, отражённый от лысины, ползал по потолку. С бережением положил кисточку на подставку, разогнулся тяжко:
– Никиш, досточки заканчиваются. Пока при везёшь, пока высушим…
Никифор хотел было рассказать ему про орла. Но ни с того ни с сего засуетился. Полез на божницу за деньгами.
– Щас к леснику смотаюсь. Уговор был, что он нам сухие доски приготовит.
– Ты не захворал часом? Данила прохладной ладонью потрогал ему лоб. – Жару вроде нет, а с лица красный, как из бани.
– На солнышке спекся, – Никифор заморгал повлажневшими вдруг глазами, вышел. Скрипнули ворота, загремела телега.
…Уже по-тёмному Арина подоила корову. Отлила парного молока детям на ужин. Остатки понесла в погреб на снег, чтобы за ночь не скислось. Увидела запертую на цепку дверь погребки, подивилась. Сколько ни пеняла, никогда Никифор не закрывал, а тут ещё и колышком заложил. Открытый погреб удивил ещё сильнее. С бережением, привыкая глазами к темноте, нащупала ногами лестницу, спустилась в створ погреба по пояс. Вскинула голову и… обомлела.
В сажени[3]3
Сажень – 217 см.
[Закрыть] от её лица жгли темень живые жёлтые угли. Корчага с молоком, вывалившись из рук, простучала по лестнице, шмякнулась на снег. Арина полымем выметнулась наружу: «Господи, с нами сила крестная!». Оглядываясь, не гонится ли кто за ней, выбежала за ворота на людские голоса. На завалинке соседки лузгали семечки, хохотали…
Скоро во дворе у Журавиных поглядеть на нечистую силу в погребке собралась целая толпа. Арина уже раз в десятый рассказывала, как кто-то разбросал гуни[4]4
Старые рваные вещи.
[Закрыть] по погребке и открыл погреб. А когда она стала спускаться, должно быть, черти подкрались сзади. Не оглянись она, запечатали бы её в погребе или хуже чего учудили…
– Защелоктали бы до смерти, – пьяненький дед Никиша схватил под мышки стоявшую к нему спиной солдатку Феньку-одноночку.
– Отчепись, смола. Сомятины пожалел, – оттолкнула его Фенька. – Дурак старый, это русалки щелоктют, а черти на грешниках воду возят. Сомятину-то пропил, пожадовал, а лезешь. Куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй!
Бабке вот скажу! «Хаханьки им все… Не к добру это. Водой святой бы окропить». «Дверь отворишь, он тя хвостом за шею и обовьёт…». «Ну-у?» – «Дуги гну» – пересмеивались, храбрились, но открыть дверь на погребку никто не осмеливался. Данила стоял в стороне, у крыльца, не вмешивался. Тем часом во всю ширь распахнулись ворота и во двор шагнул Филяка Ямкин, огромный цыганистый мужчина, коновал и скотский лекарь. Больше всего на свете он любил скотину и вино. Молчун до первого стакана. Будто он в него нырял, а выныривал другим человеком. После такого «нырка» на пару с дедом Никишей и сюда заявился. Потребовал у Арины топор.
– Щас я чертей ваших выхолощу. Господь мне за это хоть один грех скостит!
Пинком распахнул дверь в погребку. Из темени пыхнули навстречу четыре жёлтых глаза. Народ отхлынул, загалдел.
– Гля, двое их там. Друг к дружке жмутся. Глазищами-то, глазищами сожрать готовы. За отцом Василием бы послать!
– Ходили. Он смеётся. Померещилось, говорит, вам.
– Какой тут смех, вон она, сила нечистая.
Филяка попятился, держа топор наготове, понизил голос.
– Ишь, заробел Еруслан-богатырь, – будто толкнул в спину задорный голос из толпы. Он шагнул одной ногою через высокий порог, замахнулся топором. Миг – и срубленные головы царя птиц, зевая клювами и кровеня погребку, попадают наземь. Раздвинутся могучие крыла, задрожат предсмертной дрожью… Но ни один волос с головы человечьей, ни одно перо с птицы не упадёт без воли Божьей. На взмахе зацепился топор за притолоку. Оскользь срикошетил по темечку хмельному Филяке. Оглушённый, тот выронил топор, сел наземь, обхватив голову руками. Оробелая толпа ахнула и отхлынула к воротам.
– Как его шибануло…
– Никто его не шибал. Нечистый морок на него навёл, вот рука и оборвалась…»
– С крестом надо, а он – с топором… Погоди, вон, отец Василий идёт, щас он его…
Народ раздался на стороны. Отец Василий, сухонький, лёгкий, в седенькой бороде, развевая полы своей старой – и в пир, и в мир, – рясы, вошел во двор. Обежал толпившихся ласково сощуренными глазами. Широким, висевшим на шее медным крестом осенил православных, подошёл к Филяке. Покривился от густого самогонного духа:
– С кем опять брань затеял, аника-воин?
– Как он, батюшка, меня оховачил, аж искры из глаз посыпались, – замотал башкой Филяка. – Моим же топором чуть до смерти не убил. Чертячий пасынок!
Куда ж ты, неразумный, без Божьего слова, – отец Василий, будто маленького, погладил Филяку по косматому, как у дикого кабана, загривку. Спьяну, небось, погластилось тебе?
Оглядел своих прихожан. Лёгкое бесстрашие сельского пастыря и его несокрушимая вера в силу Креста Господнего передалась и им. Все приободрились, загомонили.
…Что для отца Василия какие-то чертенята на погребке? Во тьму, «где стоны и скрежет зубов», на брань с самим сатаной и всей его несметной ратью вот так же шагнул бы он с животворящим Крестом Господним в руке. На подходе к погребке навстречу ему из-за угла мастерской выступил Гришатка в домотканой, длинной, до щиколоток, рубахе. В зубах он держал белевшую в сумраке дощечку. Гришаткино лицо будто светилось в темноте. Отец Василий склонился над ним, что-то тихо сказал и взял дощечку.
– Как подхватил, как понёс, выше тополей, – запрокидывая к крёстному переставшее светиться лицо, хвалился Гришатка.
– Боязно было? – спросил отец Василий. Кто-то из прихожан уже рассказал ему, как мальца унёс орёл. – Что намалевал-то, не разгляжу?
– Эх, ты. Поверни. Да не так, повдоль. Отец Василий присел на корточки. Теперь их головы сделались почти вровень. Толпа придвинулась. Люди тянулись разглядеть, чего там намалевал убогий Журавлёнок.
– Во, вишь, головы, а это – крыла, – важно растолковывал Гришатка. – Для когтей места не хватило. Знаешь, какие когтищи. Всю рубаху мне подрал и спину расчерябал до крови.
– Во, теперь вижу. Неужто сам нарисовал?
– Сам, зубами уголёк прикусил, – закивал Гришатка. – У дяди Данилы дощечку без спросу взял и срисовал по памяти.
Дощечку с рисунком передавали из рук в руки, подносили к глазам. Крутили и так, и эдак: «Это змей Горыныч из сказки?» – «Орёл, дура!» – «А две головы на что?» – «Так орёл-то о двух головах, в вётлах гнездо…» – «Правда, что ль? Дай сюда»… «Рук Господь не дал, а талантом наградил…». Оглушённый, всеми брошенный Филяка сидел на земле, часто, с сапом, дышал, скрипел зубами. Скисшей брагой пёрла из него пьяная злоба.
– Как он меня оховачил, батюшка, – Филяка по-пёсьи задрал физиономию в пьяных слезах. – Всё одно, казню, – вздыбился он с поднятым топором.
Отец Василий проворно загородил дорогу:
– Охолунь, чадо. Зло злом не истребишь.
– Не замай, поп! – тень от Филяки на белёной стене погребки задрожала, преломилась в поясе. – Они мне башку проломили. Порешу!
Мужики обступили дерзеца, но перечить не решались. Все хорошо помнили, как однажды во хмелю Филяка обозлился на свой распухший от занозы палец, положил руку на чурбак и отсёк его. Теперь, видя испуг окружающих, он ещё пуще ярился на отца Василия:






