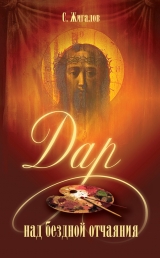
Текст книги "Дар над бездной отчаяния"
Автор книги: Сергей Жигалов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Уговорил Афоньку бросить все дела и отлевкасить для него небольшую, в четыре мужских ладони, досточку, налепить на неё поволоку.[8]8
Поволока – ткань, наклеиваемая на иконную доску перед наложением левкаса для лучшего его сцепления с поверхностью доски.
[Закрыть] Торопил:
– К пресвятой Пасхе хочу успеть.
– Эко тебя надрало, – бурчал Афоня. – Сидел, сидел…
– Ковшик донести надо, – непонятно отвечал Гриша.
– Ковшик вон на гвозде, напиться подать?
– Да нет же. Не мне надобно.
– Самовольник, ты, Гришан. Вынь тебе и положь. Как на грех мел кончился. Где брать?
– На погребке. Хочешь, принесу?
– Ладно уж, сиди, ходок.
– Прости меня, Афанасий.
– Эт ты меня прости. Кого писать собрался?
– Спасителя.
– Христа Вседержителя?
– Спаса Нерукотворного.
– Нерукотворного? – удивился Афоня. – Безрукий – Нерукотворного… Ему руки не рисуют?
– Да нет, – засмеялся Гриша. – Разве не при тебе Данила сказывал, как Нерукотворный образ Его возник?
– Нет, – остановился на пороге мастерской Афоня, вернулся. – Расскажи…
– В древности поодаль от Палестины было такое государство – Озроэна. Правил там царь Авгарь пятый Чёрный, – с охотой после долгого молчания заговорил Григорий. – Прозвали его чёрным из-за болезни. Был он весь в язвах и струпьях от «чёрной» проказы. И никто в мире не мог излечить её. Царь, прослышав про чудесные исцеления Спасителя, послал к Нему в Палестину придворного живописца Ананию просить исцелить его. Христос отказался ехать в Озроэну. Анания пытался рисовать Спасителя, но у него ничего не вышло. Заметив это, Христос попросил чистый плат. Омыл лицо, отёрся им и отдал плат Ананию. На ткани отпечатался Божественный лик Спасителя. Этот плат исцелил царя Авгаря от чёрной проказы. Тот принял христианство, и все его подданные стали христианами. Плат этот с ликом Спасителя называется Убрусом.
Афоня долго разглядывал икону Спаса Нерукотворного на странице иконописного подлинника:
– Вишь, сверху узлы. Понизу кайма, как на рушнике, – заметил он. – А у тебя все иконы получа ются нерукотворные. Ой, Зойка мычит, побегу корму ей задам. Тогда уж и досточку тебе подготовлю.
…На отлевкасенной поверхности Гриша сперва процарапал графьёй черты лика, потом взялся за доличное письмо. До самых сумерек писал, почти не отрываясь. Забегал в мастерскую Афонька, морозный, румяный, в заиневевшей шапке. Нависал над юным изографом, обдавая холодом. С шапки сыпалась на иконную доску мякина.
– Эко ты мусоришь. К сырой краске прилип нет, – не выпуская изо рта кисть, дребезжал недовольно Гришатка, сдувал мякину. – Иди с Богом, не стой над душой.
Заглядывала в мастерскую Арина, звала обедать. Он не откликался. Под вечер зашёл и вернувшийся из Бариновки Никифор. Долго глядел, как сын, колеблясь головой, кладёт мазки кистью. В густеющих сумерках по его лицу, будто взмахи невидимых крыльев, скользили отсветы от белой поверхности иконы. Не обронив ни слова, Никифор вышел на крыльцо, смахнул набежавшую слезу, перекрестился.
Все дни, пока Григорий писал икону, в доме тихий ангел царил. Родным передалось его состояние неизречённой благости и сопричастности к святому делу. На размычавшуюся во дворе тёлку Афоня замахнулся рукавицей: «Тише ты, дурёха, Гришан икону нерукотворную пишет!..». А тот, казалось, забыл, кто он и где находится, – в мастерской или посреди увиденной во сне пыльной дороги с каплями крови на камнях…
Изредка, положив кисть на край стола, Гриша подходил к ушату с водой, подолгу глядел на выщербленный деревянный ковшик. Наклонялся, пил. Радужной плёнкой расплывалась с потрескавшихся губ краска. К вечеру в ушате уже играла семицветная радуга. Афонька сунулся попить, оторопел: «Неужто с губ столь могло натечь?..».
Гриша писал, не отклоняясь от иконописного подлинника, очертания лика, глаза, брови. Работал, пока в мастерской не становилось темно. Обессиленный, ложился на лавку. Мать звала ночевать в избу, отнекивался. Не мог он словами объяснить, что недописанная икона не отпускала его. Стоило заснуть, как чёрный всадник вставал поперёк каменистой дороги: грозил, просил, улещивал…
«Ты расплескал воду, – кричал, – чем утолишь Его жажду?» Гриша плакал во сне от любви и отчаяния, и полнил ковшик слезами… Утром придвигался к столу, помолясь, брал в зубы кисть. От боли в губах наворачивались слёзы, но сердцем радовался…
В трудах и не заметил, как приспела весна.
Растеплилось, поехал с крыши снег, заорали по ночам коты. Тесовые ворота намокли, сделались чёрными.
…На Пасху к Всенощной братья собрались ближе к полуночи. Гриша попросил Афоню взять с собой ещё влажную икону Спасителя.
Когда вышли из дома, тёплая вешняя ночь объяла со всех сторон. В луже посреди двора горели звёзды. Ступишь за край и улетишь к созвездию Большой Медведицы и Гончих Псов.
– Тележка в грязи завязнет. Давай на плечах донесу, – предложил Афонька. По улице к церкви рекой текли белеющие над грязной, не просохшей дорогой бабьи платки. В церкви народу битком. Молодёжь толпилась в притворе. Распахивалась дверь, трепетали свечи. Лица у всех чистые, по-детски радостные. В трёх щёлоках мытые и всё равно тёмные крестьянские руки дружным лесом вскидываются в крестном знамении. Во время крестного хода вокруг церкви Гриша восседал на плечах у брата. Сзади и спереди колыхались дрожливые огоньки свечей, выхватывали из темени знакомые лица.
– Христос Воскресе! – звонко и по детски радостно восклицал отец Василий.
– Воистину Воскресе! – слитно гудело в ответ.
Вешний рассвет закатывался в окна, бледнело пламя свечей и лампадок. Народ после пасхальной службы растекался по домам. У многих в руках узелки с освящёнными куличами.
– Гриш, – Афоня, рослый, румяный, в васильковой рубахе с пояском, нагнулся над братом. – Айда разговляться. Есть страсть как охота.
– Куда иконку дел?
– На клирос положил. Принесть? Гриша притулился к стене и умиленно глядел, как отец Василий христосовался с мужиками.
Первые лучи солнца через оконца в куполе светлыми полосами легли на пол церкви, проступили голубенькие облачка ладанного дымка. Отец Василий благословляет стариков, и гластится Гришатке, будто за спиной крёстного взмётываются текучие синеватые крылья. Подлетел тот и к нему, облобызал троекратно – радостный, лёгкий, с запавшими от поста глазами.
– А я тебе, Гриша, гостинчик припас.
– Я тебе тоже. – Григорий зубами взял из рук Афони завернутую в чистый плат икону. – Вот, прими.
– Ну-ка, ну-ка, – отец Василий опустился на колени, развернул плат, осерьёзнел лицом. С иконки ясно, с неизречённым терпением и любовью глядел Спаситель.
– Как ты уважил меня, грешного, чадо моё милое, – отёр покатившиеся из глаз слезинки отец Василий, приложился к иконке. – Промысел Божий. Нерукотворного Спаса изобразил нерукотворно. Солнечный луч лёг на свежие краски, икона засияла. Привлечённые чудным светом, люди обступили отца Василия, заслонив его своими спинами от Григория.
5
Кто видел след орла в небе и дорогу рыбы в воде? Неисповедимы и пути Господние. Попущением Божьим движутся по жизни крестьянский сын Гришатка Журавин в веригах своего убожества и наследник Российского престола цесаревич Николай в лучах обожания, блеска и славы.
…Праздничная Пасхальная неделя. После скорбной тишины Страстной недели во дворец нахлынул праздник. Разговенье, смех, подарки. Цесаревич вместе с родными веселился до упаду.
И вдруг посреди этого благостного веселья… глухой пистолетный выстрел.
Государь зашёл в дежурное помещение. Куривший там офицер при виде императора спрятал руку с папиросой за спину. Нервы государя, в ожидании нового покушения, не выдержали и он, подумав, что тот держит за спиной револьвер, в упор выстрелил. Каков же был его ужас, когда из руки убитого выпала дымящаяся папироска… Государь удалился в покои и никого не желал видеть.
Узнав о трагедии, цесаревич нудился душой. Брат Михаил, стараясь развеять его, шутил, звал гулять. Для него это был просто безликий гвардеец, для Ники же – предупредительный добрый юноша, с которым он познакомился за час до трагедии.
Утром, идя на прогулку, Николай спохватился, что оставил папиросницу на столике. «Не угостишь ли, братец, папиросой? – спросил он вытянувшегося перед ним в струну того самого офицера». «Сейчас, ваше высочество, – залился румянцем гвардеец. Вынул чёрной кожи портсигар. – Хоть все возьмите, ваше высочество, господин полковник!..»
Ошарашенный счастьем оказать услугу самому наследнику престола, он бы в старости рассказывал этот случай внукам. А тут этот нелепый страшный выстрел. Одно мгновение, кусочек свинца – и счастливый, налитый вешней горячей силой юноша уснул вечным сном.
В спальне наследник опустился на колени перед иконой Николая Угодника. Долго истово молился, прося помиловать раба Божьего Александра, простить ему тяжкий грех и упокоить душу грешную убиенного раба Божьего Прохора…
Он долго не мог заснуть. В памяти все являлся тот гвардеец, улыбался виноватой ребячьей улыбкой. Цесаревич натягивал на голову одеяло, укрываясь от видения: «Отец его, мать и не догадываются, что сын их лежит в гробу… Господи, а каково же папа чувствовать себя убийцей. Зачем он вошёл в эту дежурную комнату? Почему решил, что несчастный держит за спиной руку с пистолетом?.. Товарищам по службе, родителям доведут это как несчастный случай неосторожного обращения с оружием. А папа? Всю жизнь нести крест убийцы…».
Пронзённый жалостью, он опять вставал перед иконами и молился, слёзы текли по щекам, но он их не чувствовал: «Деда убили. На самого покушались. Со страха он выстрелил… Господи, Ты всё видишь, всё знаешь. Не наказывай его, грешного. Помилуй Своею благодатью раба Твоего Александра, Господи…».
…Из голого чёрного сада тянуло в приоткрытое окно холодом. Озябнув, он закутывался с головой в одеяло, угревался, пытаясь спрятаться от мучительных мыслей в сон. Но не подвластна воле память…
…Вот они с мама возвращаются с катка. Он, Михаил, Ксения. Мама несёт в руках его коньки. У входа во дворец толпа людей, все суетятся, кричат. Белая мраморная лестница залита кровью. Любимый пёс деда, шоколадный сеттер Милорд, ползёт по кровавым ступеням на передних лапах, волоча зад. Стонет по-человечьи. Он учуял смерть хозяина и у него отнялись задние лапы. Мама бледнеет лицом, коньки звякают о пол. Они бегут в покои. Там вокруг растерзанного взрывом императора суетятся перепачканные царской кровью доктора. С лицом белее мела в покои вбегает княжна Юрьевская, падает на колени, целует окровавленные руки императора: «За что они тебя?».
На месте взрыва осталось семнадцать убитых и раненых…
Александр Второй своею волею освободил от крепостного права тридцать миллионов крестьян… Составил проект конституционного преобразования России… Ясный ум наследника престола, будто раскрутившийся маховик, не может остановиться.
«Почему они так стремились убить императора-освободителя? Безумные слепцы, они видели только чёрное… Их глодала гордыня. Они были лишь инструментом в руках тех, кто ненавидит и боится Россию… Шесть покушений. Гремят взрывы, кругом раненые, убитые, а государь невредим…»
Цесаревич откинул с головы одеяло. «Господь же посылал ему предупреждения, остерегал. Жена его, Мария Александровна, оскорблённая и преданная мужем, умирала в одиночестве, а император купался в волнах любви юной княжны Екатерины Долгоруковой-Юрьевской. Имел от неё троих детей… Это понятно. Но папа? За что ему такое наказание?..» Николаю вдруг вспомнилась последняя охота. Сосны в снегу. Фельдъегерь с пакетом.
Чёрный росчерк отца на листе: «Казнить без огласки». Их потом повесили. Скользкая верёвка на шее. Выкатившиеся из орбит глаза…
«А как же «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас»? Отец нарушил Христову заповедь, – птицами в сетях бились мысли. – Но, велев казнить заговорщиков, он остановил этой жестокой казнью других таких же безумцев. Спас тем самым жизнь губернаторам, министрам, генералам… После казни покушавшихся отец ни разу не обмолвился о том, что его мучает совесть. Не потому ли провидением Господним попущено было ему лишить жизни безвинного, чтобы страдать, чтобы в скорби очистилась его душа…» Поражённый этой мыслью, цесаревич в третий раз за ночь встал перед иконами.
6
Гриша, стоя за столом с карандашом в зубах, писал письмо. На лавке, скрестив ноги в новых лаптях, сидела соседка Матренка-Коза, долдонила без передышки:
– Пропиши, Гришань, тёлка на той неделе упала в погреб. Ногу сломала. Прирезали, а мясо по соседям определили… Зимой они отдадут…
В последнее время Григория донимали письмами. Разошёлся по селу слух, что он разборчиво и красиво пишет, и потекли к нему просители: «Напиши, пропиши…».
Крик за воротами оторвал его от листа. В окне пыхнула и пропала рыжая гераськина головёнка. Ввалился через порог живым подсолнухом – глазастый, конопатый, космы дыбом:
– Айда глядеть, конокрадов поймали! Цыганёнок с ними. Гудит. Пузыри кровяные из носа. Смехота! Айда, а то убьют без нас. К сычёву дому подходят.
– А лошади ворованные нашлись? – подхватилась с лавки Матренка и про письмо забыла. Только платок за воротами мельканул.
– Шесть коней из-под носа в ночном увели, – вертелся Гераська. – Ага. В Чёрном урочище спрятали. Косцы наткнулись, подкараулили. Садись на спину. Губы-то чёрные. От карандаша, что ли?
– Погоди, – отклонился Гриша, облизнул губы. – Ты тележку к крыльцу подкати, я сползу.
Гераська мчал тележку по улице навстречу людской волне, щетинившейся кольями и вилами. Дребезжали на кочках стальные ободья колёс. Пыхала из-под гераськиных пяток пыль. Гриша, весь напрягшись, подпрыгивал в люльке-креселке, слаженной ещё Данилой. Опаляла сердце мстительная радость.
Два года назад и у них конокрады увели с покоса Лизку, смирную ласковую кобылу. Мать тогда падала на лавку, голосила, как по покойнику. Как они тогда мучились всё лето и осень без лошади. И снопы с поля, и дрова, и капусту из-под берега таскали на горбу. Видели, будто бы, Лизку на скачках, какие устраивал граф Лев Николаевич Толстой с башкирами на Тананыке. Но лови ветра в поле… Хуже волков для крестьян конокрады. Из-за них, лишившись лошади, многие семьи перебивались с хлеба на воду. Чтобы заработать на новую лошадь, мужики нанимались батрачить. И вот их обидчики попались.
Перед толпой Гераська отвернул на бугорок, ткнул концы оглобелек в лебеду. В самой гуще народа Гришатка углядел конокрадов: три угнутых чёрных головы и одну сивую.
– Вон он, цыганёнок. Ишь, ухо ему порвали, как лопух мотается. Смехота!
Окровененные сохлые пряди, свисавшие на глаза и уши светлоголового мужика, показались Гришатке большой красной лапой, закогтившей человечью голову. Этот сивый жил в примаках у солдатки в соседнем селе Богодаровке. Забубенный, вороватый, его имени никто и не знал. Кондачок да Кондачок. У всех четверых руки скручены за спиной и связаны верёвкой. Конец её, перекинув через плечо, держал кривой машинист с молотилки Шура Припадочный. У всех одинаковые, окинутые смертной тоской тупые лица.
На сизых запылённых щеках худенького, лет пятнадцати, цыганёнка дорожки от слёз. Изредка он вскидывал молящие чёрные глаза, но, натыкаясь на злые, острые, будто рожки вил, взгляды, снова гнул голову к земле.
– У, змеёныш, зенками кусается, – яря себя, молодая бабёнка замахнулась каталкой, с которой капало тесто.
Цыганёнок присел, закричал. Первым в связке вышагивал гривастый цыган лет за сорок. В левом, обращённом к солнцу, ухе жёлтый полумесяц серьги. От побоев лицо чугунно-чёрное. Разбитые глаза затекли до узких щелок. Но он твёрдо ставил ноги в грязных хромовых сапогах. Гришатка сразу признал в нём цыгана, напоившего тогда отца и Данилу на постоялом дворе. Вспомнил дикую силу его взгляда, внутренне похолодел. К этому времени конокрадов уже не били. Цыган с серьгой посулил откупиться деньгами. И теперь их вели за околицу, где эти деньги будто бы были зарыты.
Поначалу хотели послать гонцов, но цыган с серьгой уперся: «Без меня не найдёте». «Смотри, ежели зря протаскаешь, кишки твои на вилы намотаем!..» – грозились мужики.
Гераська вёз тележку с Гришей обочь толпы, обгонял. На пригорке за селом, где росли три жидких вязка, толпа остановилась. Цыгана отвязали от общей верёвки: «Показывай». Тот долго вымерял шагами расстояние от сохлого вяза то в одну, то в другую сторону. Остановился у суслиной норы. Толпа придвинулась, громко задышала.
– Руки, браты, развяжите, – попросил цыган.
– Показывай где, мы сами отроем, – крикнул Шура Припадочный.
– Мои деньги тебе в руки не дадутся. – Цыган поглядел на Шуру долгим тяжким взглядом. – Не бойся, не убегу.
Развязали. Цыган опустился перед норой на колени, страшно выворачивая белки, повёл разбитыми глазами по толпе. Встретился взглядом с Гришей, кивнул чуть заметно, будто попросил о чём.
«Узнал, выходит…». Потом нагнулся, сунул в нору руку и тут же… скрылся в ней весь. «Оборотень! – плеснулся над головами истошный бабий крик. – Суслем оборотился!..»
Все заметались, загомонили: «Лопаты несите, выроем!» – «Ни к чему лопаты. Ребятню надо послать за водовозом. Водой из норы его скорей выльем…» – «Как обвёл дураков!» – «Кол осиновый надо вбить!».
Гриша больно закусил губу. Он видел то, чего не видели загипнотизированные крестьяне. Цыган на карачках отполз от норы в долок. Вскочил, пригибаясь и волоча руки, побежал прочь. Почему он не крикнул, не указал на него, Гриша и сам не знал.
– Щас ему, паскуде, все рёбра пересчитаю! – Шура Припадочный с маху тыкал в нору колом. – Нна-н-на!
– Гляди, а то эти разбегутся!
– А то! – Шура выдернул извоженный глиной кол, ахнул по спине Кондачка. – Кличьте его назад из норы, а то всех вас тут порешим!
От удара у Кондачка по-мертвому дёрнулась голова.
– Знал ты, что цыган так отчебучит? – Подступили к нему озлевшие мужики. – Говори, знал?
– Кабы знал, с ним бы в нору спрятался, – прикрывая голову, отозвался Кондачок. – Сами же на деньги польстились.
– Потешается еще! Хрястни его по мусакам! – Красная лапа на голове задергалась от ударов.
– Воду везут, щас выльем! – люди, мешая друг дружке, сгрудились у норы. Вода из жестяной бадьи, завинчиваясь белым вертушком, с хлюпаньем уходила в нору.
«Вылезет, сразу его колом…», «Халда, не колом, а перекрестить его, он цыганом и обернётся». На шестом ведре из норы пробкой выскочил крупный рыжий суслик, заметался между ног, склизкий, ощеренный. Хватали его за лапы, за хвост, кое-как изловили. Бросили в пустое ведро, накрыли бабьим запаном.[9]9
Запан – фартук.
[Закрыть] Ведро перекрестили. Зверёк царапал железо, свистел.
– Кому скажи, не поверят. – Гераська об обод колеса счистил с ладоней грязь. – На моих глазах в норь нырнул… Страшно визжал цыганёнок. Бабы рвали его за кудри. Сердце у Гриши колотилось так часто и сильно, что вздрагивал подол рубахи. Он глядел и не узнавал знакомых мужиков. Бороды взъерошены, будто звериные загривки. Палящие злобой глаза, оскаленные рты. Никогда в жизни он не видел, чтобы в людях так явственно проступал звериный облик. Сосед, смирный, моргливый Федорок хорьком кидался на конокрадов, норовя поддеть лаптем в низ живота. Бабы сверкали глазами из-под растрёпанных косм, рвали живьём… Гришатка зажмурился. На какой-то миг погластилось, будто он стоит на краю страшного обрыва, а там на дне во тьме и злобе мечутся звери с человечьими головами, рвут и кусают друг дружку. «Господи, спаси и помилуй нас, грешных, Своею благодатью», – возопил он всем сердцем.
Поднималось солнце, сверкала роса. Степь дышала ласковым утренним теплом. Взвивались, звенели серебряными колокольцами жаворонки. Природа дышала тихой божественной радостью и любовью. Но люди этого не замечали. Волна злобы поднялась и опала. Мужики кисли на жаре. Крутили головами.
Ни денег, ни цыгана. Один суслик в ведре для посмешища. Оставшиеся конокрады, чуя неминуемую расправу, тоскливо гнули головы. Шпынять и бить их все уже уморились.
– Чо с ними валандаться, ввернуть им веретё на в ухи, и взятки гладки, – предложил кто-то из стариков.
Послали ребятишек за веретёнами.
– Видел, как я его по загривку съездил? – подбежал Гераська. – Оборотня бы поймать, я бы его сковороднем ахнул. И как он в норь-то поместился?
– Ни в какую норь он не лазил, – усмехнулся Гришатка. – Глаза всем отвёл, а сам уполз.
– Куда отвёл? Брешешь, небось. – Гераська схватился за рыжие вихры. Он всегда дёргал себя за волосы в сильном душевном волнении.
– От себя всем глаза отвёл, гипноз называется. Сперва ползком полз, а там по долу убёг.
– А чо ж ты видел, а не закричал?
– Жалко его сделалось.
– Жалко у пчёлки. Он же их главарь. Всех заколдовал, а тебя нет?
– У него не вышло. Ой-и-и! Железные пальцы сдавили гришино ухо.
– Ну-ка, сказывай, кто хмарь на нас навёл. – Над ним нависла клокастая пегая борода. Мужик был незнакомый, злой. Поперёк лба рубцом вздувалась жила. – Почто не шумнул нам, а?!
– Пусти, – мотнул головой Григорий. Ухо хрустнуло.
От боли в глазах поплыли светляки.
– Сказывай правду. Видал, как цыган мимо норы полз?
Мужики прихлынули, обступили тележку. Пегая Борода разжал ухо, вытер пальцы о портки:
– Похоже, ты, самовар, тоже из ихней шайки.
«Будя буровить», «Убогий-то чем вам не угодил?», – в задних прокатился шумок. – «Цыгана под тележку спрятали»
– «Ну-у-у?» «Мели, Емеля…». – Задирали бороды, напирали на передних.
– Говори по совести, видал, как цыган нам глаза отводил? – вызверился на Григория Пегая Борода. – Я слыхал, он вот этому рыжему музюкал, дескать, видал, как цыган мимо норы прополз и долом убежал. – Потом нагнулся к Грише, заныл просяще:
– Ну, скажи по чести, видал?
– Ну видал, – вконец растерялся Гриша, как из колодца, снизу, глядя на обступивших его мужиков. «А тебе почему не отвёл глаза?» – «Да говорю вам, он тоже из одной шайки…» – «Всех охмурил, а его нет…», – будто от подброшенных в костёр дров, вспыхнул огонь: «Ловко. Калека. Век не подумаешь. Наводил их, как лучше красть…».
– Тем летом в ночное с ребятами поехал этот обрубок, и в ту же ночь Карюху мою и ещё три головы увели, – залился Федорок. – Пенёк с глазами!..
«Вяжи его к ним» – «За чо вязать, рук-то у его нету…» – «За шею петелькой».
Кто-то сбоку хлестнул Гришу по скуле. Во рту сделалось солоно.
– Убогого бить – рука отсохнет, – в круг протолкался дед Никиша, босой, в рваной рубахе. – Сами цыгана упустили, а на малом злость срываете. – Нагнулся, рукавом утёр Грише кровь с губы. Пахнуло тиной. Тот благодарно вскинул глаза:
– Он меня и на постоялом дворе ночью не осилил своим гипнозом.
– Вишь, на постоялых дворах встречались. Денежки за краденых коней, небось, делили, – опять взвился бородатый. – Не лезь, дед, не в своё дело. Иди лучше, сомов лови. Шурка, вяжи его по перёк тулова и волоки.
– Без ног, чай, не убежит.
– Вяжи, а то как цыган унырнёт.
Жесткие руки вынули Гришу из тележки, отнесли и оставили рядом с конокрадами. Тем временем ребятишки принесли веретёна.
– Ну-кося. – бородатый взял в руку острое, как пика, веретено. – Отвязывай первого.
Шура Припадочный развязал цыганёнку руки. Тот кинулся бечь. Догнали, повалили. Хваткие мужичьи руки прижали головой к земле. Смоляные кудри елозили по траве. Цыганёнок визжал, дико распялив белозубый рот, дёргался. Пегая Борода, ворочая кровяными глазами, никак не мог прицелиться остриём в ухо.
– Глянь, скачут. Можа урядник?![10]10
Здесь – нижний чин уездной полиции.
[Закрыть] – Толпа развернулась в сторону двух мчавшихся от села всадников. Мужики, державшие цыганёнка, встали с колен. Бородатый незаметно отбросил веретено в траву. У одного из всадников в такт лошадиному маху взмётывались большие чёрные крылья. У другого вспыхивали и гасли у лица золотые искры. Саженях в трёхстах от толпы сыпавший золотыми искрами развернулся и потрусил прочь. Другой же наскочил на толпу, оборотившись отцом Василием в развевающейся рясе. Сполз наземь с мокрой, будто искупанной лошади, одёрнул рясу, перекрестил внезапно притихшую толпу. Цыганёнок на коленях подполз к нему, ухватился за полу, запричитал:
– Батька-поп, спаси, Христа ради! Веретеном голову проткнули!..
– Сказывай, басурман, калека был с вами в доле? – Пегая Борода, злобясь, волоком подтянул за ворот Гришатку. – Перед батюшкой сознавайся!
– Ведро, сусля несите. Пусть батюшка крестным знамением осенит, – загалдели в толпе. – Перевернётся в цыгана.
Отец Василий помог обрадованному его появлением Грише подняться, полой оттёр его испачканную травяной пыльцой щёку. – Тебя-то пошто?
Принесли ведро. Отец Василий долго разглядывал присмиревшего на дне мокрого суслика. Усмехнулся:
– Цыган-то чёрный был, а суслик рыжий.
– Сказали же вам, остолопам, убёг цыган, – Бородатый с досадой выругался по-чёрному. С вызовом поглядел на отца Василия.
– Айда. – Шура Припадочный схватил цыганёнка за ухо.
Тот обеими руками уцепился за полу рясы.
– Батька-поп, не отдавай. Веретеном заколют. От рывка отец Василий попятился, загородил цыганёнка.
– Не замай отрока.
– Ты чо, поп, за конокрадов заступаешься? – попёр грудью Шура Припадочный. – Сгинь от греха.
– Обожди, – отвёл его рукой бородатый, елейно вкрадчиво вопросил: – А скажи, отче, кто это с тобой скакал да не доскакал, а-а?
– Цыган. Он меня и направил, – бесхитростно смаргивая голубенькими глазками, отвечал отец Василий.
– Слыхали? – возвысил голос бородатый – Нашлась пропажа. Цыган из норы попа послал конокрадов выручать. А-а! Небось, не одну сотню тебе пожертвовал!.. Чо молчишь? А, можа, ты сам с ними в шайке?
– А как ты догадался? – отец Василий покаянно нагнул голову. – И я с ними лошадей крал.
Стихла, будто остекленела, толпа. Так бывает в природе перед грозой. Ни одни листочек не шелохнётся, ни одна букашка не завозится в томительном ожидании. Таращили глаза на отца Василия, будто у того на голове выросли рога.
– Крёстный, что ты на себя наговариваешь? – Гриша придвинулся к нему, замер.
– Бесов из меня изгонял, мучил, а сам, – диким голосом взревел Шура. – Сатана в рясе!
Он кинулся на отца Василия, сбил его с ног. Вырвал у ближнего к нему мужика из рук кол. Ударил священника, размахнулся ещё и вдруг закричал. Уронил суковатую, в руку толщиной, палку.
«Кто там? Чего?», – напирали задние. «Батюшку ударил, рука сразу и отсохла» – «Ну?» – «Дуги гну, не лезь!»
– «Это Журавлёнок Припадочного за руку зубами цапнул». – «Ну-у-у!»
– Зверок! Наскрозь палец отгрыз! Порешу! С попом вместе порешу! – Шура скрипел зубами, размахивал колом.
В этот момент из толпы вырвалась старая Орешиха, растрёпанная, дикая. Тигрицей кинулась на Пегую Бороду, вцепилась ему в волосы. Тот с маху отвесил ей такого леща, что Орешиха перепрокинулась кверху лаптями, но тут же вскочила, одёрнула подол, заголосила на весь белый свет:
– Бусари окаянные, чо вылупились? Батюшку кинули на растерзание нехристям. Нарошно он сам себя оговорил, нарошно. Вас, оглоедов, чтоб от гре ха отвесть!.. А вы терзаете!
Среди мужичьих голов и бород будто ветер свежий пронесся: «Ведь и правда, знаем, бессеребренник он, всю жизнь в одной рясе». – «Из его конокрад, как из бабушки кулачник». – «А Пегий-то это откель?» – «Рядчик из Самары…». – «Борзый».
– Всё одно башку скручу. Обрубок! – Шура потянулся к Грише.
– Кто убогого тронет, прокляну весь род, до седьмого Колена… – С окровавленным лицом, сверкавшим, будто огненный меч, крестом, отец Василий показался великим и грозным.
– Изыди, нечистый дух, изыди! – Он троекратно перекрестил ярившегося Шуру. Тот вдруг, заламываясь навзничь, повалился наземь, брызгая пеной, залаял. Народ, крестясь и пятясь, расступился. Шура вдруг вскочил, на четвереньках заметался в ногах.
– Горю, кишки горят. Воды-ы! – Изо рта его вместе с криками стали вырываться клубы чёрного дыма. Толпа в ужасе отхлынула. Бабы закрывали ладонями лицо.
Мужики таращились, крестились.
Отец Василий побелевшими губами читал над ним молитву. Шура, беснуясь, опрокинул ведро с сусликом. Зверёк кинулся бежать. В этот раз никто его не ловил. Бесноватый засунул в ведро голову и вдруг разом стих. И мужики, и связанные верёвкой конокрады глядели во все глаза, как Шура, мотая головой, сбросил ведро, притихший, поводил глазами, видно, не понимая, где он… Отец Василий опустился перед ним на колени и поцеловал братским поцелуем в темя.
Конокрадов посадили в холодную, выставили сторожей. Старосту отправили в Бариновку за урядником. Мужики разбредались по домам, утупив глаза в землю. Отец Василий сам, впрягшись в тележку, повёз Григория домой.
– Больно? – спросил тот, кивая на его запёкшуюся на скуле ссадину. – Уряднику надо пожаловаться на этого пегого. Бил тебя прилюдно.
– Ладно, заживёт, – махнул рукой отец Василий. – Его, милостивца, на кресте распинали и то он простил.
– А зверь-то опять в нору спрятался, – сказал Гриша.
– Ты про цыгана?
– Про зверя я, крёстный, про зверя, что в сердце у нас прячется.
7
С оказией покатил отец Василий в Самару. Взял с собой написанную крестником иконку Спаса Нерукотворного. Дорогой умилялся, глядя, как летит над степью, серебрится на головках татарника богородицына пряжа.[11]11
Паутина.
[Закрыть] Представлял, как удивится архиепископ Иннокентий, когда увидит гришину икону. В епархии чуть не бегом пересёк и по осени еще зелёный дворик. Долго ждал в прихожей, прежде чем взойти по выскобленным жёлтым ступеням в кабинет архиепископа.
– Чудишь всё, недостойно сану, – крещенским холодом обдал вдруг владыка. Поднялся из-за стола, потряс седой львиной гривой.
– Прости, владыка, грешен. – Отец Василий, намеревавшийся подойти под благословение, остановился у двери. Возвёл на архиерея бесхитростные голубые глаза, блестевшие радостью осенней степи. – Не чую, откель борей подул?
– Не чует кошка, чьё мясо съела, – хмуровато усмехнулся владыка. – Похвалился бы, как тебя на одной верёвке с конокрадами по селу водили.
– Было дело, владыка, – залился румянцем отец Василий. – Грешен. Жалко сделалось. Ведь они тоже люди.
– Ты петли не петляй, как заяц. Неужто в самом деле с конокрадами знался? – до сей минуты не веривший в донос, архиепископ в душе растерялся, но ликом огрознел. – Не юли, сознавайся, как дело было. Жертвовали тебе разбойники на церковь?
– Грешен, владыка, – опалённый гневом его преосвященства, вконец смутился отец Василий. – Нет, не жертвовали. А коли пожертвовали, то принял бы.
– Знал бы, что от воров, и принял бы?
– Принял бы.
– Вот те голос, – изумился архиерей. – Как у тебя язык повернулся сказать мне эдакое?
– А кто я такой, владыка, чтобы их лепту отвергать. Судья им разве?
– Какой ты огромадный спорщик, мне давно известно.
А скажи-ка лучше, с какой такой стати тебя вместе с конокрадами били?
– Мужики хотели цыганам веретёна в уши закручивать, ну я по скудоумию и согрешил. Грешен…
– «Грешен, грешен, грешен»… – передразнил архиерей. – Долдонишь, как дятел. Я ему про коней, он мне – про веретёна. Лишу прихода, иное запоёшь!






