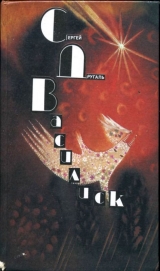
Текст книги "Василиск
Фантастические рассказы и повесть"
Автор книги: Сергей Другаль
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц)
– Завтра мы будем у Художника, – устраиваясь на ночлег, объяснил Олле, – а послезавтра, у меня такое предчувствие, мы найдем ее. Думаешь, она от нас убегает? Ничего похожего. Она просто знакомится с Землей и ее обитателями. И все, что она видела, ей, конечно, понравилось.
Художника они вспугнули в полдень. Оставив мольберт и мелькая пятнами камуфляжного костюма, он умчался от них и скрылся в дверях низкого строения у самой кромки леса.
– Совпадение, – сказал Олле. – Видно, кто-то заболел.
– Ну да, и он кинулся ставить банки.
Прибавив ходу, они через пару минут уже входили в небольшой, хорошо ухоженный дворик. В дверях дома стоял ослепительный красавец в смокинге и мизинцем разглаживал тонкие усики.
– Где Художник? – закричал Нури.
– Простите. – Красавец поправил пробор. – Не понял.
– Художник где? Что с человеком? Почему он так быстро бежал?
– Волчьим наметом, – добавил Олле. – По пересеченной местности.
Красавец потупился:
– Не мог же я встретить вас небритым.
– Так это были вы? Не может быть.
– Я прошу прощения, – красавец смущенно взмахнул пушистыми ресницами. – Я не успел сменить запонки.
– Не может быть, – тупо повторил Нури.
– Увы, действительно не успел. Дело в том, что я вас ждал завтра. Располагайтесь, прошу. О, какой конь, сколь прекрасны его формы, сколь неотразим взгляд его фиолетовых глаз! Вы позволите, Олле, я коснусь его? – Он поднял ладонь, и конь уткнулся в нее бархатными ноздрями. – Спасибо, милый, я потом нарисую тебя… Это ваш знаменитый пес?
Плавная речь Художника прервалась, он пригляделся к собаке.
– Мутант, да?
– Вы кинолог?
– Я анималист. На мутантах собаку съел… Но что с ним?
Гром ощетинился и присел, обнажились страшные клыки, послышался низкий рык. Олле стремительно обернулся и схватил пса за голову.
– Однако у вас реакция! – с восхищением сказал Художник.
– Спокойно, Гром. Он не ел собаку. Это идиома.
– Р-рад, – выдохнул пес. Потом, косясь на Художника, вышел за изгородь.
– Я ж сказал, мутант. Обычный пес, он что? Он ориентируется на интонацию, жест, на психологический настрой хозяина. А этот, не спорю, хорош, зверовиден, силен, верен, но… псовости не хватает. Как вам объяснить, ну, самомнения много. А псовость – она исключает самомнение. Давно он у вас разговаривать научился?
Олле засмеялся.
– Давай, добрый хозяин, показывай свой вернисаж, а то о твоем таланте каждая муха в саванне жужжит. А Гром, к сожалению, говорить не может, не так устроен. Понимает почти все, но слишком буквально.
Бревенчатые стены большого помещения с матово светящимся потолком были сплошь увешаны полотнами. Животные во всех, мыслимых ракурсах были изображены на них. Художник почти не уделял внимание пейзажу – он лишь угадывался, но животные были выписаны тщательно, в почти забытой манере – лессировками.
Нури долго стоял у двух картин. На первой был изображен гепард в спокойной позе. Изящный и ленивый, он казался воплощением безразличия, зеленые глаза равнодушно смотрели на Нури и сквозь него. На второй – тот же гепард в беге. Загривок, спина и хвост образуют прямую линию, хотя тело сжато в комок и кажется вдвое короче, чем на первой картине, а задние ноги вскинуты вперед и дальше короткой морды. Пейзажа нет, только какие-то удлиненные пятна, на фоне которых почти физически ощущается стремительность бега-полета.
– Нравится? – спросил потерявший многословие Художник.
– Очень. Но в нем что-то не то. Зверь, но какой-то не такой. Очаровательный и… не страшный.
Художник хмыкнул и промолчал. Гости разглядывали картины и в каждом животном замечали что-то неуловимо ненастоящее. Иногда нарочитость проглядывала в самом облике зверя. Тигр с ласковой мордой, спящая в траве выдра, и на боках у нее маленькие ласты, свисающий с ветки боа имел грустные коровьи глаза, а гигантский муравьед был спереди и сзади совершенно одинаков.
Вместе с тем эти несообразности отнюдь не портили впечатления.
– Это что, фантазия? – Олле остановился возле картины, изображающей бегемота с раскрытой пастью: на резцах его красовались две золотые коронки.
– Необходимость. – Художник подравнял белоснежные манжеты. – Полагаю, пора объяснить. Вот вы, Нури, у вас хобби – механик-фаунист, так ведь? А скажите, каких животных вы делали?
– Почти всегда чешуйчатых чертей.
– А почему не бурундука или, скажем, зайца?
Нури задумался, пожал плечами.
– Не знаю. Как-то сделал щенка, он у меня пищал, когда наступишь на хвост, и уползал под стол. Потом больше не хотелось… Но чертей я наделал порядочно. Люди рассказывают, они до сих пор обитают в песках на Марсе.
– Еще вопрос. Представьте, что этот механический щенок лизал бы вам руку?
– Нет! – Нури передернулся. – Это было бы жутко и отвратительно.
– Отвратительно. Очень точное определение, – задумчиво сказал Художник. – Это как если бы ребенок играл с куклой, у которой настоящие живые глаза, в нейлоновых жилках кровь и которая чувствует боль. Нет! Игрушка должна быть игрушкой независимо от того, кто с ней играет, взрослый или ребенок. В этом смысле мои картины имеют сугубо утилитарную цель. Я ищу то единственное, что придает животному образ игрушки, не нарушая ощущения подлинности. Вообще, это область психологии, а я не силен в ней. Знаю только, что мои работы используют профессионалы механики-фаунисты, что люди с большей охотой приобретают зверей, сделанных по моим эскизам, нежели точные копии.
Нури словно взвешивал каждое слово Художника.
Этот синеглазый красавец, который так сокрушался по поводу запонок, кстати, Нури так и не понял, зачем надо было менять в манжетах великолепные александриты, был вдохновенным мастером. И если то, что они видели, называлось эскизами, то каковы же законченные работы?
Облик Художника, его исполненные непринужденного изящества движения странно гармонировали с удивительными картинами в темных рамах, создавая немного грустное ощущение когда-то виденной и забытой красоты. Интересно, как Олле воспринял этот совершенный жест – протянутую и потом раскрытую руку, в нее ткнулся носом конь, и было видно, что Художник принял это как подарок.
Нури покосился на руки Художника, и тот, уловив взгляд, поднял к лицу обе ладони, покрытые ороговевшими мазолями.
– Что вы, Нури! Я ведь надеюсь когда-нибудь стать вашим коллегой. Если буду достоин. И… разве можно допустить, чтобы кто-то работал за тебя. И этот дом, и все остальное я сделал сам.
– Простите, – вмешался в беседу Олле. – Что это? Почему вдруг голография?
Квадратная рама окаймляла объемное изображение поляны в закатном свете и темную стену леса, а над ней, над самыми верхушками деревьев, розовело что-то похожее на аэростат, но с короткими толстыми отростками.
– Это то, что я не успел зарисовать. Пришлось заснять… Это гракула, которую вы ищете. Она была здесь вчера. Выкатилась на поляну, имея форму диска. Были сумерки, и она стала накачиваться. Знаете, у нее в подошвах клапаны. Вытягивает ногу, набирает в нее воздух, а потом сжимает, как гармонь, и перегоняет воздух внутрь. Она лежала на спине и, работая двумя ногами, порядком накачала себя. Потом грызла хворост, и у нее в глубине, возле пупка, засветилось что-то похожее на гаснущие в костре угли. И она стала округляться. Пока я бегал за аппаратом, она раздулась и поднялась над лесом. Ветер унес ее от меня.
– Вот и все, – сказал Олле. – Тебе ясно?
– Вполне, – ответил Нури. – Если она способна нагревать в себе воздух и пользоваться законом Архимеда для передвижения, то уж принять вид матраца…
И ежу понятно, что это я сам вынес ее из изолятора, когда пришел менять матрац.
Итог подвел Художник.
– Одно предсказание волхва сбылось, – сказал он. – Дело за вторым.
Этот дуб был не из тех, что вытягивались в пару лет, подгоняемые стимуляторами. Покрытый мхом, раскидистый, с толстым неровным стволом, он был естественно стар и громаден. Стоял дуб на отшибе от массива, возвышаясь над рощицей поддубков. У подножия его копошились полосатые поросята, и, угнездившись на нижней развилке, рассматривала их гракула.
Гром улегся неподалеку, положил голову на вытянутые лапы. Морда его выражала сознание выполненного долга и гармонии с окружающей действительностью. Олле стоя на спине у коня, объезжал рощицу кругом, непрерывно щелкая затвором съемочного аппарата.
Нури возился с прибором связи. Сориентировав створки антенны на еле различаемую в невозможной дали иглу башни ИРП, он подозвал Олле.
– Рельеф позволяет использовать лазерную связь. Прямая видимость. Вызываю деда.
Метрах в трех от земли возникло туманное пятно и оформилось в привычный образ директора ИРП. Сатон сидел в кресле, видимый по пояс. В ИРП над столом директора спроецировалось такое же изображение стоящих рядом Олле и Нури.
Сатон поднял голову, дернул себя за бороду.
– Мы нашли ее, профессор, – сказал Нури.
– Я так и подумал. Как там она?
– Висит на дубе. Сменила расцветку. Сейчас она бледно-сиреневая по краям, а серединка – в незабудках по зеленому полю.
– Ага! И что вы собираетесь предпринять?
– Ничего. Вернемся домой.
– А она?
– Я полагаю, пусть висит, – сказал Олле. – Пусть катается диском, или бегает козой, или плавает моржом. В конце концов мы убедились, что она на Земле акклиматизировалась полностью. Ей здесь хорошо, и пусть живет.
– Говоришь, по зеленому полю незабудки. Странный вкус! – Сатон откинулся в кресле, открыл рот, полный белых зубов, захохотал и исчез.
Олле и Нури возвращались домой, в ИРП, но еще долго было слышно, как на дубе хрумкала желудями веселая гракула.
Вишневый компот без косточек
Воспитатели летнего лагеря дошкольников при океанском центре Института Реставрации Природы пребывали на песчаном пляжике на берегу озера, там, где неподалеку рыжая саванна упирается в зеленую границу леса.
– Гром нервничает, – сказал Рахматулла.
– Он всегда неспокоен, если Варсонофий облизывается. – Олле играл кисточкой львиного хвоста. – Вообще, псу развернуться негде. – Олле вытянулся на песке, положив голову на львиный бок.
Нури сосредоточенно рассматривал синего жука, застывшего на желтой кувшинке. Какая-то птаха кричала в лесу радостно и тонко. Хогард откинулся, подставляя солнцу незагорающее лицо, серьга в его ухе нестерпимо сверкала.
– А вчера бувескул высветлил компот и раздвоился. – Хогард старался поймать взгляд Нури. – Это, скажу вам, зрелище.
– Это что, – пробормотал Нури.
Жук слетел с кувшинки и копошился в песке у морды Грома. Пес прикрыл его лапой, прислонился ухом, вслушиваясь.
– У меня третьего дня двое завернулись в гракулу. – Иван Иванов доел персик, закопал в песок косточку, потом вытащил из носа Рахматуллы длиннющего ужа и швырнул его в озеро. Уж поплыл, оставляя на зеркальной глади усатый след.
– Не может быть, – Олле приподнял голову. – Гракула уплощается, если она перед тем кубична.
– Именно. Они подстерегли такой момент и гладили ее в четыре ладошки.
– В четыре? Кто бы не уплощился… – Рахматулла проводил взглядом ужа, потрогал себя за нос. Потом закинул ноги за плечи, встал на руки и застыл в этой невозможной позе.
Иван насыпал над косточкой холмик, набрал в горсть воды и полил. Истомная жара погружала в дремоту, и горизонт расплывался в колышущемся мареве. Гром залез в воду, улегся мордой к берегу. С усов его капало.
В пещере запищал зуммер и послышался голос Отшельника:
– Это вас, Олле. Сатон говорит, что вход в центр кто-то блокировал. Он интересуется вашим мнением.
Олле встал, и лев тут же полез в воду в сторонке от пса.
В пещере было сумрачно и прохладно. Отшельник сидел в плетеном кресле над чертежами механозебры, а над письменным столом в туманном сфероиде фокусировалось объемное изображение Сатона. Они о чем-то тихо беседовали.
– Я слушаю, здравствуй, дед, – сказал Олле.
– Ни Нури нет, ни Ивана. – Сатон форсировал звук. – Куда все подевались?
– Педсовет у них. А я там в качестве сочувствующего.
– Педсовет! А у меня тут гад лежит. Смотри.
В сфероиде возникло знакомое изображение входа в центр ИРП. На белых ступенях между двумя золотыми дельфинами разлеглась огромная серая кобра. Голова ее была приподнята и беспокойно шевелилась.
– Ни войти, ни выйти. – В сфероиде снова возник Сатон.
– Это не опасно. Идите смело.
– То есть?
– Это голограмма, дед. Через нее ступени просвечивают. Видимо, Нурина ребятня забавляется.
– М-да, – Сатон дернул себя за бороду. – С вами не соскучишься.
Олле вышел из пещеры, задвинув за собой занавес. Конь, мокрый после купания, ждал его, и Олле прижался к прохладному боку. Воспитатели уже искупались и снова валялись на песке. Только Нури, равнодушный к жаре, о чем-то сосредоточенно думал.
– Там кто-то из твоих сфокусировал змею… – сказал Олле.
– Это что, – махнул рукой Нури. – Это ерунда. Хуже всего, что я тоже погряз.
– А кто еще? – спросил Иван. – И в чем?
Персиковая косточка уже проросла, и Иван нетерпеливо вытягивал из песка маленький ствол, распрямлял ветви и проглаживал между пальцами листики. На глазах под его руками завязались бутоны и распустились в соцветия.
– Опылять пора, – пробормотал Иван. Он вызволил из шевелюры Хогарда неведомо откуда взявшегося шмеля и поднес его к деревцу. Шмель с довольным урчанием принялся за работу.
– …в самодовольстве, Иван. А что? Все у нас здоровы, веселы, учебные программы выполняются. Да и сезон на исходе. Не жизнь – сплошной санаторий. Олле вон укрощает и без того кроткого аки агнец льва, Хогард шлифует свои коллекционные алмазы. А между прочим, мы на работе.
– Я что, я охотник, – зевнул Олле.
Хогард придвинулся к Нури, тронул за руку:
– Что с тобой, Нури?
– Беда у него, – сказал Иван, снимая с деревца персик. – Попробуй, – он протянул его Нури. – Кот у него в холодильнике.
Было так. Детская столовая опустела. Разошлись, закончив дела, старшие дежурные, и лишь посапывал за стенкой кухонный автомат да звенели за открытыми окнами ребячьи голоса. Нури прошел между столиками, одобряя чистоту, и вдруг услышал всхлипывания. Возле последнего стола сидела на полу девчушка и размазывала по щекам слезы. Маленький фокстерьер стоял мордой в угол и шевелил обрубком хвоста. Кто-то пренебрег запретом и притащил щенка. Это вполне могло быть. Но забыть щенка в столовой – такого быть не могло.
Нури присел на корточки, щенок не оглянулся и так же мертво вилял хвостиком.
– Они его загип-п-нотизировали, а мне жалко, и я плачу. А как вишневый компот, так они его сливают в ведро. Я не возражаю. Если бувескул тоже любит компот, пусть…
Нури подхватил щенка на ладонь, ощущая странную одеревенелость животного, и поставил на подоконник. Щенок не изменил ни позы, ни поведения.
– Вундеркинды, – сказал Нури. Он обеими руками гладил щенка, снимая наваждение. Тот обмяк, тявкнул и сбежал.
Нури недоверчиво оглядел столовую, ожидая новых сюрпризов. И сюрприз был. Выходя, он машинально открыл холодильник, и оттуда с мявом выскочил кот.
– Дожили, – разглядывая дымящегося от злости кота, произнес Нури. Девчушка заревела в голос.
– Кто это сделал? – спросил Олле, и воспитатели молча воззрились на него. – Но кто-то же это сделал. Загипнотизировал щенка, запер кота… Бедные животные.
– Не надо сюсюкать. – Нури раскусил персик. – Нам сюсюкать ни к чему.
– Но…
– И я говорю, Олле, плохие мы воспитатели. Но не настолько плохие, чтобы искать виновных.
– Дети есть дети. – Хогард раздробил в ладони округлый камень, отбросил крошки. – Только я, видимо, непригоден для этой работы. Мне под землей как-то спокойней. Здесь я как-то теряюсь. Не умею делать замечаний, весь в сомнениях, так ли поступаю, а на многие вопросы не знаю ответа и тогда говорю: не знаю.
– Ну и правильно.
– Но это роняет мой авторитет воспитателя.
– Вот, – сказал Нури. – Вот здесь наша общая ошибка. По себе знаю: стоит начать думать об авторитете, как сразу невольно начинаешь принимать позы. А позу от детей не спрячешь, как кота в холодильник. И потом, вам не режет слух словосочетание «авторитет воспитателя»?
– А почему должно резать?
– Потому, что оно подразумевает авторитет профессии. Авторитетной же может быть только личность.
«Нури не совсем прав, – подумал Иван Иванов. – Врач и воспитатель должны быть авторитетны изначально, потому и сложны экзамены для кандидатов в воспитатели». Иван оглядел выращенное деревце, уловил признаки увядания – еще день простоит и засохнет. Пусть. Все подобные чудеса недолговечны.
– По-моему, ваши беды оттого, что вы погрязли в буднях, что и имел в виду Нури, – сказал Олле. – И потеряли ореол героев, столь привлекательный для детей.
– А Марья Ванна? Как у нее с ореолом?
– Бабка другое дело, Рахматулла. Она у истоков, а вы неофиты, вы начинающие…
Бабку привел Сатон. Директор Института Реставрации Природы был с ней почтителен, а бабка с виду была неулыбчива и свирепа.
– Познакомьтесь, – сказал Сатон. – Марья Ивановна, няня. А это ваши ученики. Рахматулла Хикметов (Рахматулла сделал шаг вперед и склонил голову), космонавт, йог. Пока единственный, кто побывал на Венере. Признан достойным.
– Иван Иванов. Маг. (Иван извлек из воздуха шикарный букет роз и молча положил на стол перед Марьей Ивановной. Бабка шевельнула худым плечом, покосилась на букет.) Признан достойным.
– Хогард Браун. Спелеолог, автор трудов по прогнозированию и утилизации энергии землетрясений и… юморесок. Признан достойным.
– Э, – сказала бабка. – Серьгу убери или смени камень на овальный.
– Сегодня же, Марья Ванна.
Ворон на подоконнике склонил набок голову, прислушиваясь.
– Нури Метти, – продолжал Сатон. – Кибернетик, механик-фаунист. Генеральный конструктор Большой моделирующей машины. Признан достойным.
Бабка чуткими глазами оглядела учеников и подобрела. Видимо, они понравились ей своей серьезностью.
– Марья Ивановна будет вести практические занятия, поможет вам овладеть некоторыми навыками. – Сатон поцеловал бабку в щеку и вышел.
– Вазу с водой, – ни к кому не обращаясь, сказала бабка. Хрустальная ваза возникла перед ней, и бабка поставила в нее цветы, чтобы они не завяли. Потом принесла объемистую плетеную корзину.
– То, чему я вас научу, – начала она, – может вам понадобиться, а может и нет, но знать это нужно.
Фильмы вы смотрели, таблицы там всякие, диаграммы изучали, теорию знаете, верю. А я вам преподам главное.
Она достала из корзины тряпочку, расстелила на столе.
– Это пеленка.
Бабка вытащила розового голого младенца, положила на пеленку.
– А это кукла. Учебное пособие. Младенец. Дите. Ясно? Младенец состоит из рта, живота, ручек, ножек и попки.
– Попки, – повторил Хогард. – Это надо запомнить.
– Дите, – продолжала бабка, – любит чистоту, хорошее настроение, доброту и чтобы с ним разговаривали или хотя бы агукали. Вот ты, агукни.
Выслушав, как агукает Нури, бабка обиделась.
– Рехнуться можно, – нервно вздрагивая, сказала она. – Нечистая сила так агукает по ночам на кладбище.
Потом бабка достала из той же неисчерпаемой корзины ролик и в качестве домашнего задания велела прослушать его и к утру освоить разговор с младенцем или хотя бы мало-мальски сносное агуканье.
– Если дите отсырело, если у него болит живот, или оно хочет есть, или его кто ненароком обидел, то дите заходится.
– Как это? – робко спросил Иван.
– Не слышал? Послушай. – Бабка звонко хлопнула учебного младенца, тот всхлипнул и заревел. Во время жуткого перерыва в реве бабка сказала:
– Вот это и есть – заходится.
– Силы небесные, – пробормотал Рахматулла.
– А с этим можно бороться? – спросил Хогард.
– Вам бы только бороться, – завелась бабка. – Вам бы только трудности преодолевать. Надо выяснить причину, почему дите недовольно. И устранить. Например, перепеленать. Но не туго.
Бабка что-то сделала с младенцем, и он замолчал. Ученики столпились у стола, чтобы лучше видеть. Ворон сел на плечо Хогарда, потянул серьгу, но спелеолог даже «кыш» не сказал. Потом под пристальным и явно пристрастным наблюдением бабки все по очереди пытались спеленать младенца.
– Это тебе не по пещерам шастать.
Полою тоги Хогард вытер с лица пот.
– Чего там, я бы смог, но то ручки выскакивают, то ножки.
– Я младенца вам оставляю. Тренируйтесь до полного автоматизма. Чтоб мне пеленали с закрытыми глазами. Завтра будем проходить купание, подстригание ногтей, потом варку манной каши, кормление, постановку клизмы, одевание-раздевание и так далее. Программа обширна.
– И так далее, – сказал Нури, когда бабка ушла. Все подавленно молчали.
– Олле прав, ореол у нас слинял. Я тоже думаю, не слишком ли много дидактики, статичности, этакой прямолинейности в подходе. Да и непонятно, чего мы, собственно, хотим от своих воспитанников. Чтобы они стали людьми? Но каждый из них уже человек без наших усилий. Какова, собственно, цель воспитания? Не учения, воспитания.
– Ты что, Иван, ты это серьезно?
– А тебе ясно, Нури? Поделись.
– Мне ясно. Я стремлюсь воспитать доброту. Уважение ко всему живому и сущему. Остальное приложится и без нашего вмешательства. И по части этого… героизма.
– Брось, – перебил Олле. – Никто не требует, чтобы ты говорил о себе или Рахматулле. Но на вас смотрят в сотни глаз. Потому и жить надо на пределе.
– Не понимаю. Предел – это всплеск, это вне будней.
– Пусть так, но кто из ваших воспитанников видел вас в этом всплеске? И жизнь не из одних будней состоит.
Нури вглядывался в лица друзей, разгоряченные спором, и привычно угадывал очередную реплику еще до того, как она была сказана. Это странное, необъяснимое умение пришло к нему на третьем году работы с детьми, и он не удивился, а принял это как должное. Иначе было бы просто невозможно жить среди малолетних гениев с их невероятными способностями. Нури, как и остальные воспитатели, посещал все занятия, положенные по программе дошкольного обучения. Он с восторгом слушал поразительные по чистоте и логике лекции и, потрясенный, сознавал, что сложнейшие понятия современной науки с легкостью воспринимают его трех– и пятилетние воспитанники. И все-таки это были обычные дети, нормальные во всех отношениях. Просто взрослый мир еще не успевал за их развитием, как и прежние поколения не успевали за своими детьми. Но уже пришло время, когда человечество стало отбирать из своей среды все самое лучшее для обучения детей и их воспитания.
Бувескул. Это ж надо: малолетние генетики вывели бациллу учебную величиной с кулак. Чтобы не сидеть у микроскопов. И питательную среду подобрали – вишневый компот. Изловчились марсианского зверя приручить – гракулу. Впрочем, гракула сама лезет к детям. Что там Хогард говорит?
– …На пределе. Это мне нравится. Если всем вместе. Что-нибудь необычное, праздничное, выходящее из повседневности, а?
– И помещение найдется. Привлечем общественность, накроем стадион надувной сферой, поставим растяжки, скамьи этаким амфитеатром. – Рахматулла прищурился. – Чтоб не под открытым небом… Какой цирк под открытым небом?
Цирк? Тут Нури засомневался:
– А справимся?
Рахматулла поднял с песка пояс космонавта, похожий на старинный патронташ, надел его и прижал руки к бедрам:
– Если не мы, то кто? – Он оторвался от земли и завис, опоясанный голубым сиянием. – Сейчас я вам покажу то, что мало кто на земле видел. Смотрите.
Рахматулла со страшной скоростью взмыл вверх и тут же вернулся, неся под мышкой выловленного в поднебесье журавля.
– Вот, пожалуйста.
Журавль, не испуганный – изумленный случившимся, сначала постоял, шатаясь, потом вырвал с корнем выращенное Иваном деревце, шваркнул ногой, брызнул песком в морду Варсонофию и клюнул в живот Хогарда. Все это было проделано в невероятном темпе. В следующее мгновение журавль перешагнул через Олле и, сопровождаемый громовым хохотом корчащихся на песке воспитателей, ринулся вдоль берега по мелководью.
На шум вышел из пещеры Отшельник. Он пожевал губами и поправил на бедрах козью шкуру.
– У вас пупки развяжутся, красавцы. И кому нужен шум? Моя поднадзорная скотина любит тишину. Она не любит быть напуганной.
Он застыл в недоброй позе официального оппонента.
Но тут прибежали толстенькие мягкие львята, полезли обниматься к Варсонофию, и Отшельник оттаял.
– Какая прелесть, – сказал он. – Как это умиротворяет! А почему эта птица, – он ткнул перстом в сторону журавля, – околачивается здесь, когда ей место в небе.
Узнав, в чем дело, и отсмеявшись, Отшельник вернулся в пещеру. Оттуда, жалуясь на немощи и возраст, приволок неподъемный валун. Он часто таскал с места на место эту неудобную каменюку, чтобы не ожиреть. Отшельник утверждал, что перед ним вечно стоят две проблемы: чего б поесть и как бы похудеть. Он уселся на камень и принял участие в педсовете. Услышав о цирке, Отшельник оживился:
– И непременно с животными. Я дам Варсонофия. Насовсем.
Все надолго потупились. Хогард, элегантный даже в плавках, послюнил палец и смазал царапину на животе. А потом Нури сказал:
– Не надо. Мы вас уважаем, Франсиск Абелярович. Даже любим. Но… не надо. Заснет.
– Это да, это он может, – с горечью признал чуждый лукавства Отшельник. – Тогда, знаете, вам надо связаться с Айболитом, у него есть свободные из команды выздоравливающих.
– Ладно, животных я беру на себя, – сказал Олле. – Из любви к детям. И познакомьте меня с той девчушкой, что щенка жалела.
…Вылез из воды и высох Гром. Варсонофий и львята давно скрылись в пещере, и оттуда доносился молодецкий храп. Явилось на водопой поднадзорное стадо антилоп, и наконец возник и укоризненно маячил неподалеку домовый кибер Телесик, он же по совместительству животный смотритель. Маячил, давая понять, что костер и шум мешают обитателям леса и что пора бы всем по домам.
– Циррк!
В пространстве родилась мелодия и высветлился луч, в котором парил, снижаясь кругами, гигантский ворон.
– Циррк!!
Луч растекся розовым сиянием, и ворон уже казался красным. Ленивые взмахи его крыльев рождали ветер, трогающий запрокинутые лица. Было слышно, как хрустальные шарики падают на хрустальное блюдо.
– Циррк!!! – кричал ворон.
Вспыхнул свет и залил весь цирк, и скамьи, заполненные зрителями – детьми и взрослыми, и светлый узорчатый ковер на круглой арене. Ворон черный, обычных размеров, опустился в центр ковра рядом с великолепным снежно-белым попугаем.
Взмахнул волшебной палочкой маэстро, и под звуки труб в черном смокинге и ослепительной манишке вышел на арену невероятно импозантный Хогард Браун. Чуть подвитые локоны ниспадали на его благородный лоб, под стрельчатыми бровями благодушно светились глаза.
Он сделал величественный жест. Музыка смолкла.
– Начинаем представление. Большая разнообразная программа. Для детей всех возрастов, от двух до ста и более. Сегодня вы увидите то, что вы увидите! А сейчас на арене мастера разговорного жанра. Попугай Жако! Прошу!
Попугай взлетел и опустился на вытянутую руку ведущего.
– Рекомендую, – дикция Хогарда была безупречна. – Известный лирик с бассейна реки Амазонки.
Попугай кланялся во все стороны, приговаривая:
– Благодарю, благодарю.
– И черный ворон, – продолжал ведущий. Ворон уселся на второй руке. С вороном многие были знакомы, а кое-кто ему даже сочувствовал. Жил он с белой вороной, и, видимо, жил плохо. Грустный и всегда чем-то расстроенный, он обычно целыми днями сидел на ветке клена неподалеку от развилки с гнездом и избегал контактов. Однако, было замечено, после развода он заметно оживился и даже помолодел. Последнее время он подолгу беседовал с Олле и часто посещал рощу у дома Сатона, где безвылетно жил белый Жако. Сейчас ворон выступал в новом амплуа и ему одобрительно похлопали.
– Долгожитель, – сказал Хогард. – И прорицатель.
– Это веррно. Я мудр от пррироды.
Попугай захохотал:
– Прорицатель. Ну предреки, что ждет меня сегодня?
– Могу. Ты потеряешь перо из хвоста своего.
Хогард взмахнул руками, и птицы исчезли.
– Первый номер нашей программы. Человек и конь.
Погас и вновь вспыхнул свет. И не было уже арены и цирка, а была степь без края и одинокое дерево у ручья. Склонился к ручью пятнистый олень и не видит, как охотник ползет, скрываясь в траве. Просвистело копье и вонзилось кремневым наконечником в землю, не долетев до цели. Олень оглядел качающееся неровное древко копья и через мгновение исчез, словно растаял вдали. Охотник, сутулясь, посмотрел ему вслед, вытащил из плеча колючку, подобрал копье, залез на дерево и замер, поджидая добычу.
И тогда возник конь. Он летел, распластавшись над степью, а грива его сливалась с травой. Восторгом загорелись глаза охотника, и, когда конь остановился у ручья, упал он ему на спину, вцепившись в гриву.
Пронзительно заржал, взметнулся конь, и исчезла степь. На арене на золотом коне без седла и узды, раскинув руки, мчался обнаженный по пояс Олле. Он кричал что-то и смеялся, и свистел ветер, нет, это музыка, слитая с движениями коня, со смехом всадника, с аплодисментами и криками детей, звучала в цирке. На всем скаку конь замер, в двойном сальто Олле перелетел через его голову и стал на ноги. Он поклонился зрителям.
– Олле!
Он подошел к коню, обнял его и поцеловал в фиолетовый глаз. Конь вытянул шею, бережно положил ему голову на плечо. Так они и ушли с арены.
Вышел Хогард с попугаем на плече. Хохолок у птицы топорщился, глаза были закрыты.
– Ты что такой хмурый, Жако? Доверься. Здесь все свои.
Попугай оглянулся и сказал на ухо ведущему:
– Меня беспокоит предсказание. Я, конечно, не верю, но рисковать не хочу. Очень уж я впечатлителен. – Он взлетел и уселся на трапеции под самым куполом.
– Следующий номер…
Мимо ведущего на арену выбежали пять волков. Они медленной рысью сделали круг вдоль барьера и уселись конвертом мордами к центру. А в центре – матерый волчище.
– …Хоровой вой. Волки своют песню «Среди долины ровныя».
Сначала жутким, на уровне инфразвука, воем начал вожак. Волки вступали в песню по одному. В темноте пять кругов света выхватили пять одинаковых фигур. Под куполом возникло желтое пятно, сфокусированное на попугае. Волки наподдали.
– Как они свылись! – вплелся в мелодию голос Хогарда. – Нет, как они вызывают… вот это… слышите?
Виолончель повторила мелодию. Хор смолк, и лишь вожак – он уже остался один в своем пятне, – пригнув голову, приканчивал песню на той же низкой ноте.
Засвистела, заскулила вьюга.
– Один.
Кто-то всхлипнул на весь цирк.
– Холодно серому…
Поземка крутила снежные вихри вокруг неподвижно лежащего зверя.
– Голодно.
Над волком поплыли лунные сумерки, и уже какие-то пятилетние из публики, хлюпая носами, активно устремились на арену согреть замерзшего, накормить голодного, обласкать одинокого…
Снова вышел ведущий:
– А сейчас то, что нужно всем, и детям и взрослым: иллюзия! На арене маг. Иван Иванов!!
Маг появился верхом на слоне, держа в руках небольшой сундучок. Он раскрыл его и выпустил воздушный шарик. С тихим звоном тот поплыл в зал и опустился кому-то в руки.








