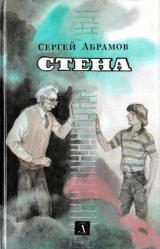
Текст книги "Стена (Фантастические повести)"
Автор книги: Сергей Абрамов
Жанр:
Детская фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Сергей Александрович Абрамов
Стена



СТЕНА
Дом был огромный, кирпичный, многоэтажный, многоподъездный, дом-бастион, дом-крепость, с грязно-серыми стенами, с не слишком большими окнами и уж совсем крохотными балконцами, на которых не то чтоб чаю попить летним вечерком – повернуться-то затруднительно. Его возвели в конце сороковых годов иа месте старого кладбища, прямо на костях возвели, на бесхозных останках неизвестных гражданок и граждан, давным-давно забытых беспечной родней. Впрочем, о кладбище ведали ныне лишь старожилы дома, а их оставалось все меньше и меньше, разлетались они по новым районам столицы, разъезжались, съезжались, а то и сами отходили в мир иной, где всем все равно: стоит над тобой деревянный крест, глыба гранитная с золотой надписью либо дом-бастион.
К слову, автор провел в том доме не вполне безоблачное детство и теперь легко припоминает: никого из жильцов ни разу не беспокоили ни мертвые души, ни тени загробные, ни потусторонние голоса. Пустое все это, вздорная мистика, вечерние сказки для детей младшего дошкольного возраста. Да и то сказано: жить живым…
Крепостным фасадом своим дом выходил на вольготный проспект, на барский проспект, по которому носились как оглашенные вместительные казенные легковушки, в чьих блестящих черных капотах дрожало послушное московское солнце. «Ноблес оближ», – говорят многоопытные французы. Положение, значит, обязывает… Зато во дворе дома солнце ничуть не робело, гуляло вовсю, больно жгло спины мальчишек, дотемна игравших в футбол, в пристеночек, в зоску, в «третий лишний», в «чижика», в лапту и еще в десяток хороших игр, исчезнувших, красиво выражаясь, в бездне времен. Мальчишки загорали во дворе посреди Москвы ничуть не хуже, чем в деревне, на даче или даже на знойном юге, мальчишки до куриной кожи купались в холодной Москве-реке, куда с риском для рук и ног спускались по крутому, заросшему репейником и лебедой обрыву; а летними ночами обрыв этот использовали для своих невинных забав молодые влюбленные, забредавшие сюда с далекой Пресни и близкой Дорогомиловки. Короче, чопорный и мрачно-парадный с фасада, с тыла дом был бедовым, расхристанным шалопаем, да и жили в нем не большие начальники, а люди разночинные – кто побогаче жил, кто победнее, кого-то, как пословица гласит, щи жидкие огорчали, а кого-то – жемчуг мелкий; разные были заботы, разные хлопоты, а если и было что общее, так только двор.
Здесь автору хочется перефразировать известное спортивное выражение и громко воскликнуть: «О, двор, ты – мир!» Автор рискует остаться непонятым, поскольку нынешнее, вчерашнее и даже позавчерашнее поколения мальчишек и девчонок выросли в аккуратно спланированных, доступных всем ветрам архитектурно-элегантных кварталах, где само понятие «двор» больно режет слух, а миром стал закрытый каток для фигурных экзерсисов, или теплый бассейн, или светский теннисный корт, или, на худой конец, тесная хоккейная коробка, зажатая между английской и математической спецшколами. Может, так оно и лучше, полезнее, продуктивнее. А все-таки жаль, жаль…
А собственно, чего жаль? Прав поэт-современник, категорически заявивший: «Рубите вишневый сад, рубите! Он исторически обречен!»
Позже, в пятидесятых, в исторически обреченном доме построили типовое здание школы, разбили газоны, посадили цветы и деревья, понаставили песочниц и досок-качелей, а репейную набережную Москвы-реки залили асфальтом и устроили там стоянку для личных автомобилей. Цивилизация!
В описываемое время – исход восьмидесятых годов века НТР, май, будний день, десять утра – во двор вошел молодой человек лет эдак двадцати, блондинистый, коротко стриженный, невесть где по весне загорелый, естественно – в джинсах, естественно – в кроссовках, естественно – в свободной курточке, в этаком белом куртеце со множеством кармашков, заклепочек и застежек-молний. Тысячи таких парнишек бродят по московским дневным улицам и по московским вечерним улицам, и мы не замечаем их, не обращаем на них своего внимания. Привыкли.
Молодой человек пошел во двор с проспекта через длинную и холодную арку-тоннель, вошел тихо в тихий двор с шумного проспекта и остановился, оглядываясь, не исключено – пораженный как раз непривычной для столицы тишиной. Но кому было шуметь в эти рабочие часы? Некому, некому. Вон молодая мама коляску с младенчиком катит, спешит на набережную – речного озона перехватить. Вон бабулька в булочную порулила, в молочную, в бакалейную, полиэтиленовый пакет у нее в руке, а на пакете слова иностранные, бабульке непонятные. Вон из школьных ворот вышел пай-мальчик с нотной папкой под мышкой. Брамса торопится мучить или самого Людвига ван Бетховена – отпустили мальчика с ненужной ему физкультуры. Сейчас, сейчас они разойдутся, покинут двор, и он снова станет пустым и словно бы ненастоящим, нежилым – до поры…
– Эт-то хорошо, – загадочно сказал молодой человек и сам себе улыбнулся.
Вот тут-то мы его и оставим – на время.
В таком могучем доме и жильцов, сами понимаете, легион, никто никого толком не знает. В лучшем случае: «Здрасьте-здрасьте» – и разошлись по норкам. Это раньше, когда дом только-только построили, тогдашние новоселы старались поближе друг с другом познакомиться: добрый дух коммунальных квартир настойчиво пробовал прижиться и в отдельных. Но всякий дух – субстанция непрочная, эфемерная, и этот, коммунальный, – не исключение: выветрился, уплыл легким туманом по индустриальной Москве-реке. Не исключено – в Оку, не исключено – в Волгу, где в прибрежных маленьких городках, как пишут в газетах, все еще остро стоят квартирные проблемы. А в нашем доме сегодня лишь отдельные общительные граждане прилично знакомы были, ну и, конечно, пресловутые старожилы, могикане, вымирающее племя.
Старик из седьмого подъезда жил в доме с сорок девятого года, въехал сюда крепким и сильным мужиком – с женой, понятно, и с сыном-школьником; до того – войну протрубил, потом – шоферил, до начальника автоколонны дослужился, в этой важной должности и на пенсию отправился. Сын вырос, стал строителем, инженером, в данный момент обретался в жаркой Африке, в дружественной стране, вовсю помогал чего-то там возводить – железобетонное. Жена старика умерла лет пять назад, хоронили на Донском, в старом крематории, старушки-соседки на похороны не пошли, страшно было: сегодня – она, а завтра кто из них?..
Короче, жил старик один, жил в однокомнатной – в какую сорок лет назад въехали – квартире, сам в магазин ходил, сам себе готовил, сам стирал, сам пылесосом орудовал. Стар был.
Он лежал в темном алькове на узкой железной кровати с продавленной панцирной сеткой, укрытый до подбородка толстым ватным одеялом китайского производства. Старику было знобко этим майским утром, старику хотелось горячего крепкого чаю, но подниматься с кровати, шаркать протертыми тапками в кухню, греть чайник – сама мысль о том казалась старику вздорной и пугающей, прямо-таки инопланетной.
У кровати, на тумбочке, заваленной дорогостоящими импортными лекарствами, стоял телефонный аппарат, пошедший вулканическими трещинами: бывало, ронял его старик по ночам, отыскивая в куче лекарств какой-нибудь сустак или адельфан. Можно было, конечно, снять трубку, накрутить номер… чей?.. Э-э, скажем, замечательной фирмы «Заря», откуда за доступную плату пришлют деловую дамочку, студентку-заочницу, – вскипятить, купить, сварить, постирать, одна нога здесь, другая – там… «Что еще нужно, дедушка?..» Но старик не терпел ничьей милости, даже оплаченной по прейскуранту, старик знал, что вылежит еще десять минут, ну, еще полчаса, ну, еще час, а потом встанет, прошаркает, вскипятит, даже побриться сил хватит, медленно побриться вечным золингеновским лезвием, медленно одеться и выйти во двор, благо лифт работает. Но все это – потом, позже, обождать, обождать…
Старик прикрыл глаза и, похоже, уснул, потому что сразу провалился в какую-то черную бездонную пустоту и во сне испугался этой пустоты, космической ее бездонности испугался – даже сердце прижало. С усилием, с натугой вырвался на свет божий и – уж не маразм ли настиг? – увидел перед собой, перед кроватью, странно нерезкого человека, вроде бы в белом, вроде бы молодого, вроде бы улыбающегося.
– Кто здесь? – хрипло, чужим голосом спросил старик.
Пустота еще рядом была – не оступиться бы, не усвистеть черт-те куда – с концами.
– Вор, – сказал нерезкий, – домушник натуральный… Что ж ты, дед, квартиру не запираешь? Или коммунизм настал, а я проворонил?
Пустота отпустила, спряталась, свернулась в кокон, затаилась, подлая. Комната вновь обрела привычные очертания, а нерезкий оказался молодым парнем в белой куртке. Он и впрямь улыбался, щерился в сто зубов – своих небось, не пластмассовых! – двигал молнию на куртке: вниз – вверх, вниз – вверх. Звук этот – зудящий, шмелиный – почему-то обозлил старика.
– Пошел вон, – грозно прикрикнул старик.
Так ему показалось, что грозно. И что прикрикнул.
– Сейчас, – хамски заявил парень, – только шнурки поглажу… – Никуда он вроде и не собирался уходить. – Болен, что ли, аксакал?
– Тебе-то что? – Старик с усилием сел, натянул на худые плечи китайское одеяло.
Он уже не хотел, чтобы парень исчезал, он уже пожалел о нечаянном «пошел вон», он уже изготовился к мимолетному разговору с нежданным пришельцем: пусть вор, пусть домушник, а все ж живой человек. Со-бе-сед-ник! Да и что он тут хапнет, вор-то? Разве пенсию? Нужна она ему, на раз выпить хватит…
– Грубый ты, дед, – с сожалением сказал парень, сбросил куртку на стул и остался в синей майке-безрукавке. – Я к тебе по-человечески, а ты с ходу в морду. Нехорошо.
– Нехорошо, – легко согласился старик. Славный разговорчик завязывался, обстоятельный и поучительный, вкусный такой. – Но я ж тебя не звал?
– Как сказать, как поглядеть… – таинственно заметил парень. – Слушающий да услышит… – Замолчал, принялся планомерно оглядывать квартиру, изучать обстановку.
Обстановка была – горе налетчикам. Два книжных шкафа с зачитанными, затертыми до потери названий томами – это старик когда-то собирал, читал, перечитывал, мусолил. Облезлый сервант с кое-какой пристойной посудой – от жены, покойницы, досталась. Телевизор «Рекорд», черно-белый, исправный. Шкаф с мутноватым зеркалом, а в нем, в шкафу, – старик знал – всерьез поживиться вряд ли чем можно. Ну, стол, конечно, стулья венские, диван– кровать, на стене фото в рамках: сам старик, молодой еще; жена, тоже молодая, круглолицая, веселая; сын-школьник, сын-студент, сын-инженер – в пробковом шлеме, в шортах, сзади пальма… Ага, вот: магнитофон с приемником марки «Шарп-700», вещь дорогая, в Москве редкая, сыном и привезенная – сердечный сувенир из Африки. На тыщу небось потянет…
– Своруешь? – спросил старик.
Глаза его, когда-то голубые, а теперь выцветшие, блеклые, стеклянные, застыли выжидающе. Ничего в них не было: ни тоски, ни жадности, ни злости. Так, одно детское любопытство.
– Ты, дед, и впрямь со сна спятил. – Парень вдруг взмахнул рукой перед лицом старика, тот от неожиданности моргнул, и из уголка глаза легко выкатилась жидкая слеза. – Не плачь, не вор я, не трону твое добро. Мы по другой части… – И без перехода спросил: – Есть хочешь?
– Хочу, – сказал старик.
– Тогда вставай, нашел время валяться, одиннадцатый час на дворе. Или не можешь? Обветшал?
– Почему не могу? – обиделся старик. – Могу.
Он спустил ноги с кровати, нашарил тапки, поднялся, держась за стену.
– Орел, – сказал парень. – Смотри не улети… Сам оденешься или помочь?
– Что я тебе, инвалид? – ворчал старик и целенаправленно двинулся к стулу, где с вечера оставил одежду.
– Ты мне не инвалид, – согласился парень. – Ты мне для одного дела нужен. Я к тебе первому пришел, с тебя начал, тобой и закончу. Понял?
Старик был занят снайперской работенкой: целился ногой в брючину, боялся промазать. Поэтому парня он слушал вполуха и ничего не понял. Так и сообщил.
– Не понял я ничего.
– И не надо, – почему-то обрадовался парень. – Не для того говорено…
Старик, наконец, справился с брюками, надел рубаху, теперь вольно ему было отвлечься от сложного процесса утреннего одевания, затаенная доселе мысль вырвалась на свободу:
– Слушай, парень, раз ты не вор, то кто? Может, слесарь?
– Если не вор, то слесарь. Логично, – одобрил мысль парень, но от прямого ответа уклонился. – А ты что, заявку в домоуправление давал? Унитаз барахлит? Краны подтекают? Это мы враз…
И немедля умчался в ванную, и уже гремел там чем-то, пускал воду, чмокал в раковине резиновой прочищалкой.
Старик, малость ошарашенный космическими скоростями гостя, постоял в раздумьях, стронулся с места, добрался до ванной, а парень все закончил, краны завернул, «чмокалку» под ванну закинул.
– Шабаш контора, – сказал.
– Погоди, шальной. – Старик не поспевал за действиями парня, а уж за мышлением его тем более и оттого начинал чуток злиться: торопыга, мол, стрекозел сопливый, не дослушает толком, мчит сломя голову, а куда мчит, зачем? – Я тебе о кранах слово сказал? Не сказал. В порядке у меня краны, зря крутил. У меня вон приемник барахлить начал, шумы какие-то на коротковолновом диапазоне, отстроиться никак не могу. Сумеешь, слесарь?
– На коротковолновом? Это нам семечки! – победно хохотнул парень и тут же слинял из ванной, будто и не было его.
В одной фантастической книжке – старик помнил – подобный эффект назывался нуль-транспортировкой. Да и как иначе обозвать сей эффект, если старик только на дверь глянул, а из комнаты уже доносился ернический говорок парня:
– А ты, отец, жох, жох! Короткие волны ему подавай… Небось вражеские голоса ловишь, а, старый? А ты «Маячок», «Маячок», он на длинных фурычит, и представь – без никакой отстройки…
– Дурак ты! – легонько ругнулся старик. – Балаболка дешевая…
Опять тронулся догонять парня, даже о чае забыл – так ему гость голову заморочил. Шел по стеночке – по утрам ноги плохо слушались, слабость в них какая-то жила, будто не кровь текла по жилам, а воздух.
– Вражеские голоса я слушаю, как же… Я против них, гадов, четыре года, от звонка до звонка, ста километров до Берлина не дошел… Буду я их слушать, щас, разбежался… Делать мне больше нечего…
– Извини, отец, глупо пошутил. – Парень стоял у тумбочки, а на ней, на связанной женой, покойницей, кружевной салфетке, чистым, бодрым стереоголосом орал подарок из Африки.
– А хочешь – так… – Парень чуть тронул ручку настройки, и певца-лауреата сменил целый зарубежный ансамбль, и тоже безо всяких шумов, без хрипа с сипом. – Или так…
И радостная дикторша обнадежила: «Сегодня в столице будет теплая погода без осадков, температура днем восемнадцать – двадцать градусов».
– Неужто починил? – изумился старик.
– Фирма веников не вяжет, – сказал парень и выключил приемник. – Еще претензии имеются?
– Вроде нет…
– А раз нет, сядем. Разговор будет. – Парень уселся на венский стул верхом, как на коня, из заднего кармана джинсов достал сложенный вчетверо листок бумаги, развернул его. Листок – заметил старик – весь исписан был. – Сядь, сядь, нет правды в ногах. Твоя фамилия Коновалов, так?
«Точно, слесарь, – подумал старик, усаживаясь на диван. – Иначе откуда ему фамилию знать?»
– Ну, – подтвердил.
– Павел Сергеевич?
– И тут попал.
– Я тебе, Пал Сергеевич, буду фамилии называть, а ты отвечай, слышал о таких или не слышал. Первая: супруги Стеценко.
– Это какие же Стеценко? – призадумался старик. – Из второго подъезда, что ли? «Жигуль» у них синий, да… Этих знаю. Сам-то он где-то по торговой части, товаровед кажется, из начальников, а жена – учительница, химию в нашей школе преподает. Моя Соня, покойница, поговорить с ней любила.
– Про химию?
– Почему про химию? Про жизнь.
– Хорошие люди?
– Обыкновенные. Живут, другим не мешают… Соня как-то деньги дома забыла, а в овощном помидоры давали, так химичка ей трешку одолжила.
– Вернули?
– Трешку-то? А как же! В тот же день. Соня и сходила.
– Значит, говоришь, другим не мешают?
– Не мешают. А чего? Вон трешку одолжили…
– Большое дело, – то ли всерьез, то ли с издевкой сказал парень и что-то пометил на листке шариковым карандашом. – Подавший вовремя подает вдвое… Ладно, поехали дальше. Пахомов Семен, пятьдесят седьмого года рождения; Пахомова Ирина, шестьдесят первого.
Старик оживился.
– Сеньку знаю. Сеньку все знают. Я еще мать его помню, Анну Петровну, святая тетка была. Муж у нее по пьяному делу под машину попал – ну, насмерть. В шестьдесят первом вроде?.. Ага, тогда, Сеньке как раз четыре стукнуло… Анна его тянула-тянула, на трех работах работала уборщицей. А что? Тяжко, конечно, а ведь под две сотни в месяц выходило, тогда – ба-альшие деньги. Сенька не хуже других одевался, ел, пил…
– Пил? – быстро спросил парень.
– Лимонад. Это потом он за крепкое взялся. За крепкое – крепко… – Старик засмеялся неожиданному каламбуру, но парень вежливо перебил:
– Короче, Пал Сергеич, время ограничено.
– У меня не ограничено, – будто бы обиделся старик, а на самом деле ничуть не обиделся: просто так огрызнулся, для проформы, чтоб не давать спуску нахальному слесарю. – И у Сеньки не ограничено. Он как выпьет – сразу во двор. И ля-ля, и ля-ля – с кем ни попадя. Известно: у пьяного язык без костей. Ирка за ним: «Сеня, пойдем домой, Сеня, пойдем домой». Где там!
– Бьет?
– Ирку-то? Этого нет. Любит ее до потери пульса. Сам говорил.
– И все знают, что пьет?
– Знают.
– И ни гугу?
– Чего ж зря встревать?
– Позиция… – протянул парень и опять карандашом на бумажке черкнул. – Так… Следующий. Топорин Андрей Андреевич.
– Хороший человек, – быстро сказал старик. – Солидный. Профессор. Книги по истории пишет. Я, когда покрепче был, за их «Волгой» ухаживал: масло там, клапана, фильтры. Сейчас не могу, силы не те… А он, Андрей Андреевич, хоть и ровесник мой, а живчик, сам машину водит, лекции читает… Я вот тоже историей интересуюсь, так он мне свою книгу подарил, с надписью. – Старик сделал попытку встать, добраться до книжного шкафа и предъявить парню означенный том, но парень интереса не проявил.
– Сиди, отец, не прыгай, у меня еще вопросы есть. Внука его знаешь?
– Павлика? Вежливый, здоровается всегда…
– И все?
– А что еще? Ему под двадцать, мне под восемьдесят, здоровается – и ладно.
– Ладно так ладно, – засмеялся парень, сложил листок, сунул в карман, встал. – Все. Допрос окончен. Вы свободны, свидетель Коновалов.
– Погоди, постой… – Старик неожиданно резво – собеседник славный, похоже, утекал! – вскочил, цапнул парня за локоть. – Ты из милиции, точно!
– Ну, ты, дед, даешь! – Парень легко высвободил локоть. – Сначала вор, а теперь милиционер. Неслабо прыгаешь. Да только не вор я и не милиционер! Вот слесарь – это еще туда-сюда, давай на слесаре остановимся. И тебе понятно, и мне спокойно… А ты времени не теряй, завтракай – и во двор. Дыши кислородом, думай о возвышенном. Хочешь – об истории. Вот тебе, кстати, тема для размышлений: почему при Екатерине Второй люди ходили вверх головой? – Засмеялся шутке и к выходу направился. Но вдруг притормозил, посмотрел на вконец растерянного старика. Сказал серьезно: – Да, про мелочишку забыл. Ноги у тебя болеть не станут. И сердчишко малость притихнет. Так что пользуйся, живи, не жалей себя. Себя жалеть – пустое дело. Вот других… – Не закончил, открыл рывком дверь.
Старик совсем растерялся и от царских обещаний парня, и, главное, от того, что он уходил, спешил, уж и на лестничную площадку одной ногой вторгся. Любой вопрос: чем бы ни задержать, лишь бы задержать! Успел вслед – жалобно так:
– Может, ты доктор?
– А что? – Парню, похоже, домысел по душе пришелся. – Может, и доктор. Чиним-лечим, хвастать нечем… – И вдруг сжалился над стариком: – Не горюй, отец, еще увидимся. Я же сказал: с тебя начал, тобой и закончу.
– Чего начал-то?
– Чего начал, того тебе знать не надо, – наставительно сказал парень. – А почему с тебя – объясню. Хороший ты человек, Пал Сергеич.
– Ну уж, – почему-то сконфузился старик, хотя и приятна была ему похвала парня. – Хотя оно конечно: жизнь прожил, зла никому не делал…
Старик вспомнил Соню, покойницу. Это ее слова, в больнице она умирала, понимала, что умирает, тогда и сказала старику: «Жизнь прожила, зла никому не делала».
– Зла не делать – это пустое. Это из серии: «Моя хата с краю», – сказал парень. – Я тебя, Пал Сергеич, хорошим потому назвал, что ты и о добре не забывал.
– Это когда же? – искренне удивился старик. – О каком добре? Ты чего несешь?
– Что несу, все мое, – хохотнул парень, – Не морочь себе голову, отец, живи, говорю. – И хлопнул дверью.
Был – и нет его. Ну точно ноль-транспортировка!
Старик по инерции шагнул за ним – звать-то, звать его как, не спросил, дурак старый! – уперся руками в закрытую дверь и вдруг ощутил, что стоит прочно, уверенно стоит, не как давеча, когда ноги, как мягкие воздушные шарики, по полу волочились. А сейчас – как новые, не соврал парень. Притопнул даже: не болят – и всё.
Время к одиннадцати подкатило, у школьников образовалась переменка – короткая, на десять минут. Но и десять минут – срок, если их с толком провести. В школьном дворе, отделенном от общего зеленым речным забором, октябрятская малышня гоняла в салки, потные пионеры играли в интеллектуального «жучка», похожие на стюардесс старшеклассницы в синих приталенных пиджачках чинно гуляли, решали, должно быть, проблемы любви и дружбы – любовь приятнее дружбы, какие уж тут сомнения! – а их великовозрастные одноклассники, не страшась педсоветов, привычно дымили «Явой» и «Столичными». Можно сказать, изображали взрослых. Но сказать так – значит соврать, ибо они уже были взрослыми, ладно – не по уму, зато по виду. Этакие дяденьки, по недоразумению надевшие кургузые форменные куртки.
Парень вышел из подъезда, немедленно заметил курильщиков, оккупировавших лавочку возле песочницы, и подошел к ним.
– Здорово, отцы, – сказал парень, как красноармеец Сухов из любимого нашими космонавтами фильма «Белое солнце пустыни». Поскольку «отцы», как и в фильме, не ответили, а лишь окинули парня ленивыми, не без высокомерия взглядами, он продолжил: – Капля никотина убивает лошадь.
– А две капли – инвалидную коляску, – скучно сообщил один, самый, видать, остроумный. – Шли бы вы, товарищ, своей дорогой…
– Дорога у нас одна, – не согласился парень. – В светлое будущее. Там и встретимся, если доживете… Но я не о том. Знаете ли вы некоего Топорина Павла?
– Зачем он вам? – спросил остроумный, аккуратно гася сигарету о рифленую подошву кроссовки «Адидас».
– Инюрколлегия разыскивает, – доверительно сказал парень. – Такое дело: умерла его двоюродная бабушка, миллионерша и сирота. Умерла в одночасье на Бермудских островах и завещала внучатому племяннику хлопоты бубновые, пиковый интерес.
Курильщики изволили засмеяться, шутка понравилась.
– Ну я Топорин, – сказал остроумец в кроссовках. – К дальней дороге готов.
– Не спеши, наследник, – охладил его парень. – У тебя впереди физика и сдвоенная литература. Классное сочинение на известную мне тему. Генеральная репетиция перед выпускными экзаменами.
И в это время над двором прокатился раскатистый электрический звон. Перемена закончилась.
– Откуда вы тему знаете? – спросил, вставая, Топорин Павел.
И приятели его с детским все-таки удивлением смотрели на залетного представителя Инюрколлегии.
– По пути сюда в роно забежал, – усмехнулся парень. – Иди, Павлик, учи уроки, слушайся педагогов, а в три часа жду тебя на этом месте. Чтоб как штык.
– В три у меня теннис, – растерянно сказал Павел.
Ошарашил его загадочный собеседник, смял сопротивление наглым кавалерийским наскоком, а главное – заинтриговал, зацепил тайной.
– Теннис отменяется. – Парень был категоричен. – Тем более что корты сегодня заняты: мастера «Спартака» проводят внеплановую тренировку. Всё. – Повернулся и пошел прочь, не дожидаясь новых возражений.

А их и не могло быть: звонок прозвенел вторично, а школа – не театр, третьего не давали.
Старик Коновалов тем временем съел калорийную булочку, густо намазанную сливочным маслом, запил ее крепким чаем, подобрал со стола горстку крошки арахиса, закинул в рот, пожевал. Потом вошел в комнату на новых ногах, вынул из ящика серванта тетрадь в клеточку, карандаш, надел пиджак – и к выходу. Зачем ему понадобились письменные принадлежности, он не ведал. Просто подумал: а не взять ли? И взял, ноша карман не тянет.
Автор понимает, что выражение «вошел на ногах» звучит совсем не по-русски, но трудновато иначе определить механику передвижения Коновалова в пространстве: нога и впрямь казались ему чужими, приставленными к дряхлому телу для должной устойчивости и скоростных маневров.
У Сеньки Пахомова был бюллетень. Простудился Сенька у себя на стройке, смертельно просквозило его на девятом этаже строящегося в Чертанове дома, продуло злым ветром толкового каменщика Сеньку Пахомова, когда его бригада бесцельно ждала не подвезенный с утра цементный раствор. Температура вчера вечером чуть не до сорока градусов доползла, мерзкий кашель рвал легкие, и не помог пока ни бисептол, прописанный районной врачихой, ни банки, жестоко поставленные на ночь женой Иркой.
Ирка ушла на работу рано, мужа не будила, оставила ему на тумбочке у кровати таблетки, литровую кружку с кислым клюквенным морсом и веселый журнал «Крокодил» – для поднятия угасшего настроения. Да еще записку оставила, в которой обещала отпроситься у начальницы с обеда.
«Отпустит ее начальница, ждите больше!» – тоскливо думал Сенька, безмерно себя жалея. Решит небось вредная начальница почтового отделения, в котором трудилась Ирка, что снова запил, загулял, забалдел парнишка-парень, шалава молодой, что не домой надо Ирке спешить, не к одру смертному, а в вытрезвитель – умолять милицейских, чтоб не катили они телегу в Сенькино стройуправление.
Одно утешало Сеньку: в бригаде знали о его болезни, он с утра себя хреново почувствовал, сам бригадир ходил с ним в медпункт и лично видел раскаленный Сенькиным недугом градусник. «Лечись, Семен, – сказал ему на прощание бригадир, – нажимай на лекарства, а то сам знаешь – конец квартала на носу».
Приближающийся конец квартала волновал Сеньку не меньше, чем бригадира. Бригада тянула на переходящий вымпел, попахивало хорошей квартальной премией, и то, что один боец выпал из боевого строя, грозило моральными и материальными неприятностями. Вопреки мнению старика Коновалова, Сенька Пахомов любил не только пить «фруктовое крепленое», но и растить кирпичную кладку, что, к слову, делал мастерски – споро и чисто. У него, если хотите знать, даже медаль была, полученная три года назад, когда – тут следует быть справедливым! – Сенька пил поменее.
Ирку, конечно, жалко. Но терпела пока, мучилась и терпела. Сенька иногда думал: неужто до сих пор любит она его? Думал так и сам себе не очень верил, зябко понимал: терпит его из-за Наденьки. Да и то сказать, получал Сенька прилично, до двухсот пятидесяти в месяц выходило. Плюс Иркины девяносто – сумма!
Квартальная премия была нужна позарез: свозить Наденьку на лето в Таганрог, к теплому морю, к Иркиным родителям.
Сенька, постанывая, выколупнул из обертки две таблетки бисептола, запил теплым морсом, стряхнул градусник и сунул его под мышку, заметив время на будильнике: тридцать пять минут первого… И в тот же момент в дверь позвонили.
Сенька, не вынимая градусника, пошел открывать: неужто кого из дружков принесло? Нашли время, сейчас ему только до выпивки, о ней и подумать тошно.
Пока шел до двери, искашлялся. И то дело: пусть дружки незваные знают, что Семен Пахомов не сачкует, а вправду заболел. Но за дверью оказался не очередной алкореш, а совсем чужой, незнакомый парень в белой куртке и в джинсах, по виду не то из управления, из месткома, не то адресом ошибся.
– Чего надо? – невежливо спросил Сенька.
– Есть Дело, – таинственным шепотом сказал парень.
– Болен я, – сообщил Сенька, но заинтересованно подумал: что за парень такой? Что за дело у него? Да и не из алкашей вроде, нормальный такой паренек, чистенький, ухоженный.
– Это нам не помешает, – весело заявил парень. – Это даже к лучшему. А ты не болтайся голый, дуй в постель, я дверь замкну.
Вошел в квартиру, чуть подтолкнул вперед Сеньку, обхватил его за талию, как раненого, и повел, приговаривая:
– Сейчас мы ляжем, сейчас мы полечимся…
– Пить не буду, – твердо, как сумел, сказал Семен.
– И я не буду, – с чувством сообщил парень. – Оба не будем. Коалиция!
Семен лег обратно в постель – на правый бок, на градусник, а парень заходил по комнате от окна к Сенькиному одру, ловко, как слаломист, обходя стол и стулья.
Минутная стрелка на будильнике подползла к цифре «9».
– Вынимай, – сказал парень.
Сенька не стал удивляться тому, что парень угадал время, у Сеньки никаких лишних сил не было, чтобы чему-нибудь удивляться; он вытащил градусник, глянул на него и мрачно, с надрывом, произнес:
– Каюк котенку Машке.
– И не каюк вовсе, – не согласился парень, не глядя, однако, на градусник. – Тридцать семь и семь. Вылечим в минуту.
– Х-ха! – не поверил Сенька, и от этого «х-ха» зашелся кашлем, весь затрясся, как будто в груди у него проснулся небольших размеров вулкан.
Парень быстро положил руки Сеньке на грудь, прямо на майку, слегка надавил. Кашель неожиданно прекратился, вулкан стих, притаился. Сенька кхекнул разок для проформы, но парень строго прикрикнул: «Цыц!» – и, приподняв ладони, повел их над майкой – сантиметрах так в пяти, двигая кругами: правую ладонь по часовой стрелке, левую – против.
Сеньке стало горячо, будто на груди лежали свежие, только из аптеки, горчичники, но горчичники жгли кожу, а жар от ладоней парня проникал внутрь, растекался там, все легкие заполнил и даже до живота добрался, хотя живот у Сеньки не болел.
Парень свел ладони прямо над сердцем, и Сенька вдруг почувствовал, что оно притормаживает, почти останавливается, и кровь останавливает бег, свертывается в жилах, и меркнет белый свет в глазах, и только жар, жар, жар – вон и одеяло, похоже, задымилось…
– Хватит… – прохрипел Сенька.
– Пожалуй, хватит, – согласился парень и убрал руки.
Сердце вновь пошло частить, но ровно и весело; жечь в груди перестало, да и болеть она перестала, руки-ноги шевелились, в носу – чистота, никаких завалов, дышать легко – жив Семен!
– Все, – подвел итог парень. – Ты здоров, как сто быков, пардон за рифму.
– А температура? – воспротивился Семен. – Тридцать семь и семь!
– Тридцать шесть и шесть не хочешь?
– Хочу.
– Бери, – разрешил парень. – Ставь градусник, Фома неверующий. Десять минут у тебя есть.
Соглашаясь с ощущениями, Сенька, человек современный, хомо, так сказать, новус, больше доверял точным приборам, не поленился снова поставить градусник, хотя и понимал, что парень не соврал.








