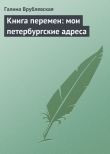Текст книги "Обратные адреса"
Автор книги: Семен Бытовой
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
– Нет и Пашки моего, погиб в боях под Кингисеппом... – И, помолчав несколько секунд, с тревогой произнес: – Хоть бы маму сберечь. Ты ведь, Михалыч, знаешь, что для меня моя мама...
Чтобы как-то отвлечь друга от печали, я сказал:
– Давай, Саша, пока тихо, я тебе стихи почитаю.
Он оживился, торопливо закурил.
– Читай!
В немногие свободные от службы часы я исподволь писал исторический цикл стихов о Дальнем Востоке, начатый еще в Хабаровске. Хотя у меня было написано с десяток стихотворений, я не только нигде не печатал их, но еще никому не читал. И я прочел Саше большое стихотворение о землепроходце Владимире Атласове, первооткрывателе Камчатки.
Александр, помнится, похвалил стихи и даже высказал мнение, что нынче, когда идет война, как-то по-новому воспринимаются темы русской истории, ибо патриотизм наших предков, их смелость и бесстрашие в делах России служат теперь хорошим примером для нас, потомков.
– Так что, друг милый, пиши дальше...
Он оказался прав. В 1944 году у меня уже был готов весь исторический цикл, он составил книгу "Земля отцов", и в том же году она вышла в ленинградском Гослитиздате.
– Ну, а теперь ты почитай новенькое, – попросил я.
– Слушай, недавно только написал:
Огонь войны не сжег в душе, не выжег
Ни нежных чувств,
Ни дорогих имен.
Как темен путь!
Вот орудийных вспышек
Мгновенным блеском озарился он.
И в этот миг, взнесенные высоко,
Предстали этажи передо мой,
И глянули ряды дрожащих окон
С огромных стен, израненных войной.
Рванулось сердце...
В этот момент в туманном воздухе засвистело и где-то неподалеку так рвануло, что я схватил Сашу за рукав шинели и утащил под арку.
Несколько минут то здесь, то там рвались артиллерийские снаряды, потом один упал в Фонтанку, и черный столб битого льда и воды вскинулся высоко в воздух. Попал снаряд и в соседнее здание, и грохоча, посыпались на панель кирпичи.
Дом, в котором когда-то жил Саша, стоял около Калинкина моста, шестиэтажный, с обвалившимся карнизом и облупленными стенами, без стекол, лишь несколько оконных рам заделаны фанерой, и в форточки выведены железные трубы от печей-времянок.
Двор был узкий, темный, и повсюду громоздились холмы намерзшего льда, сугробы снега. Ни к одной из лестниц не было протоптано тропинки, будто давно уже никто не выходил из дома на улицу.
Мы поднялись на пятый этаж и остановились перед обитой клеенкой дверью.
– Кажись, тут, – сказал нетвердо Саша и постучал кулаком.
Из квартиры никто не ответил. Тогда он постучал сильней. Опять ни звука.
– Возможно, эвакуировались, – подумал он вслух, – или умерли. Что ж, пошли.
Был уже одиннадцатый час утра, а путь предстоял долгий: до Кировского завода добрых часа полтора ходьбы, а оттуда до больницы Фореля хотя и недалеко, но как повезет – редко когда там не обстреливали.
Нам, однако, повезло, мы попали как раз в затишье и, прибавив шагу, пошли через изрытое воронками поле. Снег здесь уже наполовину стаял, и под ногами хлюпала вода. Но мы не обращали на это внимания, шли, дорожа каждой тихой минутой, и, как только вдали показалась огневая позиция, командир батареи, оповещенный дежурным, вышел навстречу.
Он повел нас в подвальное помещение под двухэтажным кирпичным зданием старой постройки с начисто сорванной крышей и без единого стекла в оконных рамах.
– Что-то тихо у вас сегодня, – сказал я. – В штабе предупреждали, что вас обстреливают круглосуточно.
Капитан сдержанно улыбнулся:
– У нас, как на море, затишье перед штормом!
В подвале, освещенном "летучей мышью", был огорожен фанерой вместительный угол, там вдоль стены стояли две железные койки, небольшой стол, тумбочка с телефонными аппаратами.
– Садитесь, товарищи, – сказал капитан. – Сейчас придет мой замполит, будем обедать.
Вскоре явился замполит, молоденький бравый лейтенант, на нем все с иголочки – шинель, шапка-ушанка, хромовые сапоги гармошкой; оказалось, он только недавно из училища.
Когда я сказал, что со мной новый сотрудник "Защиты Родины" ленинградский поэт Александр Решетов, замполит несколько даже растерялся и с каким-то удивлением посмотрел на Сашу.
– Если будет возможность, соберите личный состав, мы вашим батарейцам стихи почитаем, – сказал я.
– А как же, – оживился замполит, – непременно! У нас ведь график составлен: когда фрицы стреляют, а когда молчат. – Он глянул на ручные часы. – Скоро начнут долбать, но мы в это время будем обедать, а в четырнадцать ноль-ноль наступит минут на двадцать пять затишье.
Так оно и случилось. Не успел повар принести в котелках первое, как вокруг здания начали рваться снаряды. Подвал заходил ходуном, у нас с Сашей застревал кусок в горле, а командир и замполит, склонившись над котелками, спокойно хлебали щи с солониной.
Повар, словно желая показать свое полное равнодушие к обстрелу, принес второе и, убрав со стола пустые котелки, быстро выбежал из подвала.
Обстрел меж тем усилился. Один снаряд упал где-то совсем близко, воздушной волной рвануло дверь, она с шумом распахнулась, и в подвале запахло гарью.
Капитан снял телефонную трубку:
– Никитин, что там у тебя на огневой позиции? Порядок, говоришь? Следи, чтобы никто не высовывался из укрытий. А девчата как? Тоже нормально? Ну, желаю удачи! – и положил трубку.
– У вас на батарее и девушки служат? – спросил Саша.
– А как же, служат! Трое связисток. Когда они только прибыли к нам, мы их сперва поставили на кухню поварихами. Так никакого сладу с ними не было. "Как же так, товарищ капитан, на других батареях наши ленинградки связистками служат, и даже на дальномере. Так разве мы хуже?!" Конечно, можно было бы пресечь разговоры, по воинскому уставу ведь не положено. Где поставили – там и служи! Но девушки-ленинградки горели желанием отомстить врагам за муки родного города, за смерть своих родных. – Он посмотрел на замполита. – Подумали и решили перевести во взвод связи. Молодцы, вполне оправдали себя на боевом посту. Смелости им не занимать, глядя на них, некоторые наши воины сами здорово подтянулись.
– Надо мне с ними познакомиться! – сказал Саша. – Может, и написать о них стоит!
Хотя Александр был опытным воином – он участвовал в боях с белофиннами и на нынешней войне достаточно обстрелялся, – здесь все было ему внове, и он буквально засыпал капитана и замполита вопросами. Мне был понятен его интерес к зенитчикам: чтобы написать о них, нужно знать и род оружия, и приемы ведения боя с вражескими самолетами.
– Что, и во время такого обстрела, – спросил он, – зенитчикам приходится стоять у своих пушек?
– А как же, – сказал капитан, не сочтя вопрос наивным. – Свои налеты на Ленинград гитлеровцы сопровождают жестокими артобстрелами. Это чтобы подавить наши огневые средства, расчистить путь бомбардировщикам. Так было, к примеру, во время недавнего боя, когда мы сбили "Юнкерс-88". Снаряды рвались прямо у орудийных котлованов, но наши пушки не молчали.
– И никого не убило и не ранило?
– Двоих легко ранило, но они не вышли из боя...
Ровно в 14.00, как и говорил замполит, обстрел прекратился.
Когда мы пришли на огневую позицию, личный состав уже собрался возле пушек. Только разведчики остались на посту – вглядывались в туманное небо.
После того как замполит представил нас, я сказал несколько слов об Александре Решетове – авторе многих книг, участнике финской войны, награжденном орденом Красной Звезды.
– Наверное, многие из вас читали в нашей газете стихи "Голоса храбрых"? – спросил я.
– А как же, читали, – раздались голоса.
– Перед вами автор. Предоставляю ему слово.
Саша прочел два или три довоенных стихотворения, потом одно из военного цикла "На ленинградской улице":
Кто под луной не вспомнил дымноликой
Родную мать?
Чье сердце нам верней?!
Гнев наших залпов,
Равен будь великой
Любви многострадальных матерей!
Минуты затишья бежали быстро, командир батареи стал поглядывать на часы, и, только я сменил Сашу, разведчик доложил:
– В воздухе звук мотора "Ю-88"!
– По места-а-а-ам! – скомандовал капитан и велел нам уйти в подвал.
– Разрешите остаться на огневой позиции, – попросил Саша сконфуженно. – Призывали мы своими стихами к бою, а сами в укрытие... – И, глянув на замполита, спросил: – Что о нас подумают бойцы?
– Худо не подумают, – уверенно сказал лейтенант. – А рисковать ни к чему. Раз в воздухе бомбардировщики, с минуты на минуту начнется и артналет. А мы с капитаном за вас в ответе. Пошли, товарищи. Нужных вам для беседы людей будем вызывать по одному в подвал. Так оно будет лучше...
– Тогда пришлите одну из ваших связисток! – попросил я.
Минут через пять явилась Таня Кувшинкина, маленькая, несколько медлительная, в ватных брюках и куртке. Неловко переступив с ноги на ногу, откинув со лба шапку, доложила:
– Ефрейтор Кувшинкина по вашему приказанию явилась!
– Садитесь, Кувшинкина, – сказал замполит. – С вами хотят побеседовать товарищи из редакции.
Она слегка пожала плечами, словно недоумевая, почему именно ее вызвали для беседы, распустила ремень, присела на краешек табуретки.
– Только навряд ли я гожусь для беседы. У меня лично ничего такого интересного нет...
После того как Саша задал ей несколько вопросов, на которые она отвечала коротко: "Само собой!" и "Все это было", Кувшинкина рассказала, что родилась в Ленинграде, отец рабочий с механического завода и с первого дня войны на фронте. Мать до зимы работала на том же заводе, где делают мины, а в феврале сорок второго, ослабевшая от голода, слегла и через две недели умерла.
Кувшинкина остановилась, тяжело перевела дыхание, искоса глянула на замполита и, сжав в кулачки свои маленькие руки, продолжала:
– А в квартире ни живой души. Кто раньше мамы моей умер, а кто эвакуироваться успел. Что же делать, думаю, не оставить же маму мертвой в постели. Надо же ей свой последний долг отдать. Я за зиму насмотрелась, как возят на детских санках покойников, вспомнила, что на чердаке лежат мои саночки, на которых в детстве каталась. Прибрала маму в голубое платье, что надевала по выходным дням, завернула в байковое одеяло, обвязала бельевой веревкой, а спустить саночки с пятого этажа не могу. Хорошо, дворничиха Фомина помогла. Словом, впряглась в саночки, везу на Охтинское, а на глазах слезы смерзаются. Тут оглянулась и вижу, что не одна я везу на кладбище своих родных. Кто, так же как я, на саночках, кто на фанере, а кто просто по снегу волочит. Когда же добрались до Охтинского, там уже порядочно было людей. На кладбище снег по колено, не видать могил, одни кресты да памятники торчат. Ну, протащила немного саночки по снегу, остановилась и хотела лопатой вырыть хоть какую ни есть могилку. А земля мерзлая, как камень; сколько ни долбила, только лопата гнулась, нисколько земля не поддалась. Так не у меня одной. Постояла-постояла и так вместе с санками оставила маму на снегу. Когда морозы спадут, приду и захороню как положено...
Она вытерла кулачками влажные глаза и после короткой паузы продолжала:
– Вот так я и осталась одна. Отцу сообщила не сразу, спустя, наверно, месяц, однако ответа от него долго не приходило. Я уже было подумала, что и его нет в живых, и только в конце марта получила от него весточку из госпиталя. "Просись, – писал он, – доченька, в армию, а то погибнешь от голода. Я тебе, Танечка, нынче не помощник. Дважды произвели мне операции, жду третьей. Так что сама по мере сил пробивайся к жизни..." И пошла я обивать пороги по военкоматам. Выслушает меня военком, посочувствует, а в армию не берет. "Ну какой из тебя боец, маленькая, – сказал один военком. – Ведь совсем еще пичужка, просись, чтобы тебя эвакуировали из Ленинграда!" А я стою на своем, хочу заплакать, но думаю, как увидит на глазах слезы, так и вовсе разговаривать со мной, с плаксой, не станет. "А как ваша фамилия, товарищ военком?" – спрашиваю. Он как глянет на меня: "А зачем тебе моя фамилия, что, жаловаться на меня хочешь?" – "Нет, не жаловаться, – говорю, – просто так, для интересу". – "Ну, раз "для интересу", скажу: батальонный комиссар Торгуев!" – "Так вот, товарищ батальонный комиссар, – говорю, – сейчас вернусь в свою пустую квартиру, напишу записку: "Дорогие товарищи, в смерти моей виноват военком района Торгуев" – и повешусь". Он сперва принял мои слова за шутку, но тут же, как от испуга, вскочил, переменился лицом, выбежал из-за стола и, взяв меня за плечи, усадил в кресло. "Ладно, Кувшинкина, что-нибудь сейчас придумаем". И придумал. "Сходи с моей запиской к себе на завод "Светлана", – я, между прочим, перед войной после семилетки поступила в ФЗО завода "Светлана", – там тебя, Кувшинкина, зачислят в комсомольско-бытовой отряд. Все-таки будешь не одна, а в коллективе, и время от времени наведывайся ко мне, может, что и подвернется, скажем санитаркой в военный госпиталь". – "Какое там на завод, – говорю, – не по силам мне, совсем уж отощала, едва ногами двигаю. Да и в пустой квартире жить не могу – тоска и страх! Спасибо, дворничиха Фомина приютила". Вскорости узнаю, что стали девушек-добровольцев брать в армию. Я, понятно, сразу же к товарищу Торгуеву. Ну, думаю, на этот раз не откажет! Но вот беда: мне еще восемнадцати нет, и я решила не предъявлять паспорта. Так и сделала. На вопрос: "Сколько лет?" – отвечаю: "Восемнадцать". "Паспорт?"! Опять говорю: "Нету, дом наш разбомбило, все документы под кирпичами остались". Словом, как ни крутили, ни вертели, все же по внешнему виду дали мне восемнадцать. – И, помолчав, заключила: – Вот так я попала в батарею!
Она встала, но почему-то не торопилась уйти.
– Что у вас еще, Кувшинкина?
– Разрешите, товарищ лейтенант, я еще два слова добавлю.
– Добавьте.
– Так вот, может, это нечестно перед боевыми друзьями по батарее, только жить мне не дает желание служить в пехоте, в разведке, чтобы за "языками" ходить. Ничего не могу с собой поделать: ненавижу фрицев до того, что в другой раз как подумаю, что есть они на земле, спать не могу. Да я бы их вот этими руками, – она показала свои маленькие руки, – вот этими самыми душила бы их. – И к замполиту: – Вы уж извините меня, товарищ лейтенант, что стремлюсь уйти с батареи. Сами видите, причина у меня уважительная.
Саша был в восторге от Тани Кувшинкиной.
– Вот она, моя девушка со "Светланы"! – восторженно произнес он. – У меня, Таня, есть стихотворение "Девушка со "Светланы". Правда, я написал его давно, когда ты была еще совсем маленькая.
Таня удивленно посмотрела на Решетова.
– Что же вы не прочли его?
– Теперь жалею, что не прочел. Непременно перепечатаю на машинке и пришлю тебе, Таня, на память.
– Честное комсомольское?
Тут стали рваться снаряды.
– Разрешите идти, а то мне – к телефону!
Она повернулась "кругом" и побежала вверх по ступенькам на огневую позицию.
Мы пробыли на батарее двое суток и на раннем рассвете, воспользовавшись затишьем, отправились в обратный путь.
– Ну, друг Ехвимыч, понравилось тебе у наших зенитчиков?
– Спасибо тебе, Михалыч! Чувствую себя на месте!
Все эти дни Саша жил мыслью написать второе стихотворение под старым названием "Девушка со "Светланы", и в голове у него уже рождались строки. Время от времени, словно проверяя себя, он читал их мне, но стихи давались ему трудно, и он так и не дописал их до конца.
К нашей общей печали, а Сашиной особенно, в дни больших апрельских налетов на Ленинград – немцы сопровождали целые армады своих бомбардировщиков жесточайшими обстрелами – от прямого попадания в блиндаж погибла Таня Кувшинкина. Когда ее откопали, она так и сидела, склонившись над аппаратом с телефонной трубкой в руке.
Решетов был потрясен гибелью девушки со "Светланы". И в тот же день в один присест написал в очередной номер газеты "Клятву ленинградки":
Не плакать по верному другу,
Не плакать по милому сыну,
Не плакать по кровному брату
Велит нам немолкнущий бой!
Быть воина верной подругой,
Быть матерью сына-героя,
Быть брата достойной сестрою
Велит нам наш город родной!
Справедливости ради следует сказать, что газетные корреспонденции писал он медленно, хотя в свое время, помнится, пробовал свой силы и в прозе. Он жил стихами, считая, что голос поэта должен звучать в эти грозные дни неумолчно, и наш редактор, идя навстречу Решетову, больше всего ждал от него стихов.
Без всякого сомнения, написанное им в дни войны и блокады занимает в поэтической летописи тех лет свою особую страницу.
За короткое время мы успели побывать не только на зенитных батареях, но и в прожекторном полку, и в полку ВНОС. Посты наблюдения и оповещения, как правило, были расположены в лесистой местности, и не только на вышках, но и на макушках высоких деревьев.
Побывав на таком посту в районе Колпина, Саша взобрался на макушку сосны и, взяв у дежурного бинокль, несколько минут смотрел на передний край обороны. Спустившись на землю, стал уверять меня, что ясно видел вражеские траншеи и немцев, сидевших в них.
– Давай, Михалыч, залезь на дерево, – предложил он.
Но я отказался – нужно успеть побеседовать с бойцами и возвращаться в редакцию, где мне предстояло дежурить по номеру.
Был конец апреля, дороги раскисли, и, хотя силенки наши были на пределе – сказывалось недоедание, – за разговорами быстро летело время и не столь дальним показался путь от Колпина.
Говорили о всяком и разном, но больше всего о родине, о дружбе, о любви... И конечно, читали друг другу стихи, и старые, и только что написанные.
...Однажды мы пораньше освободились в редакции, и Саша увел меня к себе на новую квартиру на Петроградской стороне. Разыскав чудом уцелевшую "довоенную" луковку, разрезал ее на равные дольки и стал вспоминать нашу первую встречу летом 1925 года в поезде, и как он угощал меня салом с огурцами.
– А нынче, прости, ничего, кроме луковки, нет...
Признаться, я чувствовал, что он в этой квартире вроде бы не в своей тарелке, и не потому, что было неуютно и холодно – стужа в блокадную пору гуляла по всем ленинградским квартирам, – он ощущал этот холод не телом, а душой.
Я знал, что он не был счастлив с женщиной, к которой ушел перед войной, оставив семью, и, когда я заговорил об этом, Александр беспомощно махнул рукой и ничего не ответил.
Зато как тревожился и тосковал о дочери Светланке, долго не получая о ней известий. К слову сказать, с этой тревогой жил он все годы и мучился страшно, когда Светлана уезжала в Сибирь с геологической партией. Звонил мне ежедневно с одной и той же фразой:
– Все еще ничего нет от Светланы, не случилось ли чего с ней? Зайди, пожалуйста, а то у меня на сердце камень-валун обомшелый...
К сожалению, наша совместная работа в армейской газете оказалась непродолжительной. С приходом нового редактора начались между ними трения, уладить их мне не удалось, и Саша решил уйти.
На несколько дней он куда-то исчез, потом пришел за своим чемоданчиком.
– Ты куда?
– Завтра получаю назначение, – сказал он. – Отправляюсь в пехотную часть, а в какую именно, еще точно не знаю. – И, прощаясь, прибавил шутливо: – Пехота, сам знаешь, царица полей.
– Зато артиллерия – бог войны!
– Это верно, – улыбнулся он, – так пусть хранит тебя твой бог войны! Чтобы после победы встретились! Спасибо тебе, дружище, за все, что для меня сделал.
До самого конца войны мы не виделись. Раза два или три получал я от него коротенькие письма, в последнем он сообщал: "Пишу тебе из Европы, так что легко тебе догадаться, сколько уже прошел вперед..."
Он действительно прошел от стен Ленинграда и до Австрии так, как дай бог каждому пройти такой славный путь!
...Особенно памятно время, когда накануне своего шестидесятилетнего юбилея он готовил к изданию итоговую книгу "Из моих десятилетий". Он был уже очень болен, страдал, но частенько вызывал меня к себе посоветоваться, какие стихи включать в сборник, а какие не включать.
В октябре 1969 года книга "Из моих десятилетий" вышла в свет, и Решетов не скрывал своей радости. Это действительно одна из лучших книг поэта, итог сорока лет творческой работы.
Еще три года судьба подарила мне возможность встречаться с моим другом, разговаривать с ним, хотя каждая встреча оставляла грустное чувство, тяжко было видеть его страдания.
Уже в последние дни жизни, в больнице, слабеющей рукой написал он исповедальное стихотворение:
За буйную молодость, что ли,
Ты платишь
На склоне годов
Полуночным стоном от боли,
Дневною молитвой без слов.
Но только с любого распятья,
И смертную чувствуя дрожь,
Раскаянья или проклятья
Ты молодости не пошлешь.
Не сказки о ней и побаски
Ты помнишь,
И верится: вот,
Родством дорожа по-солдатски,
Нагрянет она
И спасет.
Не нагрянула и не спасла.
До сих пор отдаются в моем сердце слова Сашиной матери Марии Павловны, прекрасной русской женщины, слова, стоном вырвавшиеся из ее груди над гробом любимого сына:
– Я свою дорогу сынами устлала...
За две недели до кончины Саши пришло к ней известие о смерти старшего – Алексея.
Четыре сына, четыре буйно цветущих дерева рухнули, как в бурю, на ее долгом – из девяти десятилетий – жизненном пути...
ЕЛИЗАР ТИМКИН
1
В последний раз я заезжал к Елизару Власовичу Тимкину по пути в Охотск, куда из-за непогоды мне так и не удалось попасть. На трое суток зарядили нудные дожди, и до того они размыли летное поле, что ни сесть, ни подняться самолетам не было никакой возможности.
Я уже хотел было плыть морем, но штормило, и пароход, по слухам, отстаивался где-то в тихой бухте, ждал, как тут говорят, пока затишает.
Чтобы не тратить попусту время – мне еще предстояло после Охотска побывать на Амгуни, – попросился на попутный катер и, добравшись к ночи в поселок Тыр, отправился искать пристанище.
В доме, куда я постучался, хозяйка, встретив меня у порога, сказала, что у них очень тесно – четверо внучат приехали на каникулы – и даже на полу не найдется местечка.
– А вы спробуйте сходить к Тимкиным, – посоветовала она, – у Елизара Власича места свободного много, у них завсегда живут командировошные...
– Какой он из себя, Тимкин? – спросил я, подумав, что это, должно быть, не тот, которого я знаю. Ведь Елизар Власович, как мне было известно, живет в Чомигане.
– Невысокий такой, в очках. Он туточка у нас клубом заведывает. – И прибавила: – Добрый человек, не откажет.
Я шел в сплошной темноте, увязая сапогами в грязи, ориентируясь по тусклым огонькам в окнах домов, раскинутых вблизи высоченного Тырского утеса, и вспоминал, как впервые познакомился с Елизаром Власовичем Тимкиным. Признаться, я не очень был уверен, что иду к нему именно, хотя по всем приметам и еще по тому, что сходились не только фамилия, но и имя-отчество, должно быть, это был тот самый Тимкин.
И еще вспомнилось, как в один из своих давнишних приездов в Москву, встретившись с Иосифом Уткиным, я рассказал ему о Елизаре Тимкине, и до того взволновала поэта судьба этого человека, что Иосиф Павлович вскочил с кресла, выбежал из-за письменного стола и в категорической форме потребовал:
– Слушайте, немедля отбросьте все остальное и садитесь за поэму! Пусть на это уйдет два-три года, поверьте моему слову, стоит! – И, немного успокоившись, мечтательно, как бы думая вслух, продолжал: – А ведь всего-навсего культпросветчик, и фамилия у него, прямо скажем, по должности: Тимкин! А какая сила души, какое мужество! Нет, дорогой мой, вы счастливый, что живете на Дальнем Востоке и можете общаться с такими людьми, как ваш Тимкин!
Начну, однако, с самого начала: как встретился с Елизаром Тимкиным и зачем зимой 1937 года ехал из Хабаровска в Москву.
Я находился в Биракане, когда в адрес нашего "Тихоокеанского комсомольца" пришла телеграмма из ГИХЛа за подписью Иосифа Уткина: "Вопрос издания вашего сборника стихов "Дальний Восток" решен положительно. Сообщите возможность приезда в Москву для работы над рукописью".
Чтобы не срывать задания газеты, наш новый редактор Борис Осипович Фейгин решил ничего не сообщать мне в Биракан, а дождаться моего возвращения.
Когда я через три дня вернулся в Хабаровск, Фейгин строго и в то же время несколько восторженно сказал:
– Быстренько садись и разгружай все, что привез из командировки.
– Что так спешно? – удивился я, подумав, что материал нужен в очередной номер.
Редактор сдержанно улыбнулся, снял свои большие круглые очки, поднес к глазам телеграмму и зачитал ее.
– От самого Иосифа Уткина, понял? – сказал он со значением. – Так что быстренько разгружайся и кати в Москву. Хочешь – в счет отпуска, не хочешь – на свой собственный кошт. И так и так можно.
К слову сказать, Борис Осипович Фейгин, как и его предшественник Владимир Шишкин, очень нравился нашему редакционному коллективу. Опытный комсомольский вожак, он был выдвинут в Профинтерн и несколько лет работал под руководством Лозовского. Он умел внести живинку в любое редакционное задание, знал, кто из сотрудников на что способен, и даже у самых неумелых зажигал божью искру, без которой ничего путного в газету не напишешь. Если материал у них не удавался, сам переписывал его, только бы не обидеть человека. Правда, за свою излишнюю доверчивость нередко страдал, но и в этом случае, в отличие от Шишкина, ни на кого не таил обиды и брал вину на себя.
...Я уже собрался идти на вокзал, прибежал проводить меня мой товарищ Миша Есенин. Чуть ли не со дня моего приезда на Дальний Восток мы были с ним неразлучны и редкий день не виделись. Он – один из моих немногих друзей, на кого можно было положиться и от кого ничего не нужно таить. Узнав, что книга моя в Москве одобрена, он радовался так, точно не мне, а ему, Мише, выпала такая удача.
Кое-кому, правда, наша дружба казалась странной, ведь он не был ни литератором, ни журналистом, – по профессии финансовый работник Миша Есенин в свои двадцать два года уже занимал ответственный пост в краевом тресте. Но я давно заметил, что душа моего друга больше лежит к литературе, потому что он не пропускал ни одного писательского собрания, ни одной творческой дискуссии и постоянно находился в среде дальневосточных литераторов.
Среднего роста, плотного сложения, с правильно очерченным, открытым лицом и светлыми, зачесанными назад волосами, Миша, помнится, очень нравился Фадееву. Когда мы, начинающие, собирались в номере у Александра Александровича, всегда с нами был и Миша Есенин. Однажды Фадеев спросил его:
– Ну а ты, кареглазый, что собираешься мне прочесть?
Миша от смущения покраснел, заерзал на стуле и растерянно пробормотал:
– Извините, Александр Александрович, ничего не собираюсь...
– А я, признаться, подумал, что ты поэт. Уж очень ты на поэта похож!
Тут вмешался Петр Комаров:
– Наверно, парень исподволь что-то сочиняет, да до поры до времени таит.
...Узнав, что я собираюсь в Москву в своем изрядно поношенном кожушке на цигейке – в командировках я частенько подкладывал его под голову, – мой друг пришел в смятение:
– Да ты что, срамиться едешь? Москва, знаешь, слезам не верит! Где-где, а в столице особенно по одежке встречают и по уму провожают.
– Что же делать?
– А вот что! – И, сняв с себя модную по тому времени полудошку из собачьей шкуры мехом наружу, отдал мне. – Бери надень, а я тут похожу в твоем кожушке.
Курьерский поезд в то время шел из Хабаровска в Москву около десяти суток, однако нам, дальневосточникам, такая долгая дорога не была в тягость. Едва только состав отойдет от станции, пассажиры, перезнакомившись, начинали жить одной дружной семьей.
Каких только людей не встретишь, бывало, в экспрессе! Словно их специально созвали сюда со всех уголков огромного края – от таежной реки Урми и до берегов Берингова пролива; кто впервые за пять лет едет в свой полугодичный отпуск, кто возвращается из экспедиции, кто – в командировку, решать хозяйственные дела в наркомате.
Это нынче воздушный лайнер "ИЛ-62" перебрасывает с берегов Амура в Москву за каких-нибудь семь-восемь часов и пассажиры знакомятся между собой шапочно, а в ту давнюю, повторяю, пору даже первые знакомства переходили в дружбу, и длилась она нередко долгие годы.
Так подружился я в той дороге с Елизаром Власовичем Тимкиным, человеком, как я после узнал, необыкновенным, хотя ни своим внешним видом, ни тем более профессией он не выделялся.
Он и в вагоне старался держаться особняком, почти на каждой станции бегал со своим медным чайником за кипятком, потом долго и тщательно заваривал, отсыпая из пачки ровно три ложечки чая, и укутывал чайник махровым полотенцем, чтобы он не остыл, пока наша компания не освободит столик.
Низкого роста, щупленький, с узкими, покатыми плечами, вытянутым, озабоченным лицом, в старомодных очках в металлической оправе со скрепленными медной проволокой дужками, к тому же без правой руки – рукав был загнут повыше локтя и пришпилен английской булавкой, – он как уткнется в газету, так и не отложит ее, пока не прочтет всю от начала до конца.
Мы только знали, что живет он постоянно где-то на Севере и едет в Москву показаться врачам-окулистам.
Я хотел уступить ему нижнюю полку, но Тимкин решительно отказался, заявив, что любит ездить на верхней, в кассе ему даже предлагали нижнюю, но он попросил верхнюю.
– Наверху спокойней, – сказал он. – Можно в свое удовольствие почитать, а у меня как раз в чтении пробел образовался. Ведь мотаешься по тундре, света белого не видишь, то на оленях, то на собаках, а то и на своих двоих, так что не до чтения. Да и газеты приходят к нам пачками сразу за месяц, и не успеваешь их прочесть. Зато в дороге отлежусь малость и восполню свои пробелы...
Хотя у него это довольно ловко получалось – лезть на верхнюю полку: разуется, станет на краешек нижней, обопрется локтем здоровой, левой руки о верхнюю и вскинется на нее, – мне, признаться, становилось не по себе, но что поделаешь, если человек стоит на своем.
– А кто вы, Елизар Власович, по профессии? – как-то спросил я.
– Культпросветчик, – сказал он тихо, со смущенной улыбкой, словно стеснялся своей не ахти какой громкой профессии, хотя в начале тридцатых годов, когда партия посылала на Север своих лучших людей поднимать целые народы из тьмы прошлого к свету новой, социалистической жизни, работники, подобные Тимкину, были в большой чести.
Елизару не исполнилось и двадцати лет, когда его, секретаря сельской комсомольской ячейки, вызвали в крайком ВЛКСМ и предложили в порядке мобилизации ехать на Север.
Был бы Елизар одинок, не задумываясь, дал бы свое согласие: раз нужно, так нужно! Но он недавно зарегистрировался в загсе с Ниной Образцовой, заведовавшей фельдшерским пунктом в том же таежном селе.
– А Нина твоя комсомолка? – спросил секретарь крайкома.
– Разумеется!
– Тогда, Тимкин, будем считать вас обоих мобилизованными. Разрывать брачные узы, сам понимаешь, не имеем никакого морального права! – И рассказал, что краевой комитет партии принял специальное решение о посылке в северные районы большой группы коммунистов и комсомольцев. – Дело это, сам понимаешь, ответственное. Десятки, как их принято называть, малых народов до сих пор живут по старинке, находятся под сильным влиянием шаманов, верят в духов, соблюдают дикие обычае предков. Этим пользуются разные темные людишки, вроде скупщиков пушнины. Приезжают в стойбища, спаивают людей и забирают за бесценок дорогие меха. А пушнина, Тимкин, чистое золото! Государство не может мириться, чтобы драгоценные меха, добытые трудом и потом честных советских граждан, шли в руки торгашей и мошенников! В самое ближайшее время по всему Северу откроются магазины системы "Интегралсоюз", куда охотники и оленеводы смогут сдавать пушнину по твердой государственной стоимости и получать взамен все необходимое для нормальной жизни. Ясно тебе, Тимкин? В дальнейшем, как указывается в решении крайкома, будет стоять вопрос о переводе кочевых народов на оседлый образ. На местах стойбищ возникнут благоустроенные поселки с добротными домами, школами-интернатами, клубами. Перед тобой, Тимкин, и стоит задача правдивым партийным словом, а где нужно – и личным примером убедить северян начать жить по-новому. Трудное это дело – повернуть сознание людей, тут не обойдется без борьбы, ибо темные силы в лице, скажем, шаманов, где открыто, а где и скрытно, исподволь будут вам сопротивляться! – И, глянув в упор на Елизара, закончил: – Думаю, теперь ясно тебе, товарищ Тимкин, какие перед тобой партия ставит задачи!