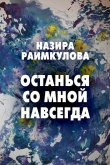Собрание сочинений. Том 4. Гражданская лирика и поэмы
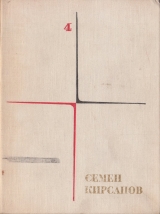
Текст книги "Собрание сочинений. Том 4. Гражданская лирика и поэмы"
Автор книги: Семен Кирсанов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
ПРИЗНАНИЯ (1969–1972)
«Я ищу прозрачности…»
Я ищу прозрачности,
а не призрачности,
я ищу признательности,
а не признанности.
Бесстрашье
Бессмертья нет – и пусть!
На кой оно – «бессмертье»?
Короткий жизни спуск
с задачей соразмерьте.
Признаем, поумнев:
ветшает и железо!
Бесстрашье – вот что мне
потребно до зареза.
Из всех известных чувств
сегодня, ставши старше,
я главного хочу:
полнейшего бесстрашья —
перед пустой доской
неведомого завтра,
перед слепой тоской
внезапного инфаркта;
перед тупым судьей,
который лжи поверит,
и перед злой статьей
разносного, и перед
фонтаном артогня,
громилою с кастетом
и мчащим на меня
грузовиком без света!
Встречать, не задрожав,
как спуск аэроплана —
сниженье тиража
и высадку из плана.
Пусть рык подымут львы!
Пусть под ногами пропасть
(Но – в области любви
я допускаю робость.)
Бессмертье – мертвецам!
Им – медяки на веки.
Пусть прахом без конца
блаженствуют вовеки.
О, жизнь, светись, шути,
играй в граненых призмах,
забудь, что на пути
возникнет некий призрак!
Кто сталкивался с ним
лицом к лицу, тот знает:
бесстрашие живым
бессмертье заменяет.
«Вечность»
Недолговечна вечность.
Во имя человечности
мы молим: – Не увечь нас,
недолговечность вечности!
Мы молим – длиться дольше
мгновение блаженное.
О, стиль «нуова дольче»,
о, всплеск воображения!
Продлиться, ах, продлиться! —
все жаждет, все хлопочет:
жучки, медузы, листья,
и человек, и общество.
И статуи, и мумии,
и завещаний вещность —
все просит, молит, думает:
как влезть вот в эту вечность?
Завидуем – что выжило?
Шекспир! Его не видно ли!
А «вечность» – неподвижна, —
ее мы сами выдумали.
Хочу родиться
Хочу родиться дважды,
а если можно – трижды,
но жить не в стаде жвачных,
такой не мыслю жизни.
Но кстати – если в стаде,
то в табуне степном,
где ржанье, топот, стати
и пыль под скакуном.
Кабы такие б лица,
где из ноздрей – огонь!
Где бой за кобылицу —
в смерть загоню – не тронь!
Хочу родиться дважды,
чтоб пена на боках,
но ни за что – в упряжке
на скачках и бегах.
Прозрение
Я не хочу быть дервишем,
что пляшет перед фетишем
с веригами под вретищем
и препоясан вервищем.
Ни – с облака сошедшим,
дабы глаголом жечь,
ни – древним сумасшедшим
провидцем из предтеч.
Хочу я только трезвости
отточенных остро,
по-медицински режущих,
как в анатомке, строк.
И зренья, только зренья —
в глубинный жизни слой.
При этом всем – прозрение
придет само собой.
Мой предок
Мой предок пещерный! Ты – я.
Я факт твоего бытия.
Мы признаки сходства несем
в иероглифах хромосом,
где запрограммировал ты
бесчисленных внуков черты.
И если я ныне живу —
то значит: ты был наяву;
ты бился, ты подлинно был,
ты шкуру у волка добыл;
ты камень калил докрасна
у первого в мире костра,
чтоб я не замерз, не продрог,
чтоб выжить и вырасти мог
и как воплощенье твое —
свое ощутил бытие!
И пусть, когда няням вручат
твоих пра-пра-пра-правнучат, —
я буду, как соль, растворен
в бегущих из разных сторон
в мальчишках и в девочках всех
и вкраплен в их игры и смех.
Я буду присутствовать в них
мильярдом твоих составных
частиц, составлявших меня
до вздоха последнего дня.
И дней твоей жизни не счесть,
пока человечество есть!
Художник
Художник – этакий чудак,
но явно с дарованьем,
снимает нежилой чердак
в домишке деревянном.
Стропила ветхи и черны
в отрепьях паутины,
а поздней ночью у стены
шуршат его картины.
Картины странного письма
шуршат, не затихая:
– Ты кто такая? – Я сама
не знаю, кто такая…
Меня и даром не продашь,
как «Поле на рассвете».
Я не портрет, я не пейзаж,
но я живу на свете.
Другая застонала: – Нет,
ты все же чем-то «Поле»,
а я абстрактна, я портрет
неутолимой боли…
А третья: – Это все одно,
портреты или виды.
Вот я – пятно, но я пятно
на сердце, от обиды.
Четвертая: – Пусть обо мне
твердят, что безыдейна.
Но я пейзаж души во сне,
во сне без сновиденья.
И пятая: – Кто любит сны,
меня же тянет к спектру,
и я – любовь голубизны
к оранжевому цвету.
Шестая: – Вряд ли мы поймем,
что из-под кисти выйдет,
зато меня в себе самом
всю ночь художник видит.
Я в нем живу, я в нем свечусь,
мне то легко, то трудно
от красками плывущих чувств,
хотя я холст без грунта.
Его задумчивых минут
ничем я не нарушу, —
пусть он сидит, глазами внутрь
в свою цветную душу.
Фокусник
Я бродячий фокусник,
я вошел во двор,
расстелил я с ловкостью
редкостный ковер.
Инвалиды, школьники,
чем вас удивить?
Вот червонцы новенькие
начал я ловить.
Дворничихи в фартуках,
гляньте из окон:
вот я прямо с факела
стал глотать огонь.
Вот обвился лентами
всех семи цветов,
вот у ног по-летнему
вырос сад цветов.
Видите ли, видите ли —
сдернул с головы…
Из цилиндра вылетели
голуби – лови!
Я взмахнул похожим на
веер голубой
и поднос с пирожными
поднял над собой.
А богат я сказочно,
разодет, как шах…
Но это только кажется, —
у меня в руках
никакого голубя,
никаких монет —
только пальцы голые,
между ними – нет
ни ковра, ни веера,
ни глотков огня…
Только мысль, чтоб верила
публика – в меня!
Волшебник
Остыл мой детский пыл,
заброшены учебники, —
я фокусником был
и поступил в волшебники.
Волшебнику – трудней!
Теперь уже не детство ведь.
Он без воскресных дней
обязан чудодействовать.
В созвездиях до пят
он должен – делать нечего! —
как врач-гомеопат
буквально все излечивать.
Он должен превращать
простую глину в золото,
он должен возвращать
согбенным старцам молодость.
Чтоб с духами стихий
устраивать свидания,
должны мои стихи
звучать, как заклинания.
Но раз я взял себе
волшебную обязанность, —
я должен, чтоб и бес
вдруг возникал под занавес.
И чтобы сатана
с пером над красной шляпою
в хромых своих штанах
пел арию Шаляпина.
Свет адского огня
дымится, пляшет, искрится!..
Но Гретхен на меня
не смотрит даже искоса.
Сердце
На яблоне сердце повисло мое —
осеннее мерзлое яблоко
сквозной червоточиной высверленное!..
Но может случиться немыслимое:
раскинется райская ярмарка
с продажею всякого яркого.
В лотках – плодородье бесчисленное.
Все яблоки – с детскими ямками!
И вдруг ты заметишь на ярмарке
мое – ни одной червоточины,
румянец, не тронутый порчею…
И гладишь рукою утонченной.
И нет – не отбросила прочь его,
но яблоко в радужных капельках
на ветке, увешанной листьями,
мое – выбираешь из прочего.
Но это же чудо немыслимое!
Окончилась райская ярмарка.
На яблоне сердце повисло мое —
осеннее мерзлое яблоко…
Очки
Сновиденье явилось извне,
заложило две линзы в ресницы.
Но к чему эти призраки мне?
И могло ли такое присниться:
Будто вышел на улицу я,
оказался в потоке прохожих.
Мимо двигалась лиц толчея,
лиц, одно на другое похожих.
Чем? – Я понял. Исчезли зрачки.
Ни единого взора и взгляда.
Лишь очки, и очки, и очки…
Но зачем и кому это надо?
У одних – непрозрачно блестя,
нечто черное было надето.
Им – игравшее мило дитя
представлялось досадным предметом.
Им казалось – все лица грязны,
и на мрачные их низколобья
чистый снег молодой белизны
опускал мутно-черные хлопья.
У других – эти стекла могли
все показывать в розовом свете.
Даже окон подвальных углы
красовались, как розы в расцвете.
Их носивший был всем умилен,
как немедленно после получки.
Ящик с мусором и утилем
превращался в «Привет из Алушты».
Некто шел и на каждом из лиц
останавливал строгое зренье:
вроде камеры сдвоенных линз
он носил два стекла подозренья.
А другой – на тревожных глазах,
чтоб никто не заглядывал в душу, —
в два овала оправленный страх
перед каждым навстречу идущим.
Шел один, никакой не злодей,
и очки не казались зловещи,
но он ими не видел людей, —
только вещи, витринные вещи!
Я потрогал свои – и нашел
вместо яблок в орбитах скользящих
нечто вроде оптических шор,
искажающий зрение ящик.
Я же знаю, что вижу и лгу
сам себе и что все непохоже!
А вот шоры сорвать не могу, —
так срослись с моей собственной кожей.
О, товарищи, люди, друзья,
поскорей свои очи протрите,
отворите, разденьте глаза
и без стекол на мир посмотрите!
Этот мир не лишен красоты,
иллюзорны испуг и угрозы, —
может быть, мы добры и просты,
и под стеклами теплятся слезы?!
Шестая заповедь
В ночь, бессонницей обезглавленную,
перед казнью моей любви
я к тебе простираю главную
заповедь: «Не убий!»
Не убий ни словом, ни взглядом!
Ни вдали, ни когда мы рядом.
Беатриче, Лаура, Лючия, —
адом Данте и всем, что мучило,
и дуэлью среди снегов,
и шинелью, снятой с него
секундантами на опушке,
на могиле, – Наталия Пушкина,
заклинаю, ступни обвив:
не убий, не убий любви!
Ни открыто, ни мысленно
не убий!
Ни безжалостию, ни милостыней
не убий!
Лаура моя, дорогая моя,
целуемая и ругаемая,
но под солнцем и звездами лучшая,
Беатриче, Наталия, Лючия,
милосердная и жестокая,
аще столько я
претерпел в сей День седьмый,
умоляю тя: не убий!
Не сбивавшего цвет с растения,
не замешанного в растлениях
и в терзавших Спасителя терниях,
не виновного – не убий!
Умоляю тя:
пощади во мне дитя!
Не казни своего дитяти —
сердца в люльке моей души,
не круши его, не убей,
как нельзя казнить голубей.
Не должна подлежать петле
белка, дремлющая в дупле,
и стучащий о древо
дятел, и катающийся у ног
щенок,
кенгуренок, залегший в чрево,
и скользящий травою уж,
и дельфин, мореходец быстрый,
и червяк дождевой у луж
не должны подлежать убийству, —
пусть живут,
пусть летят, плывут…
А любовь – ведь твое дитя, —
не казни, умоляю тя!
В смертной камере одиночества
и стеная наедине —
при бессоннице, среди ночи встав,
я хожу от стены к стене,
на тюремном полу в персти
простираю к тебе персты…
Ни одной обиды не помнящий,
ожидающий скорой помощи,
если я позову – «приди»,
ты приди и коснись груди,
где любовь лепечет – «жива еще»,
и скажи: – Человек, гряди!
Я гряду, почти умирающий,
подымая, как веки Вий,
руки слабые, умоляющие:
– Не убий любви, не убий!..
«Любезность»
Любезность – не любовь.
А ну ее, «любезность»!
Живут, не хмуря лбов,
любезные – и без нас.
Лобзать и не любить?
И лебезить при этом?
Я не любитель быть
объятий их объектом.
Спасающая нас
любовь – не резонерство,
и в самый тяжкий час
любезность резанет вас.
Любезность – лишь под цвет
любовей настоящих, —
вбегающих чуть свет
и для тебя не спящих;
не смеющих тебя
в опасный час покинуть,
готовых хоть с себя
жизнь, как рубашку, скинуть
Таких – в нужде, в войне —
хочу я видеть снова,
не говорящих мне
любезного – ни слова!
Клетка
Щеглы попали в клетку.
Ко мне привел их путь.
Но я задумал – к лету
свободу им вернуть.
Грустят в тюремном быте
с приятелем щегол.
Я тоже не любитель
задвижек и щеколд.
И птицам нет расчета.
Неволя – не житье.
Решетка есть решетка,
хоть золоти ее.
Уже весной запахло,
ручьи по мостовой,
снежинка стала каплей,
и стужа теплотой.
Окно раскрыл я настежь,
и клетку я раскрыл.
Стою и жду. Так нате ж, —
не расправляют крыл!
Свобода, братцы! Солнце!
Природа так щедра!
Я взял и за оконце
подбросил вверх щегла.
Летите, мчитесь вместе
к друзьям своим лесным!
Смотрю – один на месте,
смотрю – второй за ним,
и ну, к кормушке – пичкать
зерном свои зобы.
…Привычка есть привычка
к превратностям судьбы.
Текущий момент
А ведь момент действительно течет,
а не мелькает. Медленно и долго
течет момент, как маленькая Волга,
и в вечность все явления влечет…
Его частиц непознаваем счет,
и может в нем теряться, как иголка,
частица счастья, и крупица долга,
и боль, что сердце надвое сечет.
Чушь! Не течет момент. И течь не должен.
Ни с места он и вечно недвижим,
как лед, который лыжами заскольжен.
Не убавляем он, не растяжим,
не начат никогда и не продолжен.
А это мы – скользим, течем, бежим…
Случай
Садился старичок в такси,
держа пирог в авоське,
и, улыбнувшись сквозь усы,
сказал: – До Пироговской.
Он как бы смаковал приезд
и теплил умиленье,
что внучка пирога поест
и сядет на колени…
Три рослых парня у такси
рванули настежь дверцу
и стали старичка тащить
за отворот у сердца.
За борт авоську с пирогом
и старичка туда же,
и с трехэтажным матюгом!
– Жми, друг, куда покажем!
Стоял свидетель у столба,
как очередь живая,
он что-то буркнул про себя,
сей факт переживая.
Прошло прохожих штуки три
в трех метрах от машины,
но что в них делалось внутри —
как знать? – они спешили.
Ждала их служба или флирт? —
гадать считаю лишним,
а может, в них бурлил конфликт
общественного с личным?
Про этот случай рассказал
мне продавец киоска;
он видел, как старик упал
и с пирогом авоська.
Он возмущался громко, вслух,
горел, как сердце Данко,
но не вмешался, так как лук
отвешивал гражданкам.
Затем явился некий чин,
пост на углу несущий,
и молвил: – Стыдно, гражданин
уже старик, а пьющий.
Над Кордильерами
Водопадствуя, водопад
низвергается, как низверженный,
и потоки его вопят —
почему они не задержаны!
Темный хаос земных пород
в глубочайших рубцах и трещинах.
Самолетствуя, самолет
прорывается в тучи встречные.
И пока самолет орет
турбодвигателями всесильными —
распластавшись внизу, орел
кордильерствует над вершинами.
А по каменным их краям,
скалы бурной водой окатывая,
океанствует океан,
опоясав себя экватором.
Горизонствует горизонт,
паруса провожая стаями.
Гарнизон, где жил Робинзон,
остается необитаемым.
И пока на аэропорт
по кругам самолет снижается —
книга детства в душе поет
и, как сладкий сон, продолжается.
Вальпараисо
Початок золота и маиса —
Вальпараисо, Вальпараисо,
спиною к Андам, лицом к воде —
тебя я видел, но где, но где?
Вальпараисо, Вальпараисо!
А может быть, я и здесь родился?
где пахнет устрица, рыба, краб,
где многотонный стоит корабль?
А может быть, я родился дважды,
у Черноморья (как знает каждый
и также здесь, у бегущих вниз
домов – карнизами на карниз?
Вальпараисо, Вальпараисо,
ты переулками вниз струишься,
за крышей крыша, к морской воде,
тебя я видел и помню – где.
Тюк подымает десница крана —
Одесса Тихого океана.
Взбегает грузчик, лицо в муке,
моряк за стойкою в кабаке.
Все так привычно, все так знакомо,
а может, я не вдали, а дома?
Пора рыбачить, пора нырять,
и находить и опять терять…
Но на таинственный остров Пасхи
глядят покрытые медью маски,
и странно смотрит сквозь океан
носатый каменный истукан.
И черноморский скалистый берег,
и побережия двух Америк,
и берег Беринговый нагой —
все продолжают один другой.
Вальпараисо, Вальпараисо!
О, пряность мидий в тарелке риса,
о, рыб чешуйчатые бока,
о, танец с девушкой рыбака!
И в загорелых руках гитара,
и общий танец Земного шара,
и андалузско-индейский взор
в едином танце морей и гор!
В самолете
Никаких описаний,
никаких дневников!
Только плыть небесами
и не знать никого.
И не думать, что где-то
видел это лицо —
коммерсантов, агентов,
дипломатов, дельцов.
Плыть простором ливийским
сквозь закат и рассвет,
пока пьет свое виски
полуспящий сосед.
Незнакомым простором
над песками пустынь
рядом с ревом моторов
плыть с карманом пустым.
И глядеть – без желаний,
в пустоте синевы
на пустыню, где ланей
ждут голодные львы.
А желать, только чтобы
шли быстрее часы
и к асфальтовым тропам
прикоснулось шасси.
И вернуться, вернуться,
возвратиться скорей
к полосе среднерусской,
к новой песне своей.
Цветок
О бьющихся на окнах бабочках
подумал я, что разобьются,
но долетят и сядут набожно
на голубую розу блюдца.
Стучит в стекло. Не отступается,
но как бы молит, чтоб открыли.
И глаз павлиний осыпается
с печальных, врубелевских крыльев.
Она уверена воистину
с таинственностью чисто женской,
что только там – цветок, единственный,
способный подарить блаженство.
Храня бесстрастие свое,
цветок печатный безучастен
к ее обманчивому счастью,
к блаженству ложному ее.
Птицы
Над Калужским шоссе провода
телеграфные и телефонные.
Их натянутость, их прямота
благодарностью птиц переполнила.
Птицы к линиям мчатся прямым
и считают, щебеча па роздыхе,
будто люди устроили им
остановки для отдыха в воздухе.
И особенно хочется сесть
на фарфоровые изоляторы,
по которым протянута сеть, —
от вечерней зари розоватые.
Но случается вспышка и смерть, —
птицы с провода падают мертвые…
Виновата небесная твердь,
где коварно упрятались молнии.
Люди здесь вообще ни при чем,
так как видела стая грачиная
человека над мертвым грачом
с выраженьем в глазах огорчения.
Из детства
Когда капитану Немо
приелось синее небо —
он в лодке с командой верной
уплыл в роман Жюля Верна.
Он бродит в подводных гротах,
куда не доходит грохот
ни города, ни паровоза,
в водорослях Саргоссы.
В скафандре бредет на скаты,
где вьются электроскаты,
где люстрами с волн пологих
спускаются осьминоги.
Поодаль молчит команда.
Молчит, проходя. Так надо!
И сжат навсегда, как тайна,
бескровный рот капитана.
И все это нет, не лживо, —
в мальчишеских пальцах жив он.
Но лишь прояснится небо —
прочитанный, он – как не был.
Закрыто, мертво и немо
лицо капитана Немо.
«О, Рифма, бедное дитя…»
О, Рифма, бедное дитя,
у двери найденный подкидыш,
лепечешь, будто бы хотя
спросить: «И ты меня покинешь?»
Нет, не покину я тебя,
а дам кормилице румяной,
богине в блузе домотканой,
и кружева взамен тряпья.
Играй, чем хочется тебе, —
цветным мячом и погремушкой,
поплакав, смейся, потому что
смех после плача – А и Б.
Потом узнаешь весь букварь:
ведро, звезда, ладонь, лошадка,
деревья зимнего ландшафта
и первый школьный календарь.
И поведет родная речь
в лес по тургеневской цитате,
а жизнь, как строгий воспитатель,
поможет сердце оберечь.
И ты мою строфу найдешь,
сверкая ясными глазами,
перед народом, на экзамен
под дождь, осенних листьев дождь…
И засижусь я до зари,
над грустной мыслью пригорюнясь,
а Рифма, свежая как юность,
в дверь постучится: «Отвори!»
Осторожно…
Осторожно входит весна,
осторожно, тревожно…
Еще даль никому не ясна:
что нельзя и что можно?
Мы с тревогой ждем телеграмм
и волнуемся очень,
оттого что жизнь не игра,
человек непрочен.
Вдруг подует ветер другой,
а друзей, на беду, нет.
И тебя смахнет, как рукой,
как пылинку сдунет.
Северный ветер
Подуло серым севером,
погнуло лес ветрами, —
прощайтесь, листья, с деревом,
прощайся, сад, с цветами!
Пришла пора прощания,
дождя и увяданья,
вокзальное, печальное
«прощай» без «до свиданья».
В траве, покрытой листьями,
всю истину узнавший,
цветет цветок единственный,
увянуть опоздавший.
Но ты увянешь все-таки,
поникший и белесый, —
все паутины сотканы,
запутались все осы…
Ты ж, паучок летающий,
циркач на топком тросе, —
виси, вертись, пока еще
зимой не стала осень!
Частушка
Нет, не то золото,
то звенит, как золото,
а вот то золото,
когда сердце – золото.
И не тот алмаз,
что лучист, как алмаз,
а кто чист, как алмаз,
мне милей, чем алмаз.
И не то дорого,
что ценой дорого, —
что душе дорого —
без цены дорого.
И не та красота, —
что лицом красота, —
красота – только та,
что во всем красота.
И не тот милый мой,
кто на час милый мой,
кто на век милый мой,
тот и милый, и мой.
И не то хорошо,
что себе хорошо, —
только то хорошо,
что для всех хорошо.
Смерть лося
Пораженный пулей,
разбросал свой мозг лось.
Смотрит на тропу ель,
сердце с кровью смерзлось.
Будто брат умолк твой,
жжет слезами жалость.
Плача мордой мертвой,
на снегу лежал лось.
Водкой бы забыться,
лечь бы и проспаться!
Спусковой скобы сталь
прикипела к пальцам.
Нелегко в беде лгать.
Воздух тих и снег тих.
Братцы, что ж нам делать?
Как прожить без смерти?
Ель молчит, но ей ли
разгадать мой возглас?
На снегу у ели
разбросал свой мозг лось.
Про белого ворона
Гнездо разворовано,
зимним ветром сорвано,
вот и белым вороном
сделался из черного.
С ним никто не водится,
ни зятья, ни девери,
и он сидит, как водится,
на отдельном дереве.
Вылететь из бора бы,
опуститься в городе,
где толпятся голуби
белоснежногорлые.
Посредине дворика
ходит пава гордая,
да не примет горлинка
ворона за голубя…
Все переговорено,
все переворошено,
зваться белым вороном —
ничего хорошего.
Русская песня
Как из клетки горлица,
душенька-душа,
из высокой горницы
ты куда ушла?
Я брожу по городу
в грусти и слезах
о голубых, голубых,
голубых глазах.
С кем теперь неволишься?
Где, моя печаль,
распустила волосы
по белым плечам?
Хорошо ли без меня,
слову изменя?
Аль, моя любезная,
вольно без меня?
Волком недостреленным
рыщу наугад
по зеленым, зеленым,
зеленым лугам.
Посвистом и покриком
я тебя зову,
ни ау, ни отклика
на мое ау.
Я гребу на ялике
с кровью на руках,
на далёких, далеких,
далеких реках…
Ни письма, ни весточки,
ни – чего-нибудь!
Ни зеленой веточки:
де, не позабудь.
И я, повесив голову,
плачу по ночам
по голубым, голубым,
голубым очам.
Июньская баллада
День еще не самый длинный,
длинный день в году,
как кувшин из белой глины,
свет стоит в саду.
А в кувшин из белой глины
вставлена сирень
в день еще не самый длинный,
длинный летний день.
На реке поют сирены,
и весь день в саду
держит лиру куст сирени,
как Орфей в аду.
Ад заслушался, он замер,
ад присел на пень,
спит с открытыми глазами
Эвридики тень.
День кончается не скоро,
вьется рой в саду
с комариной Терпсихорой,
как балет на льду.
А в кувшин из белой глины
сыплется сирень
в день еще не самый длинный,
длинный летний день.
Золотые берега…
Золотые берега
дорогого детства
стали чуть виднеться…
Память их не берегла,
их закрыли годы,
как морские воды.
Не храним, не бережем.
А сейчас, попозже —
вещи нет дороже
первой, струганной ножом
палочки сосновой
на полу, в столовой.
А за стружки на полу
сколько разговоров,
вздохов и укоров!
А еще стоять в углу,
но в углу не трудно:
представляешь – судно.
Мачту надо обстругать,
парус приспособить…
(Поплывет, должно быть?)
Где ж вы, где ж вы, острова
детства, моря, лета?
Потонули где-то?..