Собрание сочинений. Том 4. Гражданская лирика и поэмы
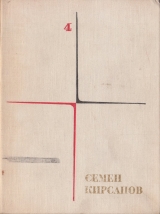
Текст книги "Собрание сочинений. Том 4. Гражданская лирика и поэмы"
Автор книги: Семен Кирсанов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)
Семен Кирсанов. ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ
Поэтические поиски и произведения последних лет
ПОЭТИЧЕСКИЕ ПОИСКИ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
(1923–1972)
Новаторство
Что такое новаторство?
Это, кажется мне,
на бумаге на ватманской —
мысль о завтрашнем дне.
А стихи, или здание,
или в космос окно,
или новое знание —
это, в целом, одно.
В черновом чертеже ли
или в бое кувалд —
это опережений
нарастающий вал.
Это дело суровое,
руки рвутся к труду,
чтоб от старого новое
отделять, как руду!
Да, я знаю – новаторство
не каскад новостей, —
без претензий на авторство,
без тщеславных страстей —
это доводы строит
мысль резца и пера,
что людей не устроит
день, погасший вчера!
Не устанет трудиться
и искать человек
то, что нашей традицией
назовут через век.
ДОРОГА ПО РАДУГЕ (1923–1972)
Мой номер [1]1Оригинальная структура стихотворения


[Закрыть]
Номер стиха на экзамен цирку
ареной чувств моих и дум —
уверенных ног расставляя циркуль
по проволоке строчки, качаясь, иду.
Зонт золот. Круг мертв. Шаг… Сталь. Взвизг!
Звон, зонт. Рук вёрт. Флаг. Стал. Вниз!
Жизнь, вскрик! Мышц скрип, стон!
Мир скрыт, лишь крик стогн!
Всю жизнь глядеть в провал пока в аорте кровь дика!
Всю жизнь – антрэ, игра, показ! Алле! Циркач стиха!
Мери-наездница
Мери-красавица
у крыльца.
С лошадью справится —
ца-ца!
Мери-наездница
до конца.
С лошади треснется —
ца-ца!
Водит конторщица
в цирк отца.
Лошади морщатся —
фырк, ца-ца!
Ваньки да Петьки в галерки прут,
Титам Иванычам ложу подавай!
Только уселись – начало тут как тут:
– Первый выход – Рыжий! Помогай!
Мери на бок навязывала бант,
подводила черным глаз,
а на арене – уже – джаз-банд
Рыжий заводит – раззз:
Зумбай квиль-миль
толь-миль-надзе…
Зумбай-кви!..
Зумбай-ква!..
Вычищен в лоск,
становится конь.
Мери хлыст
зажимает в ладонь.
– Боб, винца!
Белой перчаткой
откинут лоб.
Мери вска —
кивает в седло:
– Гоп, ца-ца!
Цца!
По полю круглому. Гоп!
Конь под подпругами. Гоп!
Плашмя навытяжку. Гоп!
Стойка навыдержку. Гоп!
Публика в хлопанье. Гоп!
Гонит галопом. Гоп!
Мери под крупом. Гоп!
Мери на крупе. Гоп!
Сальто с седла.
Раз – ап, два – гоп!
Мери в галоп.
Публика вертится.
Гоп…
Гоп…
Гоп…
Екнуло сердце.
Кровь…
Стоп!..
Крик —
от галерки до плюшевых дамб,
публика двинулась к выходам.
Все по местам! Уселись опять.
Вышел хозяин. Сказал: «Убрать!»
Зумбай квиль-миль
толь-миль-надзе…
Зумбай-кви!..
Зумбай-ква!..
Бой быков
В. В. Маяковскому
Бой быков!
Бой быков!
Бой!
Бой!
Прошибайте проходы головой!
Сквозь плакаты, билеты,
номера —
веера, эполеты,
веера!..
Бой быков!
Бой быков!
Бой!
Бой!
А в соседстве с оркестровой трубой,
поворачивая
черный бок,
поворачивался
черный бык.
Он томился, стеная:
– Ммм-у!..
Я бы шею отдал
ярму,
у меня перетяжки
мышц,
что твои рычаги,
тверды, —
я хочу для твоих
домищ
рыть поля и таскать
пуды-ы…
Но в оркестре гудит
труба,
и заводит печаль
скрипач,
и не слышит уже
толпа
придушенный бычачий
плач.
И толпе нипочем!
Голубым плащом
сам торреро укрыл плечо.
Надо брови ему
подчернить еще
и взмахнуть
голубым плащом.
Ведь недаром улыбка
на губках той,
и награда ему
за то,
чтобы, ярче розы
перевитой,
разгорался
его задор:
– Тор
pea
дор,
веди
смелее
в бой!
Торреадор!
Торреадор!
Пускай грохочет в груди задор,
песок и кровь – твоя дорога,
взмахни плащом, торреадор,
плащом, распахнутым широко!..
Рокот кастаньетный – цок-там и так-там,
донны в ладоши подхлопывают тактам.
Встал торреадор, поклонился с тактом, —
бык!
бык!!
бык!!!
Свинцовая муть повеяла.
– Пунцовое!
– Ммм-у!
– Охейло!
А ну-ка ему, скорей – раз!
Бык бросился.
– Ммм-у!
– Торрейрос.
Арена в дыму. Парад – ах!
Бросается!
– Ммм-у!
– Торрада!
Беснуется галерея,
орреро на…
– Ммм-у!
– Оррейя!
Развеялась, растаяла
галерея и вся Севилья,
и в самое бычье хайло
впивается бандерилья.
И – раз,
и шпагой
в затылок
влез.
И красного черный ток, —
и птичьей стаей
с окружных мест
за белым платком
полетел платок.
Это:
– Ура!
– Браво!!
– герой!!!
– Слава ему!
– Роза ему!
А бык
даже крикнуть не может:
ой!
Он
давится хриплым:
– Ммм-уу…
Я шею
хотел отдать
ярму,
ворочать мышц
шатуны,
чтоб жить
на прелом
его корму…
Мммм…
нет
у меня
во рту
слюны,
чтоб
плюнуть
в глаза
ему!..
Красноармейская разговорная
Шли мы полем,
шли мы лугом,
шли мы полком,
шли мы взводом.
Белых колем,
гоним кругом,
в общем, толком
страх наводим.
Разузнать велел комбриг нам,
где беляк засел в полях: —
На разведку, Сенька, двигай,
винт за плечи, и на шлях!
Вот, брат,
иду, брат,
в куст, брат,
в овраг, брат,
лег, брат,
в кусты, брат,
идет, брат,
враг, гад!..
С ружьем, гад,
с ножом, гад,
и тут, брат,
встаешь:
– Стой, гад,
ни с места,
даешь!..
А он, гад,
слышь, брат,
четырехглазый.
Брит, брат,
крыт, брат,
круглой папахой.
Водкой воняет —
шаг до заразы.
А грудь, брат,
крыта желтой рубахой.
Был, грю, бритый,
будешь битый!
Резал наших,
кажись, довольно!
А он, грит, биттэ,
гэрр, грит, биттэ…
– Бить так бить, —
кулакам не больно!
Бил я, бил, а потом – бабахнул,
падал он – мертвым на брюхо бахнул.
Я, брат, вижу – чудна папаха,
глядь, а в папахе, кажись, бумага.
Стал я с папахой ходить к комбригу,
стал я под честь отдавать бумагу.
Бумагу читал комбриг, что книгу,
потом, брат, орден дал за отвагу!
Как стали мы с планом бить Петлюру,
в петлю Петлюру загнали точно.
Махно смахнули, задрали Шкуру,
и вот затюкан Тютюник прочно.
Давай тютюн завернуть цигарку!
Теперь, брат, видишь, – крепки Советы.
А если тронут – так будет жарко,
пойдут гудеть реввоенсоветы!..
Нынче учим,
отдых нынче.
Что ж до бучи —
штык привинчен.
Марш сыграют, —
сварим кашу.
Враг узнает
хватку нашу!
С письмецом!
1
Мы – в окопах. Темь – аж ну!
Аж в комок затяп.
Не дрефозь, браток, – нажму,
закреплю Октябрь!
Собралися мы в кружок,
тот – об этом, тот – об том…
– Эх, еще один прыжок, —
всех бандитов перебьем!
Посередке я сидю:
– Докатились до беды.
Из деревни ни тю-тю,
ни туды и ни сюды!
– Эх, Тимошка, ну, да ну…
– Перебьемся, ничего, —
взводный к нам. – Ну-ну, загнул!
Погляди, а ну-ка в-во:
– Тимофею Елеву, – Ермолаю Пудову,
– Родиону Семенцову – письмецо.
– Скелева? – Скудова?
– А с деревни, от жены… Письмецо – налицо!
Стой, моя штыковина,
ружьецо!
Вот так, брат, штуковина,
письмецо!..
2
Письмецо – мне:
эни е– не…
Прочитай – на:
эни а– на…
(не-на)
Тимофей – глянь:
гэи ля– гля…
(не-на-гля)
Тимохвей, розумий:
дэи эн
ыи ий—
дный…
На махры, покрути:
теи и,
будет – ти…
Да не лезь,
дай письмо:
эми о
значить —
мо…
Хаи ве—
хве…
хвей…
Ого-го-эй:
Нe-на-гля-дный Ти-мо-хве-й…
3
С этого подхода
забрала охота,
пальцы тянутся к перу,
а глаза – к бумаге.
Прорубили мы дыру
в белые ватаги:
в банды – клин,
в Деникина – кол!
Белым – вата блин,
наши – в комсомол!
4
Эх, кому бы, кому
Научить меня уму?
И хожу середь полей без памяти.
Обучи меня, Михей, грамоте!
В школе – стены бе-елые, белю-сенькне,
в книжках – буковки малю-у… малюсенькие.
Глаз неймет,
зуб неймет —
хвостики
да усики.
Поучусь, будет впрок, —
задавай, Михей, урок!
5
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж…
(буквы ходят в полосе) —
вот и азбука уже
у меня на голосе.
И, К, Л, М, Н, О, П…
После П ударит Р,
запишуся в РКП,
надо двигать СССР!
С политграмотой живей,
айда, братец Тимофей!
Стал Тимошка грамотеем, —
значит, братцы, не робей:
если дружно пропотеем,
каждый будет грамотей!
Буква Р
Если
были
вы картавы —
значит,
знали
муки рта вы!
Я был
в юности
картав,
пыла
бедная
гортань.
Шарахались
красавицы
прославленной
картавости.
Не раскрываю
рта я,
и исхудал,
картавя!
Писал стихи:
«О, Русь! О, Русь!»
Произносил:
– О, Гусь, о, Гусь! —
И приходил на зов – о, грусть! —
соседский гусь, картавый гусь…
От соклассников – свист:
– Медное пузо,
гимназист, гимназист,
скажи: кукуруза!
Вместо «Карл, офицер» —
ныло «Кагл, офицег».
Перерыл медицинские книги,
я ищу тебя, эР, я зову тебя, эР,
в обессиленной глотке возникни!
И актер из театрика «Гамаюн»
изливал над картавостью ругань,
заставлял повторять: – Теде-дюм, теде-дюм,
теде-дюм, деде-дюм – ррюмка!
Рамка Коррунд! Карборунд! Боррона!
Как горошинка, буква забилась,
виноградного косточкой силилась вылезть,
и горела на нёбе она.
Хорохорилась буква жемчужиной черной,
по гортани рассыпанный перл…
Я ходил, прополаскивал горло, как борной,
изумительной буквою эР.
И, гортань растворивши расщелиной трубной,
я провыл над столицей трикрат:
– На горе Арарат растет красный и крупный
виноград, ВИНОГРАД, ВИНОГРАД!
Два Востока
Для песен смуглой у шатра
я с фонарем не обернулся.
Фатима, жди – спадет чадра
у черной радуги бурнуса.
В чье сердце рай, Селим, вселим?
Где солнце – сон? И степи сини?
Где сонмом ангелов висим
на перезрелом апельсине?
Где сок точили? На углу…
Как подойти к луне? С поклоном…
Горам – Корен Как Иль-ля-У,
мой берег желт, он – за Ливаном.
Багдад! Корабль!! Шелка!!! Любовь!!!
О, бедуин, беда и пена!
И морда взмылена его,
и пеньем вскинуты колена.
О, над зурной виси, Гафиз,
концы зазубрин струн развеяв,
речей ручей, в зурну катись
и лезвий речь точи быстрее…
Но как взлетит на минарет
фонарь как брошенный окурок…
С огнем восстанья и ракет
подкрался рослый младотурок.
Но в тьму ночную – не спеша…
Такая мгла! За полумесяц
отряд ведет Кемаль-паша,
штыками вострыми развесясь.
И что же, ты оторопел?
Нет! Видно, струн не перебросить,
покуда в горле Дарданелл
торчит английский броненосец.
«Были ива да Иван…»
Были ива да Иван, древа, люди.
Были выше – дерева, люди – люты.
Упирались в бел туман поднебесный
деревянные дома, церкви, кнесы…
За кремлевскою стеной Грозный топал,
головою костяной бился об пол.
Звал, шатая бородой: – Эй, Малюта!
Помолися за убой, смерть-малюток.
Под кремлевскою стеной скрипы, сани,
деготь крут берестяной варят сами.
Плачет в избяном чаду молодуха,
будто в свадебном меду мало духа.
И под ребрами саней плачет полоз,
что опричнины пьяней хриплый голос.
Бирюками полон бор, площадь – людом.
По потылице топор хлещет люто.
Баба на ухо туга, крутобока.
И храпят, храпят снега, спят глубоко.
Были ива да Иван, были – вышли.
Стали ниже дерева, избы – выше!
А на пахотах земли стало вдвое.
То столетья полегли перегноем.
Ярмарочная
1
С песнею гуляю от Москвы до Баку,
сумочку ременную ношу на боку.
Старую ли песню по-новому петь?
Новую ли песню струне одолеть?
«Ехал на ярмарку ухарь купец,
ухарь купец, молодой удалец…»
Ехали купцы да из Астрахани,
водкой с икоркой позавтракали…
Чайники фаянсовые, рокоты кобзы.
Рубахи распоясывая, сели купцы.
Грай-играй, машина! Савва, гогочи!
Мы-ста купецкие, мы-ста богачи!..
– Руб с полтиной, никак не меньше,
Панфил Парамоныч, да как же можно?..
Ярмарка, ярмарка, шаляпинский бас,
ярмарка-боярынька, полный лабаз!
Фатит смекалки да хитрости —
обмерить, обвесить да вытрясти.
Гармозы яровчатые душу веселят,
мужики сноровчатые пишут векселя.
Водка Ерофеича споласкивает рот,
купец не робеючи векселя берет…
Город неприветливый, жесткий хлеб,
Александра Третьего черный герб.
Сброшен он, грудастый, – не разыскивай
того государства Российского!..
Новые легли перед ним рубежи,
новая песня, звени, не дребезжи.
2
В халатах, тюбетейках приехал Восток,
дело – не потеха, здравствуй, Мосторг!
Мертвые Морозовы сюда не придут,
а Продасиликат и Хлебопродукт.
Не ради наживы да корысти,
а ради – стране чтоб легко расти!
Сеялки, веялки, плуги, лемеха,
у баяна тульского тугие меха.
Тракторная музыка, ах, как хороша,
у завода русского чудо-душа!
Песня моя, как расписка твоя,
лети, зазвеня да посвистывая.
Старое, темное сотри в порошок,
стало чтоб легко нам да жить хорошо!
Александр III
Шлагбаум. Пост. Санкт-Петербург.
– Ваше императорское величество,
лошади поданы! – В ответ – бурк…
(С холопами болтать не приличествует!)
Лошадь на жар. Пара шпор —
звяк! (Убрать подозрительного субъекта!)
Запахнута шинель. Пара, шпарь
шибко по шири Невского прошпекта!
Под конвоем мраморных колоннад —
Российская империя. Суд-Сенат.
Эй, поберегись! Шапки наперебой.
Едет августейший городовой.
А что если спросит: – Пропишан пашпорт?
Нет? В учашток! – хлюпнет бородой.
Цокают копыта, звякает пара шпор,
едет августейший городовой.
Александр III по Невскому цокал,
стражники с шашками вдоль и поперек.
И вдруг перед вокзалом лошадь на цоколь
встала, уперлась – и ни шагу вперед.
Век ему стоять и не сдвинуться с места, —
бронзовое сердце жжет, говорят,
вывеска напротив какого-то треста
и новое прозвище – Ленин-град.
Тамбов
1
Усатые, мундирные,
вращая крупы жирные,
въезжают уланы
в какой-нибудь Тамбов.
Глядят глаза лорнетные
на клапаны кларнетные,
и медный кишечник
вывалил тромбон.
Из-за кастрюль и чайников
медлительных начальников
кокарды кухарки
увидят с этажей.
У булочных, у будочек
закинут нити удочек, —
письмовник и сонник
прочитаны уже.
«В кофточке оранжевой
я приду на рандевой,
с бравым уланом
пойду на променад.
Ты меня лишь вызови, —
выйду, стану визави,
но так, чтоб хозяйка
не взнала про меня».
И скинет белый фартучек,
на стенке веер карточек,
и пудра «Леда» —
на шкафчике ночном.
Он снимет шашку вескую,
окошко – занавескою…
Мы же песню
новую начнем!
2
Гремят возы обозные,
проходят шапки звездные,
и топот копытный
трогает панель.
Идем с тугими нервами,
работой и маневрами
покажем, покажем
защитную шинель.
Не с шашнями, а с шашками,
с потными рубашками
едем по этим
тамбовским мостовым.
Не вертимся пижонами
с чиновничьими женами, —
обходим дозоры
и на часах стоим.
Вымерли усатые,
позеленели статуи,
а степи качают
султанов ковыли.
Гордимся Первой Конною
и с выправкой спокойною
внимаем зарубежному
бряцанию вдали!..
Легенда
После битвы на Згло —
месяц побагрел.
Мертвецы без голов
спали на бугре.
– Ой, Петро, ой, Хома,
головы нема!
Ой, Вакула Русачук,
где мой русый чуб?
Ой, боюсь я, боюсь —
срежут сивый ус,
будут водку пить,
ей-ей, из башки моей!
– Чи вставать, чи лежать,
батько атаман?
Чи лежать, чи бежать
к жинкам, по домам?
…Подняло, повело
по полю туман…
– Подымайся, Павло! —
гаркнул атаман.
– Подымайсь, шантрапа
В поле ни беса!
Подбирай черепа,
целься в небеса!
В небесах широко
тучи свист разнес.
Сколько было черепов,
столько стало звезд.
Гололоба, глупа,
добела бледна —
атаманья голова
поплыла – луна…
Хлопцам спать, звездам тлеть,
ну, а мне как быть?
Брагу пить, песни петь,
девушек любить!
*
Песня мной не выдумана
хоть затейна видом она;
песню пели слепцы
под селом Селебцы.
Сельская гравюра
Мы работаем в краю
кос, вил, сена,
желто-пепельных гравюр,
где туч пена.
Мы, как кисти, рожь несем,
наш холст – лето.
Хорошо нести жнецом
сноп, сноп света.
От долин, долин, долин
туч, туч туши.
Косари бредут вдали,
свет звезд тушат.
Кубы хижин, куб бугай,
стогов кубы.
Скот уходит на луга
жевать губы.
Где коровы плоский лоб,
кадык в зобе,
гонят медленных волов:
– Цоб цоб, цобе!..
Проса желтую струю
наземь сыпя,
кормят птицу пеструю:
– Цип, цип, ципа!..
Косу к утру отклепав,
жнец, жнец, жница
ждут, когда взойдут хлеба,
им рожь снится.
И ребячий ровен сон:
кукурузой,
к ним приходит Робинзон,
зон, зон Крузо.
Чтоб под утро дождь босой
не смял злаки, —
под косой, косой, косой
ляг, злак сладкий!
Ундервудное
Я слов таких не изрекал, —
могу и ямбом двинуть шибко
тебе, любовный мадригал,
о, ундервудная машинка!
Мое перо, старинный друг,
слети, воробушком чирикнув,
с моих невыпачканных рук
чернил рембрандтовой черникой.
И мне милей, чем лучший стих
(поэзия нудна, как пролежнь!),
порядок звуков Й I У К Е Н Г Ш Щ З Х,
порядок звуков Ф Ы В А П Р О Л Ы Д Ж.
Я осторожно в клавиш бью,
сижу не чванно, не спесиво,
и говорит мне, как «спасибо»,
моя машинка: Я Ч С М И Т Ь Б Ю.
Чернильный образ жизни стар.
Живем ЦАГИ и Автодором.
И если я – поэт-кустарь,
то все-таки кустарь с мотором!
Набросок
Под кирпичного стеною
сплю я ночью ветряною
(тут и гордость, тут и риск!).
Что мне надо спозаранок?
Пара чая, да баранок,
да конфетка – «барбарис».
Каждый утренний трактир
хрупким сахаром кряхтит,
в каждой чайной
(обычайно!)
чайка чайника летит…
Это зрелость? Или это
только первая примета?
Обхожу я скверики,
подхожу к Москве-реке —
по замерзшей по реке
я гуляю, распеваю
на одесском языке!..
Это юность? Или это
свойство каждого поэта?
Все, что было, – за плечом,
все, что было, – молния!
Нет! Не вспомню ни о чем,
на губах – безмолвие…
Я родился, как и вы,
был веселым мальчиком,
у садовой у травы
забавлялся мячиком…
Это детство? Или это
промелькнувшая комета?
Так живи, живи, поя,
в сердце звон выковывая,
дорогая жизнь моя,
дудочка ольховая!
Охота на тюленя
(Из Р. Киплинга)
За нами игольчатый стынет день,
и инеем стянут мех.
Мы пришли, и с нами – тюлень, тюлень,
оттуда, где лед и снег.
«Ауджана! Агуа! Ага! Гаук!» [2]2
Посыл погонщика собак.
[Закрыть]
И воющих псов ошалелый бег,
взлетает хлыст, и свист, и гавк —
туда, где лед и снег.
До проруби мы проползли за ним,
за ним, протирая мех;
мы поставили знак и его стерегли,
пока он не выполз на снег.
Он выполз дышать, мы метнули копье,
и был его вой, как смех…
Забаве конец! Он убит, – и лег
брюхом на лед и снег.
Сияние льдин слепит глаза,
и снег навис у век,
и мы возвращаемся к женам назад,
оттуда, где лед и снег.
«Ауджана! Агуа! Ага! Гаук!»
И псов ошалелый бег,
и женщинам слышен собачий гавк —
оттуда, где лед и снег.
Баллада с аккомпанементом
Черной тучей вечер крыт,
стынет ночь – гора.
Ждет милого Маргарита,
ри, та-ри, та-ра.
Он высок, румян и прям,
он алей зари,
он соперничал с утрами,
трам, та-ра, та-ри.
Не придет он, не придет
(слышен скрип пера), —
спят тюремные ворота,
ро, та-ро, та-ра.
Темной ночью зол и хмур:
«Казни ночь – пора!» —
приказал король Готура,
ту, ру-ру, та-ра.
Сотни зорь алей рубах,
блеск от топора,
не сдержать бровей от страха:
трах!.. Ти-ри, та-ра.
…Звезды в круг. Свеча горит.
В двери стук. Пора!
(Плохо спалось Маргарите.)
Ри, ти-ри, та-ра.
Полонез
(Музыкальный ящик с марионетками)
Панна Юля, панна Юля,
Юля, Юля Пшевская!
Двадцать пятого июля
день рожденья чествуя, —
цокнут шпоры, очи глянут,
сабля крикнет: «Звяк!» —
Подойду да прошу панну
на тур краковьяк!
Дзанг да зизи, – гремит музыка
па-па, – хрипит труба.
По паркету ножка-зыбка
вензелем выписывает па!..
Вот вкруговую скрутились танцы
левою ножкой в такт.
И у диванов – случайных станций —
вдруг поцелуй не в такт.
И в промежутках любовные стансы, —
Юля направо, так?
– Юля, в беседке, в десять, останься! —
Словно пожатье: – Так!
Бьют куранты десять часов.
– Юля, открой засов!
Полнится звоном плафона склон:
лунь всклянь. Лень, клюнь клен…
Вот расступились усадьбы колонны,
парк забелелся, луной обеленный.
Вот расступились деревья-драгуны,
ты в содроганье – страх перед другими.
Вот расступились деревья-уланы
(«Где мой любимый, где мой желанный?»).
То побледнеет, то вдруг зардеется,
вот расступились деревья-гвардейцы.
Месяц блистает шитьем эполета,
Юлька-полячка встречает поэта.
Плащ, как воскрылье воронье,
шпагу сквозь пальцы струит;
справа – с бичами Ирония,
Лирика слева стоит.
– Здравствуй, коханый! —
Взглянула в лицо:
– Цо?
Цо не снимает
черный жупан
пан?
С Юлею коханому не грустно ли?
Пальчики сухариками хрустнули.
За руки коханую, за руки, за талию,
сердце-часы звон перекрути!
За руки, за талию милую, хватай ее,
шелковые груди к суконной груди!
Выгнув пружинный затылок,
я на груди разрываю
рук, словно винных бутылок
цепкость, – огнем назреваю.
Руки, плечи, губы…
Ярость коня —
астма и стенанье
в пластах тел… —
Пан версификатор,
оставьте меня,
я вас ненавижу!
Оставь-те!..
– Юлька, Юлия, что же вы чудите?
Сами же, сами же по шелковой груди и
дальше моею рукою, как учитель
чистописания, – водили, водили…
Вам бы, касатка, касаться да кусаться,
всамделе, подумаешь? Чем удивили!
Взглядом, целомудрием? Может показаться,
будто это в фарсе, будто в водевиле,
будто это в плохеньком пустом кинематографе,
будто опереточный танцор да балерина,
руку раскусили, посмотрите, до крови,
спрячьте лиф за платье, вот вам пелерина!..
Встала, пошатнулась.
Пошла, пошатнулась.
Растрепанные волосы,
надорванный голос и
у самого крылечка
странная сутулость…
– Кралечка, Юлечка,
дай мне колечко,
может, мы еще раз
перейдем крылечко,
может быть, все-таки
в этой вот беседке,
если не любовники,
то просто, как соседки
встречаются на рынке —
как старые знакомые,
по чести, по старинке!
Тихо повертела на пальце кольцо,
подняла носок, но обратно отставила.
Трудно, как заклятое, перейти крыльцо,
трудно, как от сладкого, отойти от старого?
Трудно, как от… Краля! Белая, растрепанная,
что же ты придумала? Кинулась и плюхнулась
на шею, до слез растроганная:
– Любишь? Неужели! – Милая! Люблю!..
Беседка наклоняется ниже, ниже,
темнота и шепот в беседковой нише.
А из дому куранты склянками в склон:
лунь всклянь. Плен, склеп, клен…
Морская-северная
К морю Белому, к морю бурному,
к полуострову, к порту Мурману
Двиной Северной, рекой пасмурной,
братьев – семеро, плыть опасно вам.
Рыбакам, кам-кам,
наплывала сельдь,
наплывал вал-вал
голубой,
по бортам, там-там,
распластали сеть,
нам висеть, сеть-сеть,
над водой.
Молодым, дым-дым,
хорошо, скользя
на челнах, ах-ах,
в глубину, —
я синей, ей-ей,
загляну в глаза,
на волну, льну-льну,
ледяну.
Ты не морщь, морж-морж,
золотых бровей,
подползи, лзи-лзи,
к кораблю.
Эти льды-льды-льды
широко проверь,
где тюлень, лень-лень,
белобрюх.
Гуды, охните, птицы, каркните-ка:
это Арктика, наша Арктика.
Небо веером, пышут полосы:
мы на полюсе, нашем полюсе!
Отошел шелк-шелк
ледяных пород
и на лед лег-лег,
поалев,
возведем дом-дом
и пойдем вперед,
где флажок жег-жег
параллель.
Надо влезть, «есть, есть!» —
закричать шумней
и за ним дым-дым
потянуть,
отплывет флот от
голубых камней,
чтоб дымок мог-мог
утонуть…








