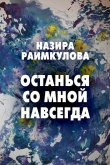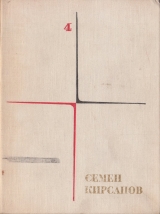
Текст книги "Собрание сочинений. Том 4. Гражданская лирика и поэмы"
Автор книги: Семен Кирсанов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
НА БЫЛИННЫХ ХОЛМАХ (1966–1970)
Туман в обсерватории
Весь день по Крыму валит пар
от Херсонеса до Тамани.
Закрыт забралом полушар —
обсерватория в тумане.
Как грустно! Телескоп ослеп,
на куполе капель сырая;
он погружен в туман, как склеп
невольниц, звезд Бахчисарая.
В коронографе, на холме,
еще вчера я видел солнце,
жар хромосферы, в бахроме,
в живых и ярких заусенцах.
Сегодня все задул туман,
и вспоминаю прошлый день я
как странный зрительный обман,
мираж в пустыне сновиденья.
Туман, а за туманом ночь,
где звезды страшно одиноки.
Ничем не может им помочь
их собеседник одноокий.
Темно. Не в силах он открыть
свой глаз шестнадцатидюймовый.
Созвездьям некому открыть
весть о судьбе звезды сверхновой.
Луну я видел с той горы
в колодце чистого стекольца:
лежали как в конце игры
по ней разбросанные кольца.
Исчезли горы и луна,
как фильм на гаснущем экране,
и мутно высится одна
обсерватория в тумане.
Я к башням подходил не раз,
к их кругосветным поворотам.
Теперь – молекулярный газ,
смесь кислорода с водородом,
во все проник, везде завяз,
живого места не осталось.
Туман вскарабкался на нас,
как Крабовидная туманность.
Вчера, когда закат погас,
я с поднадзорным мирозданьем
беседу вел с глазу на глаз,
сферическим укрытый зданьем.
Я чувствовал объем планет,
и в Мегамир сквозь светофильтры
мы двигались, как следопыты.
И вдруг – меня на свете нет…
Я только пар, только туман,
плывущий вдаль, валящий валом,
вползающий в ночной лиман,
торчащий в зубьях перевалов,
опалесцентное пятно
вне фокуса, на заднем плане…
И исчезаю – заодно
с обсерваторией, в тумане…
На былинных холмах
В Южной астрофизической обсерватории
на былинных холмах
купола —
как славянские головы в древних шеломах
в чернобыль и татарник
погружены.
Эти головы медленно поворачиваются
от забытых курганов
к Весам и Стрельцу.
На гравюрах к поэме «Руслан и Людмила»
я их видел
в издании для детей.
Они думают
снимками фотографическими
и незримые звезды упорно рассматривают,
мыслят
линиями спектральных анализов,
чуют пятна спиральных галактик,
но в сущности —
это головы сказочных богатырей,
в незапамятных сечах
мечами отрубленные
Пушкин их рисовал,
над стихами задумавшись,
на полях своих вещих черновиков.
Но и эти
пером испещренные рукописи
тоже снимки следов
нуклеарных частиц…
Черномор —
это черные клочья туманности,
где в сетях изнывает Людмила звезды.
Там за нею следят
и притворно прислуживают
голубые гиганты
и желтые карлики,
а сверхплотное тело, сидящее в центре,
тащит всю эту челядь к себе.
Это все раскрывается после двенадцати
в сновидениях
спящих богатырей,
когда под заколдованным мирозданием
светят только карманные фонари,
чтобы нимбы вечернего освещения
не мешали
поэтам и наблюдателям
в Южной астрофизической обсерватории
на былинных холмах.
Одно из наблюдении
Отцом среди своих планет
и за Землей следя особо —
распространяло Солнце свет
(но чувствовалось, что оно поеживается от озноба).
В мильоны градусов озноб
пятнал сияющее тело
(иногда оно выбрасывало с васильками и кашкою сноп
и беспристрастно вновь блестело).
Отцовски спокойное, оно заходило за Монблан,
но багровело над Камбоджей,
и было ясно, что Земля
озноб испытывает тот же.
И я не мог ни лечь, ни сесть
(по статистическим данным это происходило со всеми).
Знобило. Тридцать семь и шесть.
Что делать? – Всё в одной системе!
Солнце перед спокойствием
Беспокойное было Солнце,
неспокойное.
Беспокойным таким не помнится
испокон веков.
Вылетали частицы гелия,
ядра стронция…
И чего оно не наделало,
это Солнце!
Прерывалось и глохло радио,
и бессовестно
врали компасы, лихорадила
нас бессонница.
Гибли яблони, падал скот
от бескормицы.
Беспокойное в этот год
было Солнце.
Вихри огненно-белых масс
на безвинную Землю гневались.
Загоралась от них и в нас
ненависть.
Мы вставали не с той ноги,
полушалые…
Грипп валил одно за другим
полушарие.
Соляными столбами Библии
взрывы высились.
Убивали Лумумбу, гибли
в петлях виселиц.
Ползать начали допотопно
бронеящеры.
Государства менялись нотами
угрожающими.
Все пятнистей вставало Солнце,
тыча вспышками,
окружаясь кольцами концен —
трическими.
Рванью пятен изборожденное
безжалостно —
в телескопах изображение
приближалось к нам.
Плыл над пропастью Шар Земной
в невесомости…
И казалось: всему виной
в небе Солнце.
Но однажды погожим днем
было выяснено,
что исчезло одно пятно
ненавистное.
Солнце грело косым лучом
тихо, просто,
отболевшее, как лицо
после оспы…
Тревога
О, милый мир веселых птичьих гнезд!
Их больше нет. Несчастная планета
попала в дождь из падающих звезд
с диаметром от мили до полметра.
Шальные звезды мчатся вкривь и вкось,
шипят и остывают в мути водной.
Как много их, беспутных, пронеслось,
и ни одной спокойной, путеводной.
– Тревога!.. – рупор хрипло говорит.
Прохожих толпы прячутся в воротах.
Но где настигнет нас метеорит?
Где нас раздавит ржавый самородок?
Уже так было с Дублином. За миг
покончено с Афинами и Веной.
В секунду камень огненный возник
и изменил пейзаж обыкновенный.
Проходит год, и не проходит дождь.
И общая тревожность стала бытом.
Кто может знать, когда и ты найдешь
себя, звездой безжалостной убитым?
Железо вылетает из небес.
А люди стекла круглые наденут
и шепчутся: а может быть, не здесь,
а может, пролетят и не заденут?
Один сидит на башне, нелюдим,
считает блестки мчащегося скопа,
он – астроном. Он всем необходим,
как врач, с бессонной трубкой телескопа.
Среди все небо исписавших трасс
он вспоминает на седле тренога
от тихий век, когда пугала нас
наивная воздушная тревога.
В который раз на снимке видит он
за миллионы километров сверху
кишащий метеорами район,
подобный праздничному фейерверку?
А здесь, – глаза двух полюсов кругля,
бежит, вздымаясь светом Зодиака,
огромная бездомная Земля,
добитая камнями, как собака.
Звезда
Звезда зажглась в ночной вселенной,
нет, не зажглась, а родилась.
Звезда, не гасни, сияй нетленно,
светись на небе ради нас!
Но лишь зажглась, как уронилась
из мирозданья навсегда…
Скажи на милость, скажи на милость,
куда девалась ты, звезда?
Не оттого ль так жарко сердцу,
что ты горишь в моей груди?
Звезда, погасни, помилосердствуй,
твой жар убьет меня – уйди!
Бессонница солнца
Плывет путем земным
Земля. Сияет день ее.
У Солнца ж бред: за ним
ведется наблюдение.
Земля из-за угла
подстерегает диск его.
Схватила в зеркала.
Спустила вниз. Обыскивает.
Коронограф ведет
трубой по небу зрительной.
Земля себя ведет
неясно, подозрительно.
Зеркальные круги
преследуют. Исследуют
те ядра, о каких
планетам знать не следует.
Одной из полусфер
Земля в пятне пошарила.
Ушла. Следит теперь
другое полушарие.
Закрыть лицо Луной!
Чернеть еще надменнее!
Доволен Шар Земной —
он ожидал затмения.
Посты в горах. Досье
ведутся. Линзы глянули.
Фиксируются все
встревоженные гранулы.
Поднявшись в высоту,
захватывают атомы…
Как не взрываться тут?
Как не покрыться пятнами?
Протоны слать! Трубу
слепить протуберанцами,
волной магнитных бурь
глушить, глушить их рации!
Такой у Солнца бред,
как у людей в бессонницу.
Горячкой лоб нагрет.
Горит. К закату клонится.
Танцевальный час на солнце
Освещен розоватым жаром
танцевального зала круг:
места много летящим парам
для кружащихся ног и рук.
Балерины в цветном убранстве
развевают вуалей газ,
это танец протуберанцев —
C'est la dance des protuberances!
Пляшет никель, железо, кальций
с ускорением в тысячу раз:
– Schneller tanzen, Protuberanzen! —
Все планеты глядят на вас.
Белым пленникам некуда деться,
пляшет солнце на их костях.
Это огненный пляс индейцев
в перьях спектра вокруг костра.
Это с факелом, это с лентой
и с гитарою для канцон,
и спиральный, и турбулентный
в хромосфере встает танцор.
Из-под гранул оркестр как бацнет!
Взрыв за взрывом, за свистом свист:
– These is protuberances dancing! —
Длинноногих танцоров твист.
– Questo danza dei protuberanze! —
Это пляшут под звездный хор
арлекины и оборванцы
с трио газовых Терпсихор.
И затмения диск – с короной,
в граммофонном антракте дня,
где летим в пустоту с наклона —
мы с тобой – два клочка огня!
Сожаление
Меня оледенила жалость!
Над потемневшею листвой
звезда-гигант внезапно сжалась
и стала карлицей-звездой.
Она сжимается и стынет
и уплывает в те миры,
где тускло носятся в пустыне,
как луны, мертвые шары.
Но прелесть ведь и красота ведь:
дрожат Весы, грозит Стрелец…
И это должен ты оставить, —
Вселенной временный жилец.
На смерть звезды
Известье по созвездьям
комета развезла:
– О, горе! Умирает
великая звезда.
В небесной панораме
с надеждой на успех
она между мирами
светилась ярче всех.
О, как она сияла —
U W Большого Пса!
С брильянтами тиара
слепила небеса.
Швыряла свой Аш-альфа
красавица сия —
сияла, досняла
и высияла вся.
Всю молодость без толка
растратила на свет,
и жить осталось только
ей триста тысяч лет.
А триста тысяч – звездам,
что людям – три часа…
Раскаиваться поздно,
U W Большого Пса!
Напрасно посылала
лучи: «Спасите! SOS!»
Зато уж посияла,
как десять тысяч солнц!
И если в мире, где-то,
заметят пышный свет, —
не восторгайтесь – это
былого блеска след.
Какая неприятность!
Как бренно бытие!
Раскроем Звездный атлас
и вычеркнем ее.
На рождение звезды
О, звезды! В верхнем ярусе,
буквально среди нас —
звезда гигантской яркости
внезапно родилась.
Подумайте! Вчера еще
там плыл туманный шар,
боками подмерзающий
и погруженный в пар.
Из углерода с кремнием
там жили существа,
проникшие со временем
в устройство вещества.
Таблицу Менделеева
продлили, чтоб постичь
и вызывать деление
таинственных частиц.
Потом пошли испытывать!..
На суше и воде
шар начал тихо вспыхивать,
не весь, а кое-где.
Но существа работали
и лет за двадцать пять
свой способ разработали —
как звезды создавать.
И вот – уран, плутоний ли,
вчера – в холодный пар
они устройство подняли
и бросили на шар!
Удача! Вспыхнул пятнами
сплошной огневорот,
разбушевались атомы,
зажегся водород.
Хоть существа расплавлены,
исчезнув навсегда, —
но способ явно правилен:
имеется звезда!
Гиганты-звезды! Карлики!
Сказать придется вам
спасибо этим маленьким
упорным существам.
Какая новость ценная!
Какой эксперимент!
…А в остальном Вселенная
пока без перемен.
Гелиоскоп
Среди гальки и песков
стал расти гелиоскоп.
Тропы крымские узки,
высоко стоит скала;
в жаркой чаще – лепестки
раскрывают зеркала.
Учится – за солнцем в путь
оборачиваться он,
чтобы мог на нем сверкнуть
с неба мчащийся фотон.
Бури солнца. Пятна. След
от кипящего ядра.
А у нас простой рассвет,
луч рождения утра.
Две горстки звезд
Оказалось – в небе есть и я —
в горстке отдаленного созвездия —
Ореолом
засиял
бледный отблеск,
это я —
Альфа – я,
Бета – я,
Гамма – я,
Дзэта – я…
Через сто парсеков – звездных лет —
твой ко мне донесся слабый след —
Через гущу
черноты —
свет бегущий
это ты —
Альфа – ты,
Бета – ты,
Гамма – ты,
Дзэта – ты…
Почему же не прошли насквозь
друг сквозь друга – эти горстки звезд?
Бездна! Где ж
эти мы?
Без надежд —
море тьмы!
Разлетелись
в стороны,
навсегда
разорваны —
Альфа – мы,
Бета – мы,
Гамма – мы,
Дзэта – мы…
Перед затмением
Уже я вижу времени конец,
начало бесконечного забвенья,
но я хочу сквозь черный диск затменья
опять увидеть солнечный венец.
В последний раз хочу я облететь
моей любви тускнеющее солнце
и обогреть свои дубы и сосны
в болезненной и слабой теплоте.
В последний раз хочу я повернуть
свои Сахары и свои Сибири
к тебе и выкупать в сияющем сапфире
свой одинокий, свой прощальный путь.
Спокойного не ведал Солнца я
нив ледниковые века, ни позже.
Нет! В волдырях, в ожогах, в сползшей коже
жил эту жизнь, летя вокруг тебя.
Так выгреби из своего ядра
весь водород, и докажи свой гений,
и преврати его в горящий гелий,
и начинай меня сжигать с утра!
Дожги меня! Я рад такой судьбе.
И пусть! И пусть я догорю на спуске,
рассыпавшись, как метеорит тунгусский,
пылинки не оставив о себе.
«Возьми свой одр!»
Шел дождик после четверга,
тумана, ветра, кавардака,
во тьме, достойной чердака,
луна – круглей четвертака —
неслась над пиком Чатырдага.
Обсерватория, с утра
раздвинув купол за работой,
атеистична и мудра,
как утренний собор Петра,
сияла свежей позолотой.
Синели чистые холмы,
над ними облако витало
в степных цветах из Хохломы,
и в том, что созерцали мы,
Мадонны только не хватало.
Как божье око, телескоп
плыл в облака навстречу зною,
следя из трав и лепестков,
обвалов, оползней, песков
за вифлеемскою звездою.
Здесь не хватало и волхвов,
и кафедрального хорала,
волов, апостольских голов,
слепцов, Христа, и твердых слов:
«Возьми свой одр!» – здесь не хватало.
ЗЕРКАЛА
Поэма (1969)
Зеркала – на стене.
Зеркала – на столе.
У тебя в портмоне,
в антикварном старье.
Не гляди! Отвернись!
Это мир под ключом.
В блеск граненых границ
кто вошел – заключен.
Койка с кучей тряпья,
тронный зал короля —
всё в себя, всё в себя
занесли зеркала.
Руку ты подняла,
косу ты заплела —
навсегда, навсегда
скрыли их зеркала.
Смотрят два близнеца,
друг за другом следя.
По нонам – без лица,
помутнев как слюда,
смутно чувствуют: дверь,
кресла, угол стола, —
пустота! Но не верь:
не пусты зеркала!
Никакой ретушер,
не подменит лица,
кто вошел – тот вошел
жить в стекле без конца.
Жизни точный двойник,
верно преданный ей,
крепко держит тайник
наших подлинных дней.
Кто ушел – тот ушел.
Время в раму втекло.
Прячет ключ хорошо
это злое стекло.
Даже взгляд, и кивок,
и бровей два крыла —
ничего! Никого
не вернут зеркала! —
Сколько раз я тебя убеждал: не смотри в зеркала так часто! Ведь оно, это злое зеркало, отнимает часть твоих глаз и снимает с тебя тонкий слой драгоценных молекул розовой кожи. И опять все то же. Ты все тоньше. Пять ничтожных секунд протекло, и бескровно какая-то доля микрона перешла с тебя на стекло и легла в его радужной толще. А стекло – незаметно, но толще. День за днем оно отнимает что-то у личика, и зато увеличиваются его семицветные грани. Но, может, в стекле ты сохранней? И оно как хрустальный альбом с миллионом незримо напластанных снимков, где то в голубом, то в зеленом: приближаешься или отдаляешься ты? Там хранятся все хвои рты, улыбающиеся или удивляющиеся. Все твои пальцы и плечи – разные утром и вечером, когда свет от лампы кладет на тебя свои желтые лапы… И все же начала ты убывать. Зачем же себя убивать? Но сразу, не быстро, но верь: отражения – это убийства, похищения нас. Как в кино, каждый час ты все больше в зеркальном своем медальоне и все меньше во мне, отдаленней… Но —
в зеркалах не исчезают
ничьи глаза, ничьи черты.
Они не могут знать, не знают
неотраженной пустоты.
На амальгаме от рожденья
хранят тончайшие слои
бесчисленные отраженья
как наблюдения свои.
Так хлорвиниловая лента
и намагниченная нить
беседы наши, споры, сплетни,
подслушав, может сохранить.
И с зеркалами так бывает…
(Как бы свидетель не возник!)
Их где-то, может, разбивают,
чтоб правду выкрошить из них?
Метет история осколки
и крошки битого стекла,
чтоб в галереях в позах стольких
ложь фигурировать могла.
Но живопись – и та свидетель.
Сорвать со стен ее, стащить!
Вдруг, как у Гоголя в «Портрете»,
из рамы взглянет ростовщик?
…В серебряной овальной раме
висит старинное одно, —
на свадьбе и в дальнейшей драме
присутствовало и оно.
За пестрой и случайной сменой
сцен и картин не уследить.
Но за историей семейной
оно не может не следить.
Каренина – или другая,
Дориан Грен – или иной, —
свидетель в раме, наблюдая,
всегда стоял за их спиной.
Гостям казалось: все на месте,
стол с серебром на шесть персон.
Десятилетья в том семействе
шли, как счастливый, легкий сон.
Но дело в том, что эта чинность
в глаза бесстыдно нам лгала.
Жизнь притворяться наловчилась,
а правду знали зеркала.
К гостям – в обычной милой роли,
к нему – с улыбкой, как жена,
но к зеркалу – гримаса боли
не раз была обращена.
К итогу замкнутого быта
в час панихиды мы придем.
Но умерла или убита —
кто выяснит, – каким путем?
И как он выглядит, преступник
(с платком на время похорон),
кто знает, чем он вас пристукнет:
обидой, лаской, топором?
Но трещина, изломом призмы
рассекшая овал стекла,
как подпись очевидца жизни
минувшее пересекла.
И тускло отражались веки
в двуглавых зеркальцах монет.
Все это спрятано навеки…
Навеки, думаете? Нет! —
Все это в прошлом, прочно забытом. Время его истекло. И зеркало гаснет в чулане забитом. Но вот что: тебя у меня отнимает стекло. Нас подло крадут отражения. Разве в этой витрине не ты? Разве вон в том витраже не я? Разве окно не украло твои черты, не вложило в прозрачную книгу? Довольно мелькнуть секунде, ничтожному мигу – и вновь слистали тебя. Окна моют в апрельскую оттепель, – переплеты прозрачных книг. Что в них хранится? И дома – это ведь библиотеки, где двойник па каждой странице: то идет, то поник. Это страшно, поверь! Каждая дверь смеет иметь свою тень. Тысячи степ обладают тобою. Оркестр на концерте тебя отражает каждою медной и никелевой трубою. Столовый нож, как сабля наголо, нагло сечет твой рот! Все тебя здесь берет – и когда-нибудь отберет навеки. И такую, как ты, уже не найдешь ни на одной из планет. Как это было мною оказано? —
«И тускло отражались веки
в двуглавых зеркальцах монет.
Все это спрятано навеки…
Навеки, думаете? Нет!»
Все в нашей власти, в нашей власти,
И в антикварный магазин
войдет магнитофонный мастер,
себя при входе отразив.
Он изучал строенье трещин,
он догадался, как постичь
мир отражений, засекреченный
в слоях невидимых частиц.
Там – среди редкостей витрины,
фарфора, хрусталя, колец —
заметит он овал старинный,
вглядится, вспомнит наконец
пятно, затерянное в детстве,
завешанное кисеей,
где, как пропавшая без вести,
она исчезла… Где ж ее
глаза, открывшиеся утром
(но их закрыть не преминут),
и где последняя минута,
где предыдущих пять минут?
Ему тогда сказали: – Выйди! —
И повторили: – Выйди прочь! —
Кто ж, кроме зеркала, увидел
то, что случилось в эту ночь?
– С изъяном зеркальце, учтите.
– А, с трещиной… Предупрежден.
– Вы редкости, я вижу, чтите…
Домой, под проливным дождем
домой, где начат трудный опыт,
где блики в комнате парят,
где ждет, как многоглазый робот,
с рентгеном схожий аппарат;
где, зайчиком отбросив солнце,
всю душу опыту отдаст
живущий в вечном эдисонстве
и одиночестве – фантаст. —
Но путь испытателя крут, особенно если беретесь за еще не изведанный труд. Сначала – гипотеза, нить… Но не бойтесь гипотез! Лучше жить в постоянных ушибах, спотыкаясь, ища… Но однажды сквозь мусор ошибок выглянет ключ. Возможно, что луч, ложась на стекло под углом, придает составным особый уклон, и частицы встают, как иглы ежа: каждая – снимок, колючий начес световых невидимок. Верно ли? Спорно ли? Просто, как в формуле:

(Эн квадрат равняется единице плюс дробь, где числитель четыре пи эн е квадрат, а знаменатель некое К?)
Но цель еще далека, а стекло безответно и гладко. Но уже шевелится догадка! Что, если выпрямить иглы частиц, возвратить, воскресить отражение? Я на верном пути! Так идти – от решения к решению, пи за что не назад! Нити лазеров скрещиваются и скользят. Вот уже что-то мерещится! —
Покроет серебристый иней
поверхность света и теней,
пучки могущественных линий
заставит он скользить по ней.
Еще туманно, непонятно,
но калька первая снята,
сейчас начнут смещаться пятна,
возникнут тени и цвета.
И – неудачами не сломлен,
в таинственнейшей темноте
он осторожно, слой за слоем,
начнет снимать виденья те,
которым не было возврата,
и, зеркало зачаровав,
заставит возвращаться к завтра
давно прошедшее вчера!
Границы тайны расступаются,
как в сказке «Отворись, Сезам!».
Смотрите, видите? Вот – пальцы,
к глазам прижатые, к слезам.
Вот – женское лицо померкло
измученностью бледных щек,
а зеркало – мгновенно, мельком
взгляд ненавидящий обжег.
Спиною к зеркалу вас любят,
вас чтут, а к зеркалу лицом
ждут вашей гибели, и губят,
и душат золотым кольцом.
Он видит мальчика в овале,
себя он вспомнил самого,
как с ним возились, целовали
спиною к зеркалу – его.
Лицом к нему – во всем помеха,
но как избавиться, как сбыть?
И вновь видение померкло.
Рука с постели просит пить…
Но мы не будем увлекаться
сюжетом детективных книг,
а что дадут вместо лекарства —
овал покажет через миг…
И вдруг на воскрешенной ртути
мольба уже ослабших рук
и стон: – Убейте, четвертуйте,
дитя оставьте жить! – И вдруг,
как будто нет другого средства —
не отражать! – сорвется вниз,
ударится звенящем сердцем
об угол зеркало… И жизнь
в бесчисленных зловещих сценах
себя недаром заперла!
Тут был не дом, тут был застенок, —
и это знали зеркала.
Все вышло! С неизбежной смертью
угроз, усмешек, слез, зевот —
ушло все прежнее столетье!
А отраженье – вот – живет…
На улице темно, ненастно,
нет солнца в тусклой вышине.
Отвозят бедного фантаста
в дом на Матросской Тишине. —
А тебя давно почему-то нет. Но разве жалоба зеркало тронет? В какой же витрине тонет твой медленный шаг, твои серьги в ушах, твой платочек, наброшенный на голову? И экрану киношному, наглому дано право и власть тебя отобрать из других и вобрать. А меня обобрать, обокрасть. И у блеска гранитных камней есть такое же право. Право, нет, ты уже не вернешься ко мне, как прежде, любя. Безнадежная бездна, какой, ты подверглась! Фары машин, как желтые половцы, взяли тебя в полон. Полированная поверхность колонн обвела тебя вокруг себя. Не судьба мне с тобою встретиться. Но осталось еще на столе карманное зеркальце, где твое сверкало лицо, где клубилась волос твоих путаница. Зеркальный кружок из-под пудреницы меньше кофейного блюдца. В нем еще твои губы смеются, мутный еще от дыханья, пахнет твоими духами, руками твоими согрет!
Но секрет отражений ведь найден. Тот фантаст оказался прав: сколько вынуто было зеркал из оправ и разгадано! Значит, можно по слойку на день тебя себе возвращать, хоть по глазу, по рту, по витку со лба, какой перед зеркальцем свесился. Слоик снял – и ты смотришь так весело! Снял еще – слезы льются со щек. Что случилось тогда, когда слезы? Серьезное что-то? Ты угрюма – с чего? Вдруг взглянула задумчиво. Снял еще – ты меня будто любишь. А сейчас выжимаешь из тубы белую пасту на щетку. Вот рисуешь себе сердцевидные губы и лицо освежаешь пушком. Можно жить и с зеркальным кружком, если полностью нету. Так, возьмешь безделицу эту – и она с тобой может быть… —
А может быть, пещеры, скалы,
дворцы Венеций и Гренад,
жизнь, что историки искали,
в себе, как стенопись, хранят?
Быть может, сохранили стены
для нас, для будущих времен,
на острове Святой Елены
как умирал Наполеон?
И в крепости Петра и Павла,
где смертник ночь провел без сна,
ничто для правды не пропало,
и расшифровки ждет стена?
А «Искры» ленинской страница
засняла между строк своих
над ней склонившиеся лица
в их выражениях живых?
Как знать? Окно дворца Растрелли
еще свидетелем стоит
январским утром при расстреле?
А может быть, как сцены битв
вокруг Траяновой колонны —
картины стачек и труда
и Красной гвардии колонны
несет фабричная труба?
И может быть, в одной из комнат
не в силах потолок забыть,
что Маяковский в пальцах комкал,
что повторял?.. И может быть,
валун в пустыне каменистой,
куда под стражей шли долбить, —
партсбор барачных коммунистов
запечатлел?.. И может быть,
на стеклах дачи подмосковной
свой френч застегивает тень
того, чей взгляд беспрекословный
тревожит память по сей день?
Но, может, и подземный митинг
прочнее росписей стенных
еще живет под гром зениток
на арках мраморно-стальных?
Все может быть!.. Пора открытий
не кончилась. Хотите скрыть
от отражений суть событий, —
зеркал побойтесь, не смотрите:
они способны все открыть. —
Стой, застынь, не сходи со стекла, умоляю! Как ты стала мала и тускла! Часть лица налипает коверкаться. Кончились отражения зеркальца – оно прочтено до конца. Пустая вещица! Появилась на ней продавщица ларька, наклоняясь над вещами… И в перчатке – твоя, на прощанье, рука… —
Зеркала – на стене.
Зеркала – на столе.
Мир погасших теней
в равнодушном стекле,
В равнодушном?.. О, нет!
Словно в папках «Дела»,
беспристрастный ответ
могут дать зеркала.
Где бы я ни мелькал,
где бы ты ни ждала —
нет стены без зеркал!
Ищут нас зеркала!
В чьей-то памяти ждут,
в дневнике, в тайнике.
«Мертвых душ» не сожгут
в темный час, в камельке.
Сохранил Аушвиц
стоны с нар – вместо снов,
стены – вместо страниц,
след ногтей – вместо слов.
Но мундирную грудь
с хищным знаком орла
сквозь пиджак где-нибудь
разглядят зеркала.
В грудь удар, в сердце нож,
выстрел из-за угла, —
от улик не уйдешь,
помнят всё зеркала.
Со стены – упадет,
от осколков – и то
никуда не уйдет
кто бы ни был – никто!