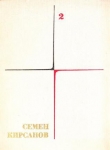Собрание сочинений. Том 4. Гражданская лирика и поэмы
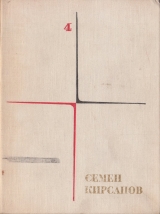
Текст книги "Собрание сочинений. Том 4. Гражданская лирика и поэмы"
Автор книги: Семен Кирсанов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
Малиновое М —
мое метро,
метро Москвы.
Май, музыка, много молодых москвичек,
метростроевцев,
мечутся, мнутся:
– Мало местов?
– Милые, масса места,
мягко, мух мало!
Можете! Мерси… —
Мрамор, морской малахит, молочная мозаика —
мечта!
Михаил Максимыч молвит механику:
– Магарыч! Магарыч! —
Мотнулся мизинец манометра.
Минута молчания…
Метро мощно мычит
мотором.
Мелькает, мелькает, мелькает
магнием, метеорами, молнией.
Мать моя мамочка!
Мирово!
Мурлычет мотор – могучая музыка машины.
Моховая!
Митя моргнул мечтательной Марусе!
– Марь Михална, метро мы мастерили!
– Молодцы, мастерски! —
Мелькает, мелькает, мелькает…
Махонький мальчик маму молит:
– Мама, ма, можно мне, ма?.. —
Минута молчания…
Мучаюсь. Мысли мну…
Слов не хватает на букву эту…
(Музыка… Муха… Мечта… Между тем…)
Мелочи механизма! Внимайте поэту —
я заставлю слова начинаться на букву эМ:
МЕТИ МОЕЗД МЕТРО МОД МОСТИНИЦЕЙ
МОССОВЕТА
МИМО МОЗДВИЖЕНКИ
К МОГОЛЕВСКОМУ МУЛЬВАРУ!
МОЖАЛУЙСТА!
Моя волна
Нет, я совсем не из рода раковин,
вбирающих моря гул,
скорей приемником четырехламповым
назвать я себя могу.
Краснеет нить кенотрона хрупкого,
и волны плывут вокруг,
слегка просвечивает катушка Румкорфа
в зеленых жилах рук.
Но я не помню, чтоб нежно динькало,
тут слон в поединке с львом!
Зверинцем рева и свиста дикого
встречаются толпы волн.
Они грызутся, вбегают юркие,
китайской струной ноют,
и женским плачем, слепым мяуканьем
приходит волне каюк.
Но где-то между, в щели узенькой
средь визга и тру-ля-ля —
в пустотах ёмких сияет музыка,
грань горного хрусталя.
Но не поймать ее, не настроиться,
не вынести на плече…
Она забита плаксивой стройностью
посредственных скрипачей.
Когда бы можно мне ограничиться
надеждой одной, мечтой —
и вынуть вилку и размагнититься!
Но ни за что!
Ты будешь поймана, антенна соткана!
Одну тебя люблю.
Тебя, далекая, волна короткая,
ловлю, ловлю!
Осада атома
Как долго раздробляют атом!
Конца нет!
Как медлят с атомным распадом!
Как тянут!
Что вспыхнет? Вырвется. Коснется
глаз, стекол,
как динамит! как взрыв! как солнце!
Как? Сколько?
О, ядрышко мое земное,
соль жизни,
какою силою взрывною
ты брызнешь?
Быть может, это соль земного, —
вблизь губы, —
меня опять любовью новой
в жизнь влюбит!
Поиск
Я, в сущности, старый старатель,
искательский жадный характер!
Тебя я разглядывал пылко,
земли потайная копилка!
Я вышел на поиск богатства,
но буду его домогаться
не в копях, разрытых однажды,
а в жилах желанья и жажды.
Я выйду на поиск и стану
искателем ваших мечтаний,
я буду заглядывать в души
к товарищам, мимо идущим.
В глазах ваших, карих и серых,
есть Новой Желандии берег,
вы всходите поступью скорой
на Вообразильские горы.
Вот изморозь тает на розах,
вот низменность в бархатных лозах,
вот будущим нашим запахло,
как первой апрельскою каплей.
И мне эта капля дороже
алмазной дробящейся дрожи.
Коснитесь ее, понесите,
в стихах ее всем объясните!
Какие там, к черту, дукаты?
Мы очень, мы страшно богаты!
Мы ставим дождинки на кольца,
из гроз добываем духи,
а золото – взгляд комсомольца,
что смотрится в наши стихи.
Дорога по радуге
По шоссе, мимо скал, шла дорога моря поверх.
Лил ливень, ливень лил, был бурливым пад вод.
Был извилистым путь, и шофер машину повер —
нул (нул-повер) и ныр-нул в поворот.
Ехали мы по Крыму
мокрому.
Грел обвалом на бегу
гром.
Проступал икрою гуд —
рон.
Завивался путь в дугу,
вбок.
Два рефлектора и гу —
док.
Дождь был кос. Дождь бил вкось.
Дождь проходил через плащ в кость.
Шагал на огромных ходулях дождь,
высок и в ниточку тощ.
А между ходулями шло авто.
И в то авто я вто —
птан меж
двух дам
цвета беж.
Капли мельче. Лучей веера
махнули, и вдруг от Чаира до Аира
в нагорье уперлась такая ра…
такая! такая! такая радуга дугатая! —
как шоссе, покатая!
Скала перед радугой торчит, загораживая.
Уже в лихорадке авто и шофер.
Газу подбавил и вымчал на оранжевое —
гладкая дорожка по радуге вверх!
Лети, забирай
на спектры!
Просвечивает Ай —
Петри!
Синим едем, желтым едем, белым едем, красным едем.
По дуге покатой едем, да не правится соседям, —
недовольны дамы беж:
– Наш маршрут не по дуге ж!
Радуга, но все ж
еду на грязи я.
Куда ты везешь?
Это безобразие.
Это непорядки,
везите не по радуге!
Но и я на всем пути молчу на эти речи:
с той радуги сойти – не может быть и речи!
Растение в полете
Схожее внешне с цаплею,
с листьями сухими —
летит растение теплое,
свойственное Сухуми.
В Арктику из субтропиков
везет растение летчик,
бережно, в крошке пробковой,
чтоб не помять колючек.
Скоро и Харьков скроется,
тучи уйдут к Батуми,
но винт не уступит в скорости
самому самуму.
Он донесется вскорости
к сетке широт паучьей,
где – на советском полюсе —
мы вырастим сад плавучий.
Лед порастет цветами,
снег заблестит теплицами,
все небылицы станут
светлыми да-былицами!
Я вижу уже заранее
под пальмой тушу тюленью.
Мы едем с мыса Желания
в долину Осуществленья.
Глядя в небо
Серый жесткий дирижабль
ночь на туче пролежабль,
плыл корабль
среди капель
и на север курс держабль.
Гелий – легкая душа,
ты большая туча либо
сталь-пластинчатая рыба,
дирижабрами дыша.
Серый жесткий дирижабль,
где синица?
где журавль?
Он плывет в большом дыму
разных зарев перержавленных,
кричит Золушка ему:
– Диризяблик! Дирижаворонок!
Он, забравшись в небовысь,
дирижяблоком повис.
Работа в саду
Речь – зимостойкая семья.
Я, в сущности, мичуринец.
Над стебельками слов – моя
упорная прищуренность.
Другим – подарки сентября,
грибарий леса осени;
а мне – гербарий словаря,
лес говора разрозненный.
То стужа ветку серебрит,
то душит слякоть дряблая.
Дичок привит, и вот – гибрид!
Моягода, мояблоня!
Сто га словами поросло,
и после года первого —
уже несет плодыни слов
счасливовое дерево.
Птичий клин
Когда на мартовских полях
лежала толща белая,
сидел я с книгой, на полях
свои пометки делая.
И в миг, когда мое перо
касалось граф тетрадочных,
вдруг журавлиное перо
с небес упало радужных.
И я его вписал в разряд
явлений атомистики,
как электрический разряд,
как божий дар без мистики.
А в облаках летел журавль
и не один, а стаями,
крича скрипуче, как журавль,
в колодец опускаемый.
На север мчался птичий клин
и ставил птички в графике,
обыкновенный город Клин
предпочитая Африке.
Журавль был южный, но зато
он в гости к нам пожаловал!
Благодарю его за то,
что мне перо пожаловал.
Я ставлю сущность выше слов,
но верьте мне на слово:
смысл не в буквальном смысле слов,
а в превращеньях слова.
Двойное эхо
Между льдами ледяными
есть земля еще земней!
Деревянные деревья
среди каменных камней.
Это северней, чем Север,
и таежней, чем тайга,
там олени по-оленьи
смотрят в снежные снега.
И нерыбы точно рыбы
там на лежбищах лежат,
в глыбы слившиеся глыбы
строго море сторожат.
Еле солнечное солнце
сновидением во сне
входит в сумеречный сумрак,
тонет в белой белизне.
Люди там живут как люди
с доброй детскостью детей,
горя горького не зная
в мире сетчатых сетей.
Под сияющим сияньем —
домовитые дома,
где сплетают кружевницы
кружевные кружева.
Это – именно вот это!
И со дна
морского дна
эхолот приносит эхо:
глубока ли глубина?
И желает вниз вонзиться
острие на остроге,
и кричат по-птичьи птицы:
– Далеко ли вдалеке?
О, отдаляться в отдаленье,
где эхо внемлет эху,
о, удивляться удивленью,
о, улыбаться смеху!
Лесной перевертень
Летя, дятел,
ищи пищи.
Ищи, пищи!
Веред дерев
ища, тащи
и чуть стучи
носом о сон.
Буди дуб,
ешь еще.
Не сук вкусен:
червь – в речь,
тебе – щебет.
Жук уж
не зело полезен.
Личинок кончил?
Ты – сыт?
Тепло ль петь?
Ешь еще
и дуди
о лесе весело.
Хорошо. Шорох.
Утро во рту,
и клей елки
течет.
Розы
Я начал разбираться в розах,
в их настроениях, в их позах.
Еще зимою, в спальне темной
шепчась, они вздыхают томно.
Им представляется все лето
как ателье для туалетов,
где шелк наброшен на прилавок
в сезон примерок и булавок,
где розовеют плечи, груди,
откуда их вывозят в люди —
на выставки и на смотрины,
на клумбы, в вазы, на витрины.
Перед прибытием портнихи
куст полон трепетной шумихи;
никто не вспомнит о лопате, —
идет примерка бальных платьев
невестам, девственницам, шлюхам,
восточным неженкам, толстухам,
здоровьем пышущим матронам
и лебединым примадоннам…
О, выход роз, одетых к балу,
к театру, к свадьбе, к карнавалу!
Идут, шаля и бедокуря,
блестя шипами маникюра,
Гертруды, Нелли, Бетти, Клары…
Сад им раскрыл все кулуары.
Духи, помада, шелест платья,
в беседках тайные объятья;
им кажется, что будет вечно —
банкетно, бально, подвенечно…
Но только ночь пройдет одна лишь,
куст наклонившийся отвалишь,
и где вчера головкой Грёза
романс выслушивала роза, —
осенний день тоскливо гаснет,
деревья в рубище ненастья,
и роза – бедная старуха —
стоит, лишившаяся слуха,
перед раскинутым у гроба
былым богатством гардероба,
стоит над мерзлою травою,
тряся червивой головою.
О, шелк! О, нежные муары!..
Одна утеха – мемуары.
Ад [3]3
Оригинальная структура стихотворения


[Закрыть]
Иду
в аду.
Дороги —
в берлоги,
топи, ущелья
мзды, отмщенья.
Врыты в трясины
по шеи в терцинах,
губы резинно раздвинув,
одни умирают от жажды,
кровью опившись однажды.
Ужасны порезы, раны, увечья,
в трещинах жижица человечья.
Кричат, окалечась, увечные тени:
уймите, зажмите нам кровотеченье,
мы тонем, вопим, в ущельях теснимся,
к вам, на земле, мы приходим и снимся.
Выше, спирально тела их, стеная, несутся,
моля передышки, напрасно, нет, не спасутся.
Огненный ветер любовников кружит и вертит,
по двое слипшись, тщетно они просят о смерти.
За ними! Бросаюсь к их болью пронзенному кругу,
надеясь свою среди них дорогую заметить подругу.
Мелькнула. Она ли? Одна ли? Ее ли полузакрытые веки?
И с кем она, мучась, сплелась и, любя, слепилась навеки?
Франческа? Она? Да Римини? Теперь я узнал: обманула!
К другому, тоскуя, она поцелуем болящим прильнула.
Я вспомнил: он был моим другом, надежным слугою,
он шлейф с кружевами, как паж, носил за тобою.
Я вижу: мы двое в постели, а тайно он между.
Убить? Мы в аду. Оставьте у входа надежду!
О, пытки моей беспощадная ежедневность!
Слежу, осужденный на вечную ревность.
Ревную, лететь обреченный вплотную,
вдыхать их духи, внимать поцелую.
Безжалостный к грешнику ветер
за ними волчком меня вертит
и тащит к их темному ложу,
и трет меня об их кожу,
прикосновенья – ожоги!
Нет обратной дороги
в кружащемся рое.
Ревнуй! Эти двое
наказаны тоже.
Больно, боже!
Мука, мука!
Где ход
назад?
Вот
ад.
ПОЭМА ПОЭТОВ
(1939–1966)
Предисловие
В обыкновенный августовский день,
в день, когда зной кладет ладонь на лист
и не дает зарифмоваться строчке,
в обыкновенный августовский день
раздался стук. Я отпер. Как обычно,
вошел мой ежедневный посетитель,
обремененный кожаного сумкой
с повестками, газетами и прочим, —
всем этажам знакомый почтальон.
На этот раз он вытащил из сумки
прошитую шнурком с сургучной кляксой
большую заказную бандероль.
Я бережно обрезал край пакета,
слегка потряс и очень удивился!
Из бандероли выпали на стол
два-три арбузных семечка. За ними
упал на стол засушенный цветок,
прозрачный, легкий, в жилках стрекозиных.
Я очень удивился, повторяю,
и вынул из пакета шесть тетрадей,
линейных, клетчатых, контокоррентных,
и с интересом их перелистал.
Страницы перелистывая бегло,
я увидал шесть почерков различных.
Был первый почерк острым и прямым,
он рос на разлинованной странице,
как лук на грядках в южном огороде;
другой – округло буковки катил,
как девочка колеса подгонялкой;
был третий неуверенным таким,
словно его рассеянный владелец
водил пером по счетоводной книге,
взгляд отвернув или закрыв глаза;
четвертый – на бумаге неграфленой
уже не почерк был, а ровный шрифт,
отстуканный на пишущей машинке.
Он показался прозой. Нет, не так!
Я заприметил рифмы в гуще прозы.
Взглянул на пятый почерк. Почему
нигде не видно знаков препинанья?
Он отличался точностью нажима,
каллиграфическою красотой,
и все слова, как подписи, стояли,
взлетая росчерками вверх и вниз.
Тетрадь шестая – сплошь, как черновик,
чернела вороньём чернильных клякс,
исчерканная множеством помарок,
приписок, исправлений, вариантов,
горизонтально, наискось и вдоль…
Пять лет они лежали в кипе книг,
пять лет ничья рука их не листала…
Быть может, Вари фронтовой дневник
изорван злостью минного металла?
Быть может, и Сметанников ушел
сапером в багровеющие дали?
Не знаю… Я писал, но из Козловска
мое письмо вернулось: никого!
Я шесть тетрадок отдал машинистке,
она их тщательно переписала.
Я выправил, не изменив ни строчки,
особенности слога сохранив.
И я назвал: «Поэмою поэтов»
стихи моих незнаемых друзей.
Клим Сметанников
ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ
Родословное древо
Из ботаников я – Клим Никитич Сметанников.
Мой отец – огородник, и дед из баштанников,
вся семья – от дядей до внучатных племянников —
из потомственных, из родовитых ботаников.
Из босых академиков, сведущих в ягодах,
прочитавших ботву, как старинную книжицу,
я ботаник, имеющий званье от прадеда,
мне под снегом потуги растения слышатся.
Я в поэты пришел с земляными ручищами,
с образцами картошки, с бугристой морковищей,
хоть на выставку ставьте – на грядках расчищенных
не цветы, а капуста, добротные овощи.
Я пеленат, баюкан бахчами казацкими,
комсомолец, колхозник селенья Клинцовское,
в институте познаний сельскохозяйственных
дополняю латынью наследье отцовское.
Я Есенина чту, но запоем не баливал,
и в родне у нас нет разудалых тальянников.
Вырастай же сам-семьдесят, песнь небывалая,
как прикажет тебе Клим Никитич Сметанников!
Цвет волос
Я рыж, как луг, пожаром выжженный,
хожу, горю – сплошною рыжиной!
Копна волос – дикарской хижиной,
лицо – веснушками сплошь засижено.
С копною ржи меня кони путают,
с рывком пожара в тревогу лютую,
с кленовой желтью, как листья падают,
и с лисьей шкурою конопатою.
Бегут ручьи за Клим Никитичем.
Кричат: – Никитич! Мы скоро вытечем! —
Поют ростки в весенней сырости:
– Мы очень крепкие, мы скоро вырастем!
Навоз ворочайте, стальные лопасти,
расти, растущее, теки, текущее!
Мне вся природа сдана по описи —
вести явлений дела текущие.
Рыжейте жарче, лесища красные!
Ты – желтый колос, до жатвы выживи!
Одной природы явления разные,
мы с вами в родственниках – мы рыжие!
Никита Флорыч
Я приезжаю, берусь за поручень.
Отходит поезд. Дорога санная.
С моим родителем – Никитой Флорычем —
целуюсь кратко в усы овсяные.
Сын крепостного, а выбрит начисто,
лицо из меди татарской выковки,
диплом отличия на стенке значится
за экспонаты в Москве на выставке.
Родная хата – на полке вербонька,
портрет Некрасова, собранье Надсона,
но здесь читают работы Бербанка
и календарь за год Двенадцатый.
Вот мой родитель – в теплице на зиму
таблицы разных семян натыканы.
Он – аналитик арбузных разумов,
дынных инстинктов, сознаний тыквенных.
Он им внушает: налиться сахаром,
полней созреть еще, набраться запаху.
При виде Флорыча подсолнух аховый
лицо ворочает с востока к западу.
Меня с Павлушей не прочил в гении,
растил – не мамоньке для потехоньки,
он в нас выращивал любовь к растению,
понятье в почве и тягу к технике.
Сказал он как-то: – В плоде и в ягоде —
запомни – косточка важнее мякоти. —
Сказал он как-то: – Два века кабы мне,
и дыня тоже росла б на яблоне.
Сказал он как-то: – И тыква мысляща,
да человеки гораздо развитей! —
За все, что понял я, вобрал и выслушал, —
многая лета, папаша, здравствуйте!
Морковь
Морковь – в земле увязший палец,
и, верно, кажется кротам —
те руки, чем в земле копались,
попались и остались там.
Мизинцы овощниц багровых
разбухли от дождей и вод,
рук, отмороженных до крови,
под почвой полон огород.
Пора полоть морковь, подруги!
Махровый занялся рассвет,
цепляются за землю руки,
когда их руки тащат в свет.
Овес
Овсянку мы едим в молочной.
Минута – и тарелка вся.
И вот рождается заочно
стихотворенье в честь овса!
Овес! Склони свои подвески,
и я хвалу тебе воздам.
Виктория, отборный шведский, —
ты нужен нам и лошадям!
Ты любишь мягкость почв пуховых,
уход, и дождик, и навоз…
Вот вы стихов хотите новых,
а знаете, почем овес?
Тыква
У нас в теплице есть обнова:
тыква созрела! Шум какой!
Как в клинике врача зубного
чудак с раздутою щекой!
Ой, как раздуло! Вспухла кожа,
и тыквин облик стал таков:
всю своротило набок рожу,
вбинтованную в шесть платков.
И тыква в кресле. Тыкве круто
придется от ножа и рук,
от нас – студентов института
сельскохозяйственных наук.
Колумбов плод
Лукошко я трясу, как бубен,
и гул объемлет огород.
Картошка! Здравствуй, серый клубень,
Колумбом выявленный плод!
Ты лезешь внутрь земной утробы,
индейскому навстречу дню, —
как будто хочешь из Европы
взглянуть на древнюю родню.
Под нож попался ты поэту,
Колумбов плод, растенье-крот!
И песнь торжественную эту
тебе Сметанников поет.
Дипломная
Я понял: студенчество – это станица
в больших огородах. Станица в столице.
Казачество умных и сочных наук
с плетнем из колонн и дорогой на юг.
Тут циркуля шаг осторожный, цаплиный,
посадка в седло молодой дисциплины,
в чернильный колодец – журавль пера,
и скоро в совхозы нам ехать пора.
Мы кончим – и колос подымется втрое,
мы кончим – и пчелы в невиданном рое,
капуста как облако, дыня как дом, —
когда мы окончим и в дело пойдем!
Энтомология любви
По своей к насекомым таинственной страсти —
рассмотрела, узнала, и вот тебе здрасти!
Ты словила меня на прожилках ботвы,
я сдыхаю, как жук, на булавке любви.
Не ползти мне по травам к тычинковым тварям,
я ворочаюсь, Варюшка, Варя, Варвара!
Не заглядывать в рыльце родного цветка,
хоботочком не рыться, не ведать медка!
Вы, ребята, мечтаете: вот полюбить бы!
Вот я рыцарь, заколотый на поле битвы,
я, убитый бессонной мечтой про нее,
нежным варваром, в сердце воткнувшим копье.
Всем видна твоя в сердце булавка, Варвара,
и сижу я, и жду на скамейке бульвара.
В шесть часов ты покажешься из-за стола,
и застряла во мне часовая стрела.
Называешь: «жучок», издеваешься: «рыжий»,
и смеешься, меня подвигая поближе,
так что даже профессор в зеленых очках
говорит тебе: – Варя, не мучьте жучка!
Мучь! Не слушай профессора! Мучь и домучай!
И коли меня глубже булавкой колючей,
если ж вырву из сердца занозу любви —
легкой сеткой ресниц, о Варвара, лови!
На Волге
Рыба отдана солнцу в засолку.
Подкатаем порты – и на Волгу!
И река же у нас, и жара ж —
свой Египет у кранов и барж.
Волга – Нил, Жигули – пирамиды!
На пшеницу отменные виды!
Что ни парень – то копт и феллах,
почерневшие в летних делах.
Берег волжского Нила. На оном
я районным хожу фараоном,
и одна из приволжских Изид
мне сушеною рыбой грозит.
Аллигаторов тут не богато, —
с нивелиром тут есть ирригатор,
что ж касается нашего Ра —
есть заря, и гора, и жара!
Эй, ребята, снимайте портянки!
Рыть каналы для ржи-египтянки!
Время – климат и Волге менять!
Это надо суметь и понять!
Практическая степь
Я – поэт и ботаник, хожу по степи,
приминая колючки, цветы и шипы,
я не степью хожу, я хожу по аптеке,
разбираясь в зеленой фармакотеке.
Беспредельная степь, бесконечная степь,
ты – природой написанный длинный рецепт!
За полоской слабительных резко запахли
удивительно сильные мятные капли.
Масса детской присыпки качается тут,
и добротные рвотные дико растут,
дозирована точно, вспухая и спея,
летним солнцем отвешенная фармакопея.
И мне видится: тонкие корешки
превращаются в сладкие порошки,
и качаются склянки с ромашкой на пробке,
и пилюли слагаются с веток в коробки.
Вы горячкой больны – вам накапали степь,
вы в жару – нате степь на горчичном листе!
Шприц шипа тут растет с одуванчиком зонда.
Пациент – я вхожу в кабинет горизонта!
Солнце начало сразу, склонясь у плеча,
операцию глаз инструментом луча.
Достопримечательности
Я был в Москве. Она – добротный город.
Маленько Волга дует ей за ворот.
Легонько пахнет нефтью и тайгой,
Донбасс чуть-чуть задел ее рукой.
Московия, ты цареград плодовый,
пунцовых башен грозные моркови,
под куполами зрелыми лежишь
зеленолистою ботвою крыш.
Малина, тыква, ананас и дыня
с бутылкою анисовки в средине —
Василия Блаженного собор,
на поставце стоящий с давних пор.
Я б засадил Москву рядами елей,
рядами кедров по длине панелей,
кристаллы зданий я бы окаймлял
ветвями пихт до самого Кремля.
Мичурин-Время скрещивает избы
со стройною архитектурой призмы,
гибрид ампира с блеском Корбюзье,
прожектор при естественной грозе!
Москва – несметно редкостная друза
столиц, колхозов, сел и дач Союза,
в ней всех провинций руки сплетены,
она – большая выставка страны.
Москва одна – при зное и морозе,
в стихах и в прозе, в хвое и в мимозе.
Поэт, ботаник и провинциал,
я понял вдруг Москву и просиял:
Москва – Москвища, а моя сторонка,
мой городок – приветная Москвенка!
И то село, откуда я и вы,
лежит родимым пятнышком Москвы!
Всех породнила, всех переженила —
грузина, чуваша и волжанина,
всех подружила общностью одной,
как сто плодов от косточки родной.
Вот я брожу, еще никем не признан
в многознаменном граде коммунизма,
и тыща верст от Волги – ни при чем!
Я и себя считаю москвичом!
И этих звезд полночные рубины
у нас есть тоже – в ягоде рябины,
и этих стен кумачных кирпичи
есть и в избе родительской – в печи!
Пусть стерегут мою Москву большую
дозоры одесную и ошую,
и семена отборные Москвы
по всей земле пускай дают ростки!
Дума об ананасе
О, плод головастый из племени инков,
что странно возник у Загорского рынка,
с воинственно-диким зеленым пучком!
Растение-идол. А впрочем – почем?
Я взял за вихор этот плод Монтецуму
и понял его мексиканскую думу:
что он бы безропотно рос и не чах
ацтеком на наших советских бахчах.
Он жил бы не вчуже и зрел бы не втуне
с антоновкой, русской простой хохотуньей.
На пляж отдыхающих тыквенных пуз
привел новичка бы херсонец арбуз.
Разрежь его, Варя, он пахнет на славу,
запьем его влагой совхоза Абрау,
два запаха эти докажут как раз,
что Мексике очень подходит Кавказ.
О, скрещивать разных – в моих это вкусах.
Чудесные дети – от черных и русых!
Возьми за вихор меня – скажут про нас:
ты яблоко-девушка, он – ананас!
А я не индеец, я только похожий.
Но пусть приживется и плод краснокожий,
пусть песню затянет наш девичий хор
про твой, ананасе, зеленый вихор!
Ода русской земле
Стихи о России – стихи не простые:
Христа и березку вы мне б не простили,
прочти я псалом про цветы и скиты —
сказали б: – Сметанников! Это не ты.
В проспект Интуриста зачислены: тройка,
икона, трактир, каравай и попойка,
молодка, мужик, сарафан, самовар,
и «эх» и «чаво», и подобный товар.
Я это отбросил. За время Советов
показано ясно – Россия не это!
Россия – смекалка, ухватка, размах,
и недруги помнят о наших Косьмах!
У русских не знали немецкого счета,
расплата за всех – это стоит почета!
Не брали за выпивку с гостя в дому,
а все без остатка в тарелку ему.
Японская вежливость нам не по нраву,
с поклонцем, с присестом не каплем отраву,
чинили расправу – не маслили глаз,
и слов двоезначных нет в речи у нас.
Душа у народа, как небо и солнце,
раскрытая путнику дверь хлебосольства,
рубашка – с товарищем – напополам,
и есть чем похвастаться нам – москалям!
Есть качества русские – знаете сами —
недавно сказались они на Хасане,
и эти вот качества русской души
в приход коммунизму – возьми и впиши!
Есть качества русские – мастеровые!
Наш Яблочков выдумал лампу впервые,
и радиозвук родился на Руси,
и это в приход коммунизму внеси.
Ста дружным народам – Россия старшая,
кнутом не грозя и тюрьмой не стращая,
а делится хлебом, любовью, душой —
с дехканом, с казахом, с кавказским мушой.
Так ярче румянцу и больше красы ей!
Французы и негры, гордитесь Россией,
что завтра за якорь, и полюс за ось,
и счастье за хвост нам поймать довелось!
На русской земле есть красавица Варя,
второй не найдете, всю землю обшаря,
вторая – другая, не этих примет,
красивей – возможно, любимее – нет!
Так высься и ширься, все рати осиля,
всесветная мать коммунизма – Россия,
багряные стяги над миром вия,
и да расточатся врази твоя!
Что надо поэту
Что надо поэту? Для полной удачи —
ни злата в сберкассе, ни каменной дачи,
ни дяди с наследством, ни сада в Крыму,
ни чина, ни сана не надо ему.
Я начал писать на плодах и колосьях,
на шкурке крота, на чешуйках лосося,
я строки веслом расплескал на пруде,
я вилами даже писал по воде!
Чудесно – писать на березовом лыке,
пером журавля и чернилом черники,
кто сызмальства песню любить научен —
умеет ничем сочинять на ничём!
Поэты – мы рифмы кладем в изголовье,
проснемся – и голубя ловим на слове!
За словом подледным на прорубь идем,
погоню за соболем-словом ведем!
Мы – практики – в курсе высоких материй,
и все, что мне надо, – любить до потери
сознанья, ума, аппетита и сна,
чтоб вывеской всюду сверкало: она!
Любовь – это двигатель нашего дела!
Любить – облеченное в облако тело,
таинственной жилки подкожную нить,
песок под ногами любимой любить.
Мосты перекидывать, строить столицы,
врагу отвечать пулеметной сторицей,
и, путь пробивая во льдах кораблю
к Сухуми от Арктики, кинуть: – Люблю
планету мою, – как любимой подножье, —
природу, погоду, творение божье,
явление лета, весны и зимы
и сено, где ляжем в объятия мы!
Что надо поэту? До клеток распада —
любить, и ты будешь поэтом что надо,
и та, что любима, поймет, стало быть,
что надо такого поэта любить!