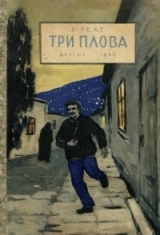
Текст книги "Три плова"
Автор книги: Семен Гехт
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
Он назначил первый полет на утро.
И машины вылетели с грузом – на каждой тридцать мешков с мукой. Горы затянуло облаками. Облака мешали самолетам набирать высоту.
– Досаждают, – посетовал Баул, – потолок ограничивают.
Вспыхивали, гасли и снова вспыхивали дожди. Это сулило неприятность: обледенение. Как-никак, наверху 6 градусов мороза.
Горные пики, крутые склоны, отвесные скалы, ущелья... На самолете «К-5», где за управлением сидел Баул, парашютов не было.
– В глубокой теснине! – пропел Баул.
Он раз сказал жене:
«Я пролетал вчера над тесниной Дарьяла. Как демон! И где он там, прах его возьми, приземлялся?»
«На автожире, что ли?» – – тоже пошутила жена.
«Все вы нынче грамотные! – проворчал Баул. – Автожиры, геликоптеры...»
Здесь тоже не приземлишься. И вся-то загвоздка, что надо идти на бреющий полет в этом мрачном и узком, как труба, коридоре. Надо спустить машины с 2700 метров до земли. И нужно возвращаться на базу на малых высотах, по ущелью, лавируя между скалами.

Его машина снизилась до 50 метров и оказалась на уровне тех великолепных загеданских сосен, о которых ему говорили в станице. «Р-5» опустился еще ниже– он пролетал в десяти метрах от земли.
В первый разворот самолеты сбросили только вымпелы. Это воздух дал земле знак: к вымпелам не подходить, еще пришибет мешком.
Потом полетели и мешки – один, другой... И бородачи хлопали каждому
сброшенному с самолета мешку с мукой: первому, второму... На борту «К-5» было три человека, и они сбрасывали каждый раз по пять мешков, а с «Р-5» сбрасывали по одному. Пройдя бреющим полетом, самолеты набирали опять высоту. Двадцать пять мешков – двадцать пять бреющих полетов.
Когда машины повернули за следующей партией муки, снова ударил дождь. «А в городе как?» – подумал Баул, представив себе веселые ручьи, круто сбегающие с высокой Нахичеванской улицы, мокрых галок, повеселевшие акации...
«Горожанам одно удовольствие – освежит на бульварах зелень, прибьет на асфальте пыль...»
Вспомнился Пылеед. Стоит там на улице со своими царапинами, обиженный...
«Зря обидел малого», – пожалел мальчугана Баул.
В облаках мелькнуло «окошко», завиднелись бурлящие воды Лабы. На привале бортмеханик достал плитку шоколада и съел ее целиком. Баул тоже полез за шоколадом, но есть не стал.
– Аппетит пропал? – осудил его бортмеханик, заприметив, как командир опустил плитку в карман.
– По совести, надоел. В каждый полет шоколад...
– Ой ли? А не сказка про Ивана-царевича и Жар-птицу?
– Во всяком случае, не для барышни оставлена, так что твои догадки того...
А погода все нехороша. Под крыльями самолетов – то же нагромождение покрытых снегом откосов. Мрачный, красивый беспорядок природы. Пики наползали друг на друга. Ущелья непроходимы. И опять началась полоса бреющих полетов.
Переночевав у своих самолетов, летчики взялись с утра снова за перевозку муки. Как и вчера, жалось к баракам все население поселка. Бородачи в полушубках и серо-зеленых шинелях хлопали каждому падавшему с высоты мешку.
В городе дождя не было. Написав рапорт начальнику управления, Баул поехал домой. На углу Нахичеванской он увидел из окошка автомобиля Пылееда. Смастерив из веревок длинный пастушеский бич, мальчуган щелкал им направо и налево. Исступленно кружась на тротуаре, он поднимал вихри пыли. Лицо его сияло, будто его и не обижали.
– Черт его знает! – засмеялся Баул. – Он действительно какой-то пылеед!
Летчик остановил машину. Высунув из окошка голову, он поманил к себе увлеченного щелканьем бича мальчугана. Тот глянул на него недоверчиво, попятился.
– Да иди сюда, не бойся! – уговаривал его Баул.
Пылеед не шел. Он озирался на товарищей, беспристрастно
наблюдавших сцену примирения. Показывая Пылееду на сумку, Баул похлопал по ней рукой. Пылеед вытянул голову, стремясь заглянуть внутрь машины.
– Иди же! – звал его Баул.
Пылеед все озирался на товарищей: как, мол, по-ихнему? Выдержал он характер? Может быть, довольно? И, осторожно ступая, перестав щелкать бичом, подошел к машине.
– Привет! – сказал Баул, протянув для пожатия руку.

– Привет, – повторил Пылеед, посматривая по сторонам.
– Ты на меня, хлопец, не дуйся! – Баул дернул его за вихор.– Я тебе обязательно когда-нибудь покажу двойную итальянскую.
– Что ж ты врешь! – – снова обиделся Пылеед. – Двойная итальянская – это для булгахтеров.
– «Для булгахтеров»! – передразнил его Баул. – А впрочем, совершенно верно. – Он протянул мальчугану плитку шоколада: – Ешь, хлопец! Это знаешь какой шоколад? Это для летчиков шоколад. Кола!
Поднимаясь по лестнице в дом, Баул выглянул на втором этаже в окно. Отобрав из толпы ребят человек пять, по-видимому самых близких товарищей, Пылеед делился с ними шоколадом.
«И такого парня я обидел! – подумал Баул. – Надо взять его с собой на аэродром, покатать на «П-5», показать ему Нахичеванскую улицу с высоты метров в семьсот – восемьсот...»
ПОДРУЖКИ ПА НЯ И ЗИНА
Пг—подруги родом из Валдая. Незадолго до войны они приехали под Ленинград и поступили на одну станцию. __|Паня Ефимова была дочерью товарного кассира и тоже стала товарной кассиршей, а Зина Емельянова была дочерью стрелочника и тоже стала стрелочницей.
Хотя станция находилась неподалеку от Ленинграда, она была небольшая и тихая. Не часто подкатывали к гидравлической колонке паровозы, не часто скрипели двери пакгауза и стучались в кассу пассажиры.
И совсем притихла станция осенью сорок первого года, когда войска Гитлера обложили Ленинград. Подругам пришлось разлучиться. Зина Емельянова осталась на заглохшей, разоренной станции, а Паню Ефимову перевели в другое место. Зина долгое время не получала от нее писем, а получив, удивилась.
«Где же она там работает? – думала Зина. – Кабона? Что за Кабона?»
В тех краях, на берегу Ладожского озера, около какой-то Кабоны, уж совсем не было ни линии, ни станции. Мать вспомнила:
– А, Кабона! Да это же преглухая деревушка! Там и пристани-то нет^ не то что железной дороги.
– Отбилась от нашего дела Паня, – сказала матери Зина.
– Война же, – объяснила мать.
В Ленинграде осталось не у дела много машинистов, стрелочников и товарных кассиров с захваченных немцами депо и станций. Некоторые железнодорожники ушли в армию, иные работали на заводах.
– И верно, нынче отбиться от своего дела не мудрено,– сказала Зина.
Ее станция все же действовала, как ни разрушала ее немецкая авиация и артиллерия. В ожидании редкого поезда Зина следила за своим хозяйством, вглядываясь, плотно ли прилегает перо стрелки, чистила по временам флюгарку. Бережно хранила фонарь и флажок – все реже приходилось пускать их в ход.
Немцы стояли в 10 километрах от ее станции и обстреливали изредка и линию и поселок. Напоминая о последнем бое, торчали около станции подбитые танки. Их было шесть штук, полузакопанных в землю, заржавевших, ободранных. Зине танки эти служили убежищем. Бывало, что пальба настигала ее в поле, и, забираясь в танк, она сидела там скорчившись, пока не кончится обстрел.
Иногда Зина покидала танк и в минуты обстрела. Это случалось в те редкие вечера и ночи, когда к линии фронта тихо, без гудков, подкрадывался состав с вооружением. Надо было перевести стрелку, чтобы открыть для него путь. Высунув голову из будки паровоза, машинист вглядывался в флажок стрелочницы. Или когда приедут восстановители. Один восстановитель из железнодорожного батальона знал Паню; он раз спросил:
«В фельдшерицы записалась, что ли?»
«Может, и в фельдшерицы».
В письме-то Паня Ефимова ничего о работе не написала: время военное, первое дело – молчок, замок на губах.
Мать Зины хоронилась от обстрела в избе, за печкой. От сотрясения печь дымила, и мать просила помощи у «Нашего километра».
«Наш километр» – это путевой обходчик Антон Рыбачук, хозяин фруктового сада.
Вокруг – топи. Дымное марево, черное от разрывов небо, а в саду Рыбачука зреют яблоки, из чистых окон выглядывает сквозь раздвинутые занавески красная и белая герань. Если кто спросит: «Рыбачук дома, хозяйка?» – то услышит голос маленького Мишука: «Папаня наш километр обходит».
/ Это значит, что Антон Рыбачук вышел из дому с граблями, чтобы подправить бровку пути и увериться, что все в порядке– повреждений нет, болты закреплены прочно. Случалось, что и «Наш километр» спрашивал о Пане.
«Ого, куда ее занесло! – говорил он.– Какая уж там товарная контора!»
Но пришла от Пани Ефимовой весточка – и что же? Панина станция оказалась большой и важной. Просила Паня ее поздравить: она опять стала товарной кассиршей.
И привез-то весточку племянник обходчика, молодой шофер, дни и ночи кативший теперь машины через Ладожское озеро, по той самой дороге, которую голодающий Ленинград назвал дорогой жизни. Он рассказал: Паня строила вместе с другими линию, выгружая балласт, набивая насыпь, укладывая шпалы и вообще делая все, что только понадобится. Зимой этот край топких низин и озер стал краем глубоких снегов и синевато-белых льдов. Жила Паня в землянке.
Она опять – товарная кассирша, а ее озерная станция, несмотря на то что все службы там помещались в землянках и вагончиках, становилась с каждым днем больше. Бывают на озере штормы, когда линию заливает водой и пассажирам кажется, что их поезд пошел прямо по воде. Ветер накатывдл на линию валы, они затопляли пути, гнали к станции бревна. В такие часы товарная кассирша покидала свой обжитой вагончик и оттаскивала бревна, спасая от разрыва стрелки.
«Сама себе линию построила», – сказала мать Зины.
И стрелочница Зина рассказывала ей про подругу чудеса: как в ее конторе толпятся люди с накладными, как крича г: «Мой груз самый срочный, наиглавный!»
Но с той поры, как за озером проложили новую линию и у Пани стало прибавляться работы, захиревшая станция Зины совсем опустела, одичала. Теперь-то она и вовсе в стороне, где-то сбоку, в тупике.
– Некстати нам хлеба стали больше давать, – сказала однажды «Нашему километру» Зина.
– Как – некстати? – подивился тот ее глупости.
– Вроде мы безработные. Сами, что ли, не видите!
– Так и оставят нас в такое время сидеть сложа руки! – сказал, насмехаясь над ее простоватостью, обходчик. – Куда-нибудь перебросят.
Это было непонятно, но их оставили здесь, хотя он-то был уверен, что станцию закроют и их куда-нибудь переведут. Уныло было на станции. Диспетчер говорил, что селектор его будто засыпало прахом. Уже давно не было ни одного поезда, рельсы от скуки потускнели, отовсюду поперла трава...
– Как приедет начальник отделения, попрошусь у него к Пане, – сказала Зина.
Но начальник отделения, примчавшись на дрезине, проворчал:
– Имеешь понятие о дисциплине?
– Имею.
– А коли имеешь, сиди на месте! Мозговать надо! Замок на губах.
И он сперва постучал пальцем по своей большой голове, а потом и по ее маленькой, еще хранившей следы долговечной электрической завивки.
Его намек Зина поняла только в то утро, когда наши пушки, стоявшие недалеко от станции, заговорили разом. Зина, вот уже полтора года жившая среди войны, еще не слыхала такой пальбы и не видала такого огня. Наши пушки стреляли долго. В полдень на заглохшей станции, начищая своим движением потускневшие рельсы, появился бронепоезд. Он прикатил в вьюжном дыму, белый, плюющийся огнем из всех своих пушек. В низком небе выстраивались звенья штурмовиков. Они нависали над гитлеровскими колоннами, над их батареями и складами, а уж к вечеру через станцию провели партию пленных. В этих краях их никогда раньше не было так много. Пленные говорили, что надеялись отсидеться в болотах до конца войны.
Зина чинила белье, а Анна Федотовна пекла в печи хлеб, когда прямо к стрелкам подкатила дрезина с восстановителями.
– Ого, через нас проезжают, мама! – радовалась Зина. – А я уж полагала, – пошутила она, – так и останемся на краю света.
И Зина пропустила на запад первый состав. Вернувшись с флажком домой, она сказала матери:
– Теперь мы поважнее Пани!
Восстановители уходили дальше. Станция отодвинулась в тыл, и Зина уже давно не пряталась от обстрела в танке.
– Иди к телефону, – сказал дня через два диспетчер.– Тебя подружка твоя озерная вызывает.
– Смотри не зазнавайся, Зинуша! – кричала в телефон Паня. – Говори: примешь обратно или нет?
– Может, и примем, – смеясь, ответила Зина.
И девушки позволили себе в этот раз загрузить важный военный телефон еще несколькими совсем незначительными, но приятными для сердца фразами.
Дежурство Зины началось ночью. Она торжественно засветила фонарь. Теперь Зина пропускала состав за составом. Пути давно восстановили. Эта зеленая улица, по которой двигались войска, была теперь дорогой соединения войск Ленинградского с войсками Волховского фронта. Оставался все же небольшой коридор, и в эту ночь Зина ждала, что вот-вот произойдет то, чего ждали кругом все: когда же заговорит на рассвете в радиотрубе всезнающий голос Москвы?
Он и заговорил в шесть утра – среди завывания вьюги, рокота проносившихся над станцией самолетов, лязга танков и всего огромного грохочущего движения конных, пеших и мо торизованных колонн.
«Блокада прорвана», – сказал московский голос.

И Зина пропустила на запад первый состав.
Мать возилась в это время в сарае с дровам;и. Она крикнула оттуда дочке:
– Москва-то что говорит?
– Москва говорит: скоро Паня к нам вернется, – ответила Зина.
– Солдатики бы наши скорей домой возвернулись! – проговорила, вздыхая, Анна Федотовна, уронив слезу на обросшее льдом полено.
ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА
– Одессе на заводе имени Октябрьской революции рабо*
тал до Отечественной войны Илья Яковенко, любозна– тельный и разговорчивый двадцативосьмилетний человек, знавший наизусть много арий из старых и новых опер. Ученик профшколы, он несколько лет слесарил на заводе, потом стал заведующим Дворцом культуры. Во дворце этом Яковенко готовил выставку, посвященную двадцатой годовщине освобождения Одессы от белогвардейцев. Он сам писал маслом большой портрет Котовского. Желая показать прошлое и настоящее Одессы, он раздобыл, окантовал и вделал в специальные щиты гравюры, изображавшие то Водяную Балку с мраморным дворцом Разумовского, в котором бывал Пушкин, то Чайковского, стоящего за пультом оркестра в Одесском оперном театре и дирижирующего «Пиковой дамой».
Из окон клуба видна была не только густо задымившая в последние годы Пересыпь, но и море с каменной дугой волнореза, о который почти всегда бились злые волны, с десятками кораблей у причалов и знаменитым парусным судном «Товарищ», отдыхавшим у стенки празднично разукрашенного яхт-клуба.
Яковенко не только писал маслом портрет Котовского, но и развешивал на стенах фотографии героев гражданской войны. В завкоме ему сказали:
«Обстоятельная выставка получится, наглядная».
«Это что! Вот посмотрите, какую выставку мы тут оборудуем к юбилею!» – похвастал Яковенко.
«К какому юбилею?»
Именно такого вопроса добивался от приятелей Яковенко.
«К юбилею Одессы. Сто пятьдесят лёт со дня основания!»
«Так это не скоро».
«В 1944 году. – И Яковенко важно доставал из папки вырезку из старого справочника. Он читал: – «В 1794 году, по рескрипту Екатерины II, был заложен фундамент нового города, названного Одессой, по имени древней фактории Одесос. Фактория, как полагали, стояла на этом месте много веков назад...»
Яковенко разузнал, что в научных учреждениях города уже подумывают о подготовке к юбилею. Затевал кое-что и он – «особенную» выставку во Дворце культуры.
«Постараемся оформить так, чтобы и недовольные были довольны», – сказал Яковенко, надеясь удивить видавших виды и чересчур капризных по части исскуств и зрелищ земляков.
О его приготовлениях стало известно в научных организациях города. Там создали специальный комитет по празднованию стопятидесятилетия Одессы, и Яковенко прислали билет на первое заседание. Решив обязательно выступить со своими предложениями, он составил конспект речи, пошел в Публичную библиотеку к заведующему, товарищу Дерибасу, внуку адмирала Де Рибаса, участника боев с турками в районе крепости Хаджибей, стены которой уцелели кое-где в приморском парке. И, конечно, он намеревался процитировать Пушкина: «Я жил тогда в Одессе пыльной», и сказать также о доме на улице Гоголя, где жил Гоголь, и, уж разумеется, о броненосце «Потемкин».
На столь манившее его заседание Яковенко не попал. Назначили его на 23 июня, а в этот день, оказавшийся вторым днем войны, Яковенко вызвали повесткой в военкомат, и к вечеру он промаршировал в колонне мобилизованных и мимо клуба и мимо своего дома на вечно темной от прущей отовсю-
ду зелени Старо-Портофранковской улице. Пройдя через весь потревоженный город, колонна остановилась в казармах бывшего кадетского корпуса, где на следующее утро начались военные занятия.
Родной его завод имени Октябрьской революции находился на длинной, дымной и веселой Московской улице, которая тянется до Ярмарочной площади. А дальше – дорога к лиманам, где курортники принимают грязевые ванны, к знойному и словно бесконечному «Пузановскому пляжу. «Пузановский пляж с его оравой шумных купальщиков и танцульками на песке, с изнывающими саксофонами взопревших музыкантов был любимым местом Ильи Яковенко. Добравшись сюда на трамвае, он сбрасывал с себя под каким-нибудь грибком жаркую одежду– ив Еоду! Уже позади краснобокые пузатые буйки... И так совпало, что первый бой, в который послали его часть, был боем за эту самую знойную, поющую Лузановку и на передний край он приехал, как приезжал раньше на пляж, в том же летнем трамвае с откидными стульями.
Его батальон занимал балочку близ шоссе, заросшую колючим кустарником и солонцами. В балочке этой сержант пулеметной роты Илья Яковенко проторчал около месяца, то день за днем, то час за часом отражая атаки вражеской пехоты. Ужасно было, когда поднимался ветер с моря, такой желанный в довоенные недавние дни. Ветер с моря обострял удушающие запахи гниения – это жаркое солнце южной осени ускоряло разложение трупов. Войска Антопеску, оставлявшие на кровавом степном просторе тысячи подбитых защитниками Одессы солдат, не в первый раз атаковали Лузановку.
Смертельно перепаханную балочку, в которой залегли пулеметчики, обороняли жители разных краев, даже из Сибири. Они и не видали ничего из той красоты, о которой рассказывал им в редкие минуты затишья Яковенко. Сокрушаясь, что немецкие бомбы угодили в здания, известные своим историческим прошлым, он рассказывал товарищам о том, что и сам узнал недавно от старейшего жителя города, заведующего Публичной библиотекой Дерибаса.
Его ранили в тихое прозрачное утро, когда на море в ожидании бури равноденствия установилась редкая штилевая погода. Ни одна волна не могла в охватившей ее истоме докатиться до берега. В этот день, сильно и печально напомнивший о времени, называвшемся мирным, раненого Яковенко увезли в Новороссийск, в армейский госпиталь. В госпитале, когда стал уже выздоравливать, Яковенко спросил медсестру:
– Сестричка, в Одессе немцы?
– Немцы, – ответила сестра.
– А в Севастополе?
– О, Севастополь – как скала! – сказала медсестра.–Держится Севастополь... – Она поторопилась успокоить раненого сержанта: – Одесса, говорят бойцы, тоже выстояла бы, но был такой стратегический приказ, чтобы оставить город и вывести войска.
– Стратегический приказ, – с грустью повторил слова медсестры Яковенко.
– Вы, может, думаете, сержант, это просто слова, для агитации? Нет, очень знающие и понимающие военные клянутся, что это святая правда. С точки зрения высшего командования и вообще для успеха войны нужно было уйти самим. Там можно было сидеть и сидеть...
– Я-то знаю, что можно, – сказал Яковенко.
– Сержант, не горюйте! Вы еще вернетесь в Одессу. И муж мой вернется, верно? Он там служил в последнее время.
Утешая других, сестра и сама ждала, чтобы ее утешили. Она сказала:
– Мой муж – командир подводной лодки. Его фамилия Фоменко.
Не понял из ее слов Яковенко, получает ли сестрица письма от мужа. Осторожно выпытал, присылали ли «похоронку» или не присылали.
– Вернется, вернется! – успокаивал он сестру. – Раз такое совпадение, обязательно вернется.
Он вспомнил, что выставлял ко дню Флота портрет ее мужа. В белом кителе, крепенький, с биноклем.
– Вы не бывали в нашем Дворце культуры? К нам из центра приходили.
Рассказал он жене подводника и о несостоявшемся заседании.
– В сорок четвертом вы уже наверняка попадете туда,– сказала сестра.
– Я оставлю в кассе пару билетиков для вас с мужем, – сказал Яковенко.
Из госпиталя Яковенко вышел в радостные для страны дни – после разгрома немцев под Москвой. Он попросился опять на фронт, но его послали в школу лейтенантов в город Муром.
Среди форсировавших
Днепр частей был и пулеметный взвод лейтенанта Яковенко. Школу в Муроме окончил он осенью, когда фашисты
осаждали Сталинград. Подойдя к Волге с востока, взвод Яковенко переплыл реку на барже. Он занял оборону на южном участке близ железнодорожного моста. В те дни далека была не только Одесса. Даже Харьков и Ростов представлялись ему загнанными в глубокий немецкий тыл. Так велики были пространства, легшие между ним и линией фронта.
Но, когда Яковенко переправился через Днепр, большие расстояния стали казаться уж не такими большими. Ему нравилось перебирать в памяти названия городков и станций на пути от Киева до Одессы: Фастов, Каватин, Винница, Жмеринка... А уж Вапнярка, Слободка, Котовск и Раздельная – эти названия словно солоновато, йодисто пахли набежавшей волной, выброшенными на берег водорослями...
Под Кировоградом Яковенко подобрал в оставленном немцами окопе пачку журналов; там оказался и старый номер «Берлинер иллюстрирте цейтунг». На двух развернутых полосах был напечатан фотоочерк под названием «Вторая Одесса». Еще до того, как Яковенко разглядел заглавие, он узнал на снимках белые известняковые домики Бугаевки и Нерубайско-го. Они были оцеплены проволокой. У столбов стояли на карауле румынские солдаты. В центре Яковенко увидел несколько портретов. Незнакомые, но очень близкие по складу лица портовых рабочих или грузчиков. Небритые, замученные, они смотрели гордо. Автор очерка писал, что это партизаны из катакомб и что на допросе «они вели себя нагло и ничего не хотели говорить».
Яковенко скорбно потемнел,; ударил ладонью по журналу.
– Живет Одесса! Наши катакомбы еще раз сыграли свою роль. Я так и полагал. Эх, попасть бы домой к юбилею!
Его взвод, как он выражался, работал на дорогах. Однако теперь он своим огнем преграждал немцам не путь к наступлению, а пути отступления. Батальон совершал обход за обходом, часто оказываясь позади немецкой линии обороны.
– Летом я буду дома, – говорил лейтенант. – Поверьте, я готов сделать судьбе уступку. Раньше я, конечно, хотел быть
живым всегда, вечно, совсем никогда не умирать, а теперь порой думаю: «Дожить хотя бы до того дня, когда мы прорвемся к лиманам, увидим Лузановку, пыльную и длинную Московскую улицу, трубы «Октябрьской революции», если фашисты их не повалили, и наш Дворец культуры, если они его не сожгли!»
А весна принесла мокрые снега и слякоть, она разрушила дороги, создала на пути топкие болота. И все же наступления она не остановила. Увлекаемый духом этого стремительного наступления, взвод Яковенко шагал по топям так, как никогда раньше не шагал посуху. Он ненадолго задерживался в немецких блиндажах, в немецких дзотах и окопах. На его пути валялось и торчало все то, что немцы приволокли на Украину, – танки, орудия, пулеметы, машины... Колонны пленных плелись к Кировограду и Знаменке. Эти места, еще недавно бывшие глубоким немецким тылом, теперь снова стали нашим глубоким тылом.
– Я мечтал – летом вернемся в Одессу, а тут исполнение желаний с превышением, – говорил Яковенко.
Он подошел к Одессе не летом, а ранней весной. Ясным холодным утром его часть вступила в рыбачью деревушку До-финовку, в ту самую Дофиновку, которая видна в городе отовсюду. Куда ни пойдешь, перед тобой дуга бухты и на ее краю – ослепительно белая от известняка, желтая от солнца и голубая от моря и неба Дофиновка. Теперь Яковенко отсюда увидел Одессу. Лежала перед ним дорога, ведущая прямо к Лузановскому пляжу, и к Ярмарочной площади, и к заводу имени Октябрьской Революции.
«Что же я там найду?» – подумал Яковенко.
Он знал уже, что Дворец культуры сожжен и разорена его дымная и шумная прибрежная Московская улица.
– Восстановят, все сделают, как было, – сказал он. – Может, еще и лучше.
Он не сказал: «Восстановим, сделаем», так как сам-то уходил с частью дальше за Днестр. И, когда подошла наконец дата, старший лейтенант Яковенко дрался на румынской зем-
ле, под Яссами. Да и юбилей-то не состоялся – еще шла война, а городу надо было дать воду, свет, надо было очистить от мин порт, наладить станки на заводах, приласкать сирот. Так комитет по празднованию второй раз не собрался на заседание. В первый раз оттого, что грянула великая беда, а во второй – оттого, что из оставшихся в живых членов комитета почти никого не было дома. Кончая с великой народной бедой, они переправлялись через Тиссу и Дунай. Воевала под Будапештом и часть капитана Яковенко.
НА ОКРАИНЕ СИМФЕРОПОЛЯ 1
се еще голубело над головой небо, все еще виден внизу разбросавший по скалам свои белые сады, журчащий весенними водами Ай-Василь. В жизни человека, бежавшего по плато, раньше никогда так медленно, так долго не угасал день. Бежавший, как спасения, жаждал наступления ночи, но ее словно задержали на перевале. Сколько раз ни оглядывался он – по-прежнему море, мол, маяк и еще дальше – угрюмый выступ Аю-Дага.
Плохо было с сердцем. Светличный придерживал его рукой и, помня о том, что нужно глубже дышать, стремился как-нибудь добежать до леса. Еще два – три подъема – и вековые сосны скроют его от преследователей. Утешало то, что им нелегко будет его тогда догнать...
Беда пришла утром. Он зря уверял себя, что никому нет дела до его разоренной зональной станции. И зря полагал, что немцы считают этот дальний уголок симферопольской окраины безлюдным. Они постучались, когда Светличный кипятил для своего таинственного жильца чай. Два офицера из полевой жандармерии. Один по-русски говорил неплохо. Оглядев помещение, он спросил:
– Кто вы такой?
Второй офицер осматривал каждый уголок запущенной, с
осыпающейся штукатуркой комнаты. Был недоволен, что она заставлена непонятной рухлядью: дырявыми бадейками, треснувшими горшками, полуобгоревшими ящиками с разновесом гирь.
– Почему такой ка-вар-дак? – спросил первый офицер, с отвращением отодвигая носком сапога торчавшую под ногами бадейку.
– Здесь была зональная станция, – ответил Светличный. – Я – специалист по садоводству. Эта старая женщина – моя мать.
– Я вас не спрашивал, что здесь было! —недовольно прокричал немец. – Я вас спрашивал, что вы тут делаете?
– Нам некуда деться, я – больной человек...
– Туберкулез? – с брезгливостью спросил второй немец, разглядывавший альбом с видами Крыма, который он достал с тощей книжной полки.
– Нет, не туберкулез, – ответил Светличный: – деком-пенсированный порок сердца.
– Мы не любим больных! – сердито проговорил первый немец и тоже заглянул в альбом. – Мы не любим больных, – повторил он, раздражаясь, – от них идет по свету вонь.
Он опустился на стул и стал перелистывать альбом, тыча время от времени в какой-нибудь снимок и вопросительно взглядывая на Светличного. Тот отвечал: «Водопад Учан-Су, по дороге на Ай-Петри» или «Дворец эмира Бухарского в Ялте». Второму немцу понравилось ущелье Уч-Кош. Помня о жильце, Светличный заставлял себя плавно рассказывать о крутой и заросшей столетним сосновым лесом дороге, уходящей к Романовскому заповеднику, о живописном каньоне в тех краях.
Офицеры заговорили между собой по-немецки, и один сказал, что этот домик никуда не годится. Он несколько раз повторил: «Шайзе, шайзе!» Его попутчик сказал, что они, пожалуй, не зря заинтересовались этим домом – у хозяина подозрительная физиономия. Продолжая перелистывать альбом, второй офицер, видно, рассчитывал найти что-то еще, помимо
крымских видов. «Жилец?» – подумал Светличный. Но пока не сказано было ни одного слова о нем, не сделано ни одной} намека. Не выдал бы испуг, бледность или, наоборот, краска на его лице... Первый офицер наконец приказал:
– Поедете с нами.
Их машина стояла за мостиком через ручей, уносивший весенние воды к Салгиру. Посадив Светличного рядом jc шофером, оба офицера закурили по итальянской сигаре. Дорога, на которой Светличный не бывал с начала войны, показалась ему пустынной, захламленной. Лес около шоссе немцы вырубили; виднелись укрытые в скалах огневые точки, на перекрестках прогуливались патрули. Встретился вооруженный обоз, промчалась машина с дровами; прижался к краю шоссе, давая себя обогнать, удручавший своей таинственностью грузовик.
«Немножко дрейфят», – подумал про офицеров Светличный.
Они озирались по сторонам, вглядывались в вершины гор; один глотнул какой-то жидкости из фляги: по запаху – дешевый ром.
«Прочитали или нет?» – подумал еще Светличный, когда на одном повороте с отвесной скалы глянула на них свежая надпись: «Смерть немецким оккупантам». Сделанная красной краской поверх фамилий туристов и дат посещения ими Крыма, надпись охватывала по ширине всю скалу—от одного торчавшего из-под камней корня сосны до другого.
Немцы, понимал Светличный, везут его куда-то далеко. Не в Ялту ли? Показались Долосы. Минуты через две покажется поворот. В этом месте останавливались всегда туристские машины; отсюда пассажиры отправлялись смотреть Уч-Кош. «Где-то тут крутая тропка, закрытая от глаз соснами. Где-то тут...» – повторял Светличный мысленно, стараясь понять, заперта ли дверца кабины.
– Это и есть знаменитое ущелье Уч-Кош; – сказал он, протянув как бы для указания руку и, прежде чем они успели его задержать, дернул ручку и бросился в просвет сосен так, как бросаются в море.
Выстрелы прозвучали не сразу. Видимо, шоферу понадобилось время, чтобы остановить машину. Светличный бежал вниз, потом перемахнул через речку и стал карабкаться вверх. Прошлогодняя листва буков и дубов тормозила его движения, но, не зная и не думая о том, что он будет делать после, Светличный, тот самый Светличный, которому бывало трудно преодолевать невидимый глазу подъем Салгирной улицы, теперь бежал в гору – не поднимался, а бежал, поддерживая рукой сердце.

Они далеко, погони не видать, и наконец опустилась ночь. Он подумал с ужасом о матери и жильце, зная, что не вернется в Симферополь; разыщет ли, наткнется ли на каких-нибудь партизан, о которых теперь говорят в Крыму, или не найдет их, – все равно туда, в Симферополь, он не вернется.
В его жизни начиналось новое, тревожное, и с давно забытым чувством свободы смотрел он на звездное небо и черную тьму, в которую ушли море, леса и горы Крыма.








