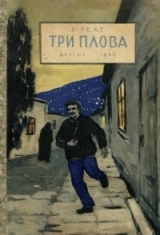
Текст книги "Три плова"
Автор книги: Семен Гехт
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
– Ну его, пускай молчит, – сказал парторг. – Позовем на собрание – может, там, перед народом, выскажется.
На собрание столяр пришел. Но и здесь выбрал место в углу, около дверей. Слушал он, как замечали сезонники, внимательно, держась двумя пальцами за ухо. Ему крикнули:
– Высказаться не желаешь, Павел Васильевич? Тут вот плотники насчет сушилки толковали. Как твое мнение?
Столяр покачал головой: нет, мол, товарищи, выступать не буду, ведите собрание дальше.
И в бараке к столяру привыкли. Пр<ишли опять новые работники и среди новых один китаец. Нанявшись на шахту плотником, он поселился на койке рядом с молчальником Ан-плитовым. Трудную фамилию китайца выговорить здесь никто не мог, и назвали его Джаном.
– Ты его не трожь, не дури, – советовали Щелочкову сезонники, которые знали глупые замашки землекопа, любившего приставать к безобидным людям.
Но Щелочков не послушался – во всю поперла из него дурь. Стоило китайцу пройти мимо его койки, как Щелочков суживал с помощью пальцев глаза и выкрикивал булькающим голосом:
– Ходя! Послюшай, ходя!
Джан презрительно его оглядывал, но на приставания Щелочкова не отвечал и только на улице отплевывался. Щелочков стал чаще повторять свои насмешки, глупо веселясь и надеясь и других потешить.
В середине осени (около барака убрали гречиху, и острей запахла серным колчеданом черная земля) парторг получил от столяра Анплитова записку. Ее принесли к нему на квартиру.
«Парторг, прими меры, – писал в доставленной сыном уборщицы записке столяр.—В нашем бараке есть национальный уклон. Подрежь крылья Щелочкову – ворон уж очень размахался, покоя не дает трудящемуся человеку. С подписью Анплитов Павел Васильевич».
– Да он тут самый сознательный!—одобрил столяра парторг. – Известное дело, партизанил, правду добывал с винтовочкой. А я его чуть было в мироеды не зачислил. Сам виноват: молчит и молчит. Потолковать с ним опять, что ли?
Но толковать надо было не с Анплитовым, а с Щелочко-вым, о дурости которого слыхал и парторг. Он собирался было заняться землекопом и раньше, да в первый раз отложил, оттого что Щелочкова премировали на участке за кубатуру – неохота было испортить человеку праздник; а во второй раз отложил по той причине, что землекоп готовился к отъезду на стройку Бобриковского химического комбината. После записки столяра парторг пришел в барак и присел на койку Щелочкова.
– Скажи мне, товарищ Щелочков, сам: какое значение слова «интернационал»?
– За всех, – бойко ответил Щелочков,—за трудящийся класс.
– Стало быть, варит башка! – похвалил его для начала парторг и пояснил, что трудящиеся бывают русские и нерусские– например, армяне, французы, негры, китайцы, индусы. Согласен со мной?
– А как же! – ответил Щелочков.
– Вот Джан и есть наш товарищ по интернационалу, трудящийся китаец, понятно?
– Чего его понимать, ежели он китаёза? – вдруг дуростью своей сбил так хорошо наладившуюся беседу Щелочков.
– Ох, и темная душа! —^вздохнул парторг. – Как могила!
Он повернулся к Анплитову, надеясь, что сейчас тот уж не станет играть в молчанку и скажет несколько дельных слов, поддержит парторга. Но столяр даже и в этот раз промолчал, хотя показывал глазами, что тактику парторга одобряет.
– Да поьйми же ты, дубье! – убеждал Щелочкова отчаявшийся в своих агитаторских способностях парторг.
Глупый, но хитроватый Щелочков слова парторга все же на ус намотал. То, что советский суд по головке за такое поведение не погладит, Щелочков уразумел без агитации. На людях он к Джану уже не приставал, и только Анплитов за-у
мечал изредка, что придирки Щелочкова продолжаются. Молчальника землекоп не считал за человека и при нем вел себя так, будто в бараке, кроме него с Джаном, ни души. Он и не глядел в угол столяра, кроившего по вечерам старое шинельное сукно,-из которого наметил сшить зимний пиджачишко.
Пришли морозы, барак чуть не на метр зарылся в снег.
Как-то вечером сезонники собрались всем бараком в кино. Дома остались только Анплитов да Щелочков, сколачивавший из дощечек новый сундучок. И задержался немного Джан, чинивший телогрейку. В печи потрескивала береза, поскрипывала обросшая льдом дверь, побрякивал на крыше отставший краешек толевого листа.
Починив ватник, Джан заторопился к выходу. Койку землекопа он, как обычно, обошел с подголовника, так как Щелочков неизменно пристраивался на другом краю. Но, рванувшись к изголовью, Щелочков преградил Джану дорогу.
– Пусти, – негромко попросил, потупив голову, Джан.
– Пущу, если скажешь, почему ты без косы, Джан. На Сухаревку ее снес, признавайся? Я по всему Китаю ездил – там люди косы носят. А ты почему без косы?
• – Пусти, – уже погромче, но еще не сердито проговорил Джан, поправляя на себе ватник.
– Станцию Цицикар знаешь? – не желал униматься Щелочков. – Харбин знаешь?
Джан попытался легко отстранить загородившего проход Щелочкова.
– Твоя зачем стой? – крикнул он.– Койка есть? Садись, дура, не мешайся.
– «Дула! Дула!» – передразнил Щелочков и широко раскинул руки, чтобы Джан и бочком не смог пробраться.
Джан тонко и яростно вскрикнул, схватил обе руки Щелочкова и с такой силой соединил их, что Щелочков от боли покачнулся, заёрзал.
– Драться-вздумал? – пригрозил он, вырывая руки и что-то ища на тумбочке около койки. Не отыскав, навалился на Джана животом, прижимая его к острию подголовника.
О столяре он не помнил и глянул в другой конец барака случайно. Из дальнего угла уставились на него два раскрытых страшных глаза. Щелочков опешил, что-то хотел произнести, но столяр шел прямо на него, и он отпрянул от койки. Опомниться Щелочков не успел – его испугал отчаянно громкий голос молчальника.

– Отойди, дьявол! – крикнул столяр. – Убью!
Щелочков прислонился к двери, но столяр уже был рядом. Щелочков закрыл глаза, и в это время на голову его обрушился удар. Он грохнулся на пол, попытался встать, но, услышав еще раз отчаянный голос молчальника, пополз к выходу.
– Убью! – продолжал кричать столяр. – Убью!
С дымящимся чайником в руках ворвалась в барак уборщица. Она увидела поверженного Щелочкова, над ним стоял во весь рост столяр, который кричал изо всех сил, повторяя одно только слово:
– Убью!
Щелочков кое-как выполз на крыльцо, но столяр за ним и не гнался. Больше всех удивился китаец. Он смотрел на Анплитова во всю ширину своих узких глаз. Столяр казался Джану глухонемым.
– Ай, ай!—засмеялся китаец. – Твоя почему молчи? Твоя умей говори!
– Убью! – продолжал исступленно кричать столяр.
Его голос становился все громче и страшнее. Из степи прибежали люди. Они увидели, как побелело красное от натуги лицо столяра, как он схватился рукой за горло, затем оттуда хлынула струя крови, и столяр повалился на койку Щелочкова. Он полез в карман за платком, но не нашел и, схватившись за наволочку, заткнул ею рот. В одну минуту наволочка стала алой. Кровь густо текла из горла, заливая одежду столяра, одеяло, дощатый пол...
– Беги за доктором, на шахту! – крикнула Джану уборщица.
Столяр попросил воды. Кровь перестала струиться, словно там внутри внезапно закрылся какой-то клапан. Столяр сделал два глотка, затем приподнялся с койки. Глаза его смотрели жалобно, мутно. Он стыдливо оглядывал запачканную койку, захотел встать, но уборщица не позволила. Сердечно вздыхая, она сняла с него сапоги и ватник, накрыла одеялом. Все вокруг молчали, тронутые видом чужого горя, и только печально поглядывали друг на друга. Кто-то принес молока, и, подогрев его в печи, уборщица стала поить им столяра. Он опять превратился в прежнего молчальника, и людям казалось диковинным, что еще недавно они слышали его страшные крики.
Прошло около часа, пока из шахты примчался на санях доктор. Он пристально вгляделся в цвет крови и не стал осматривать больного. Джан с уборщицей помогли ему уложить столяра в сани. Его отвезли в шахтную больницу, примостившуюся за горой серного колчедана. Дня через три из Можайска приехала жена Анплитова. Она рассказала сезонникам секрет молчания мужа: на митингах в первые годы революции столяр сорвал себе горло. Много лет он жаловался на болезнь, и в конце лета жена уговорила столяра записаться к московскому врачу. Сама поехала с мужем в Москву на Разгуляй, сама растолковала доктору, чем страдает ее муж, и московский доктор признал туберкулез. Он посоветовал Анплитову лечиться молчанием.
«Самое меньшее – два года», – сказал доктор.
Столяр молчал пять месяцев.
ОШИБКА УЧИТЕЛЯ

аламов был из беспризорных ребят.
В лётной школе, куда он попал прямо из детского дома, учились большей частью спокойные, молчаливые крестьянские парни, недовольные соседством Саламова. Говорливый, чересчур подвижной, он принес в лётную школу неприятные навыки улицы. Его в первое время избегали, и, замечая, как его сторонятся, Саламов раздражался, грубил. А за грубость в обращении получал взыскания, и в школе не верили, что Саламову удастся ее закончить.
– Одного риска, дружок, в нашем деле мало, —сказал ему на первом же уроке старый преподаватель, сразу разгадавший в Саламове любовь к приключениям.
Когда в разговоре об авиации перебирали имена старейших русских летчиков, пионеров отечественного воздухоплавания, то называли и фамилию этого преподавателя. В школе знали его поговорку:
«Человечество бывает двоякое. С одним человечеством легко, полный контакт, а с другим, наоборот, не дай бог, – горохом об стену».
Пилот Саламов был тем самым человечеством, с которым нелегко. Но экзамен он сдал, и даже неплохо сдал. Тот же преподаватель признал в нем способности и желание постичь технику. Года через два старейший летчик, которого называли еще дедушкой русской авиации, заехал по служебным делам в Тбилиси, где его ученики водили теперь пассажирские и грузовые самолеты. Старого преподавателя привезли на аэродром. Он спросил прежде всего о Саламове:
– Как насчет дисциплинки?
– Хороший, внимательный пилот, – ответили на аэродроме старому преподавателю и показали личное дело Саламова, у которого не было ни одного нарушения.
– А насчет других капризов? – допытывался преподаватель, имея в виду чувство товарищества.
Никто на Саламова не жаловался. Преподаватель пожалел, что пилота не было сейчас в Тбилиси. Держа путь на Кутаиси и Сухуми, он на рассвете вылетел с грузом для кооперации. На этой трассе Саламов летал с начала года, управляя чаще всего самолетом «П-5».
На аэродроме устанавливали столбы для радиомаяков. Любя новинки в своей профессии, старый преподаватель бродил вокруг маяка, изучая нового и полезного помощника пилотов. Услыхав дальний гул мотора, преподаватель вытянул голову, чуть оттянул мочку правого уха. Затем стал всматриваться в горизонт и вскоре распознал самолет «П-5». Он шел из Сухуми.
«Пожалуй, Саламов, – подумал преподаватель, поторопившись к месту, где выложили знак. – Как этот беспризорник сделает посадку? Поглядим».
Самолет «П-5» показался над аэродромом. Преподавателя возмутил беспорядок в воздухе – с машиной было что-то неладно.
– Что же он, дьявол, делает?! – закричал преподаватель. – Гляньте-ка на положение самолета!
На поле говорили, что Саламов обычно хорошо делает посадку. Говорившие, приглядевшись, тревожно приумолкли. Из самолета что-то выпало. Медленно падая на землю, кружился в воздухе какой-то черный предмет.
– Куртка!—догадался преподаватель.
Пилот выбросил свою кожаную куртку. Теперь внизу понимали по положению самолета: настал тот предусмотренный в инструкциях момент, когда пилот имеет право покинуть самолет. Машину спасти уже нельзя, а жизнь человека – можно.
Из гаража выкатился, гудя, санитарный автомобиль. Вестница бедствия, черная кожаная куртка Саламова коснулась земли, мрачно напомнив о беде, случившейся с ее хозяином.
Самолет «П-5» сделал еще один круг над аэродромом. Внизу, на лётном поле, стояли старые и молодые летчики, много знавшие из учебников и практики, наслышанные о сотнях необыкновенных происшествий в воздухе, однако никто не мог бы определить, что делается там, наверху, с Саламовым. К сотне или пяти сотням происшествий прибавилось в эти минуты еще одно – сто первое или пятьсот первое. А окажись кто-нибудь из наблюдавших случай с Саламовым в его самолете, они бы не увидели пилота за управлением. Саламов", приподнявшись с сидения, почти раздетый, был занят несвойственной пилоту процедурой.
...Он вылетел утром в Сухуми в самом лучшем настроении. Погода была отличнейшая, горы лежали в серебре и золоте – ясные, сверкающие. Могучие Кавказские горы на тбилисском аэродроме называли издавна «горушками»; называл их так м Саламов. Пролетая в ущельях, он ловил сигналы радиомаяков, дружески направлявших его машину по верному пути. В синеве лесов и белизне снежных шапок проплывали по бокам самолета и под его крылом известные и безымянные вершины. На одну вершину, не такую уж высокую, взбирался несколько лет назад и Саламов – когда воспитанники детского дома ходили на экскурсию.
– Эх вы, горы-горушки! – напевал Саламов.
Когда у человека хорошее настроение, он поет и в воздухе.
Ровный, прекрасный полет. На перевале Саламов даже отдал одной вершине честь, как это делается во время полетов во Владикавказ. На этой трассе летчики отдают честь Казбеку»
Снизившись в Сухуми, Саламов в том же настроении вошел в дежурку.
– Принимайте груз.
Он расписался в том, что сдал полтонны шелка и взял на борт несколько бочек масла. К его самолету подкатил грузовичок, и заднюю кабину самолета загрузили довольно тяжелыми бочками. Затем подъехала машина, запустившая мотор самолета, и Саламов повел его в обратный путь. По-прежнему лежали в серебре и золоте ясные, сверкающие горы. Солнце било в глаза, вернее – в защитные очки. Под крылом прошла Западная Грузия, за ней – Восточная, бежал к морю Рион, карабкались сквозь ущелья Сурама электропоезда...
Ветер дул попутный, приборы показывали хорошую скорость. Приметы Тбилиси показались раньше обычного. Машина, должно быть, сделает посадку минут на двадцать раньше. Высокие горы уже позади. Саламов повел самолет низом.
А настроение все лучше. Он сам не понимал, отчего встал до рассвета по-особенному всем довольный – людьми, погодой, профессией, кожаной курткой, подаренной ему абхазцем-диспетчером, которого он выручил раз деньгами, когда тот покупал отцу-крестьянину буйвола или буйволицу. Нравилось, что на всех аэродромах говорили: «Саламов – хороший парень». Говорили, случалось, и другое, подчас неприятное, но это ему не передавали, информировали только о дружеских, одобрительных отзывах...
Руки Саламова спокойно лежали на управлении, машина подчинялась им с охотой, словно ей достаточно было одного – двух легких прикосновений к ее ручкам. Пилот узнавал холмы, закрывающие от глаз панораму Навтлугского аэродрома, похожую на верблюда скалу и другие приметы надвигавшегося на самолет Тбилиси.
Подлетая к аэродрому, Саламов ощутил толчок. Еще не оборачиваясь, он понял, какой беспорядок мог получиться за его спиной. А повернувшись, разглядел, что уложенные на заднем борту бочки стали медленно разъезжаться.
– Вот дурное человечество! – обругал сухумского агента Саламов.
Освободив от управления одну руку, он попытался поправить бочки, но они не слушались и, накатываясь на рычаги управления в задней кабине, грозили их прижать. Досада, что агент его подвел, сменилась злостью на самого себя: почему

не проверил, как уложили груз? Через несколько секунд некогда стало досадовать и злиться. Бочки резко сдвинулись с мест и уж наваливались на рычаги управления.
Как ни старался Саламов оттеснить одной рукой навалившиеся на управление бочки, у него ничего с ними не ладилось; они придвинулись еще ближе, и произошло то, чего так боялся пилот.
Бочки прижали управление.
Самолет «П-5» больше не подчинялся Саламову. По инструкции, пилот имел право покинуть машину, даже обязан был это сделать.
И тогда на аэродроме увидели его черную кожанку.
Он стал быстро раздеваться, сбрасывая с себя все, что стесняло его движения. Затем, покинув управление, он повернулся всем корпусом к проклятым бочкам. На предоставленном самому себе, лишенном управления самолете Саламов делал теперь то, что должен был сделать на земле сухумский агент. Оттесняя бочки от рычагов, он тщательно их укладывал.
Взявшись снова за управление, Саламов сделал разворот на 180 градусов и пошел на посадку. Самолет довольно плавно как ни в чем ни бывало подрулил к белым знакам, выложенным недалеко от аэропорта.
– Принимайте бочки, – сказал он, отправляясь искать черную кожанку. – А ты чего тут рыщешь? – удаляясь, крикнул он шоферу санитарной машины.
– Постельку для вас готовили, – отшучивался довольный счастливым концом шофер.
– Иди, иди в буфет! Подберем твою куртку, – сказал Саламову командир отряда, поворачивая его в сторону аэропортовского вокзала.
В буфете к Саламову подошел старый преподаватель. Он знал уже все подробности и похвалил ученика за правильное решение.
– Верно рассчитал! Или ты их, – сказал он про бочки,– или они тебя.
– Какое же я, по-вашему, человечество – легкое или горохом об стену? – спросил Саламов, понимавший, что похвала старейшего летчика станет известна во всех отрядах.
– Несмотря на твои успехи и усердие, – сказал преподаватель, – у меня было слишком много оснований полагать, что в такую критическую минуту ты можешь оплошать. Погорячишься, вместо одного решения примешь два, а то и несколько, как бывает с растерявшимися людьми, – и труба!.. Ох, и аппетит у тебя! – удивился преподаватель. – Ты что, из голодного края? Или сутки не ел?
Выполняя заказ Саламова, буфетчица поставила на столик три тарелки: с селедкой, холодной яичницей и сардельками. Сняв еще с подноса два стакана кофе и стакан простокваши, она пошла к прилавку за булками для Саламова. Мигнув преподавателю, буфетчица сказала:
– Утречком завтракал. И я так думаю – еще в Сухуми заправлялся... Заправлялись в Сухуми, товарищ Саламов?
Тот и сам был озадачен своим непомерным аппетитом и спросил старого своего учителя, отчего всякий раз после сильного переживания – например, такого, как сегодня – до дурноты хочется есть.
– Ведь полагается же наоборот: чтобы начисто отбило всякий аппетит, а мне в подобные моменты совестно на людей смотреть.
– Усиленный расход энергии, – ответил преподаватель.– Ты в полминуты напереживался, как другой за десять лет,– топливо внутри и выгорело сразу. Отсюда и аппетит. Может, с точки зрения чистой медицины – неверно, зато популярно, дружок...
ДВОЙНАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ
1
а зеленой, в акациях, Нахичеванской улице живет сорокалетний человек, Исай Баул. Мальчуганы, играю–щие целые дни на бульваре, знают: Баул – пилот первого класса, ом – командир части и служит на аэродроме, за густыми садами и желтыми от подсолнухов огородами Богатырской улицы. Уличные мальчуганы знают свое небо над Нахичеванской гораздо лучше взрослых. Мамы обычно говорят:
«Вот аэроплан пролетел...»
А мальчишки поясняют, что это промчался «К-5» или «У-2» и что один держит направление на Харьков, другой – на Минеральные воды. Возвращаясь с аэродрома домой, Баул всегда видит около себя ватагу мальчуганов. Они кричат ему вдогонку: «Командир, командир!» Однажды Баул обернулся и спросил:
«Что?»
«Вы командир над самолетами, правда?» – почтительно проговорил один из мальчуганов.
С той поры Баул запомнил его. Мальчик был худ, в запыленной одежде, лицо – в царапинах, в глазах – усмешка, губы вымазаны не то в шелковице, не то в чернилах – такие ребята обычно бывают самыми озорными и любознатель ными. Когда Баул выходил из дому, мальчик кричал: «Добрый день, товарищ командир!»
Когда пилот возвращался домой, мальчик спрашивал:
«Скажите, пожалуйста, сегодня была лётная погода?»
Баул к нему привык. Худой и пыльный мальчуган гордился своим знакомством с пилотом. Гордиться было чем: все незрелое население Нахичеванской улицы видело, как командир, постоянно отвечавший на приветствия своего маленького товарища, заговаривал с ним порой, точно это взрослый человек. Затягивая, сколько удавалось, беседу с командиром-летчиком, мальчуган счастливо подмигивал ребятам: «Видали? А я что говорил? Вот и смотрите сами».
Гуляла ли по городу зима, шел ли дождь или ярилось лето – мальчик был всегда на своем посту. Заживали его старые царапины, но появлялись в других местах новые; а запылен он бывал даже зимой. Обстоятельство это несколько удивляло Баула, и он прозвал мальчика Пылеедом.
«Как летали, товарищ командир? Болтанки не было? Ветер попутный?»
«Все в порядке, Пылеед», – отвечал Баул.
Знакомство укреплялось, и Пылеед уже врал, что командир обещал взять его с собой в полет и показать ему мертвые петли, штопоры, иммельманы и бочки.
Все на свете знал этот худой, как бамбук, мальчишка! Его спросили: а куда он полетит с командиром? И он тут же соврал, что в Чечню, и еще соврал, что пилот обещал сделать один штопор и две мертвые петли.
«А про иммельманы и бочки он не сказал сколько», – для достоверности добавил Пылеед.
Его постигла в один день неудача, и неудача полная, оттого что он опозорился именно в такое время, когда на Нахичеванской улице собрались ребята отовсюду: с улицы Энгельса, Шаумяна и даже далекого Восточного проспекта. В день, когда мальчишки с других улиц должны были тоже убедиться в дружбе Пылееда с Баулом, которого маленький товарищ командира-летчика собирался спросить об очень важном,– именно в этот день Баул долго не показывался. В ожидании Пылеед жевал сладкий цвет акаций. Огорченный тем, что Бау-
ла все нет и мальчики начинают расходиться, Пылеед не заметил озабоченности и грусти на его лице, когда он возвратился в этот день с аэродрома часа на два позже обычного.
Баул шел к дому медленно, не отвечая на приветствия мальчуганов.
Прилетев перед вечером из Грозного, он поставил свой «К-5» в ангар и прошел в канцелярию. По дороге начальник штаба завел разговор о бензине. Командиру подсунули ведомости, рапорта, папки с «личными делами». Баул случайно заглянул и в свое «личное дело» и с огорчением почесал затылок.
Начальник управления писал, что Баул – старый и опытный пилот, прекрасно знает материальную часть самолетов и моторов, которые состоят на вооружении его отряда. Начальник дальше писал о высоком общем развитии командира, отмечал его общительность и то, что командир в свободные часы охотно делится с младшими своими знаниями и опытом.
«За девятнадцать лет – ни одной аварии. Отличный пилот!» – с явным удовольствием писал начальник.
Баул читал приятные строки: «...в воздухе спокоен и выдержан, владеет техникой слепого полета, авторитетен среди летчиков и как командир и как пилот...»
«Отличная память, – продолжала расточать похвалы канцелярская бумага, – хорошо помнит все мелочи технической и хозяйственной части отряда..>
И только в конце характеристики начальник выразил недовольство, что Баул чересчур увлекается личными полетами; это дурно влияет на работу аппарата отряда. Приходят в запущенное состояние бухгалтерия и статистика...
Последние слова командир прочел первыми. Они испортили ему настроение. Он думал с неудовольствием о том, что придется отменить свой завтрашний полет. Командир собирался сделать полет на выдержку и наметил маршрут.
– Отменяется, стало быть, – проговорил он тихо. – Придется мне завтра заняться двойной итальянской...
Будто нарочно, все спрашивали, куда он завтра полетит. Командир хлопал рукой по бумагам и отвечал:
– Никуда! Завтра у меня бухгалтерия.
Дорога домой не показалась ему на этот раз приятной. Он равнодушно оглядывал огороды с желтыми шляпами подсолнухов и тропинки, усыпанные белым и желтым цветом акаций.
Около своего дома Баул, как всегда, заметил Пылееда. Мальчик с восторгом прокричал: «Добрый вечер, товарищ командир!» Ватага ребят все еще была многочисленной.
– Товарищ командир, вот мальчики хотят узнать...– произнес Пылеед, подойдя вплотную к Баулу.
– Чего тебе, оголец? – проворчал пилот.
– Они спрашивают, почему вы, – уже менее уверенно продолжал Пылеед, – мальчики спрашивают, почему вы никогда не опуститесь на самолете около дома, вот здесь?
Баул постучал себя пальцем по лбу.
– У тебя все дома? – спросил он раздраженно. – Ты какую-то чепуху несешь. Ступай...
– Позвольте, пожалуйста, – не унимался Пылеед. – А почему нельзя? На автожире ведь можно, верно?
– Ну ладно, иди, – отстранил его Баул и взялся за дверную ручку парадного входа.
Пылеед печально приумолк; он испуганно посматривал на ватагу ребят, увидел злорадные лица и, желая хоть как-нибудь исправить дело, задал еще один вопрос:
– А завтра вы куда летите, товарищ командир?
– Никуда, – ответил Баул. – Завтра у меня двойная итальянская.
– Я знаю! – обрадовался Пылеед. – Двойная итальянская – это мертвая петля, верно?
– Вот дурень! – засмеялся пилот. – Это же бухгалтерия. Чудак, там летит только одна чернильница, да и то, если бросают ее кому-нибудь в голову...
Пылеед остался у закрытой двери. Он был посрамлен в глазах целой толпы. Хуже всего, что сегодня здесь были и чужие... и откуда – с Восточного проспекта!
Баул читал перед сном книгу Арсена Джорданова «Ваши крылья»; ему нравился слог автора, его умение занимательно рассказывать о воздухе и моторах и забавные рисунки, рассыпанные по книге.
«Интересно, а бухгалтерию он знает? – подумал, засыпая, Баул. И вспомнил Пылееда: – Зря я обидел мальчугана».
Он собирался приласкать его, как только встретит на улице. Однако Пылееда утром на посту не было. Никто не кричал: «Добрый день, товарищ командир!» И пилот пожалел о вчерашнем разговоре. По дороге на аэродром он думал о том, что проведет несколько дней в канцелярии и почистит эту бухгалтерию и статистику так, чтобы ни соринки не было. Над головой прошли две машины с севера. Приглядевшись, Баул узнал одну из них: «Сталь 3». Представил себе московского друга, который, вероятно, сидит там, наверху, за управлением. Московский друг шел на посадку. «А знает ли он, – подумал пилот, – двойную-то итальянскую?»
Баул быстро прошел в канцелярию отряда и потребовал служебные книги и бумаги. Он удобно расположился, посмотрел, сколько в чернильнице чернил, сменил перо и попробовал, как оно пишет. Перо писало отлично, нажимы красивые, пышные. Пилот положил с правой стороны чистый лист бумаги; он провел две горизонтальные черты и одну вертикальную и написал сбоку: «Для особых заметок». За окном гудели моторы – то раскатисто, то глухо. Баул развернул ведомость, разгладил помятые края.
Когда он обмакнул перо, чтобы сделать первое вычисление, позвонил телефон. Конторщица вопросительно взглянула на командира. Заметив, как внимательно погрузился он в бумаги, она сама взяла трубку.
– Вас просят, товарищ Баул, – сказала она через две секунды. – Срочно!
«Начальник управления», – догадался Баул, увидев, какой жест сделала конторщица.
Она подняла руку кверху, но рука ее показывала не на небо, а на городские крыши. Жест означал: звонит тот, кто сидит там, около Садовой, под самой крышей, на шестом этаже Дома Советов.
Командир слушал невидимого собеседника молча. Продолжая держать трубку около уха, он поманил пальцем дежурного и сказал:
– Немедленно привезите бортмеханика.
Баул кивал трубке головой, а с аэродрома уже мчалась машина за бортмехаником. Между тем командир продолжал телефонную беседу. Он прерывал ее иногда для того, чтобы отдать кое-какие приказания. Просил вызвать еще одного пилота и бортмеханика.
Положив трубку, он с улыбкой взглянул на аккуратно разложенные ведомости:
– Вот тебе и бухгалтерия!
Затем подозвал конторщицу и, показав на бумаги, попросил:
– Спрячьте, пожалуйста. Я уж в другой раз как-нибудь этим займусь...
Конторщица с пониманием посмотрела на Баула.
– В полет? – спросила она.
– В полет, – ответил он.
– А куда?
– В Загедан.
– Загедан, – повторила она. – Где же это Загедан?
– В том-то и дело, что я сам не знаю где,– сказал Баул.– Ничего, поищем!
3
Загедан – глухой уголок Кавказа. Искать его надо около хребта на высоте 1300 метров над уровнем моря. Он окружен горами, сюда никогда не залетали самолеты. Большие завихрения с гор делают опасными полеты над Загеданом.
С окрестным миром Загедан соединяет вьючная тропа. Ишаки пробираются по ней кое-как между скалами, доставляя
продукты рабочим Загедана. В теснине живут две тысячи человек—чеченцы, ингуши, русские. Они работают на золотых приисках и на лесоразработках. Повалив лес – сосны и пихты, – загеданцы сплавляют его по бурной Лабе в долину.
Десять белых бараков вдвинуты в узкие проходы между скалами; отвоевав у камней с полгектара земли, жители поселка развели на нем огород, – вот и весь поселок. Ишак заревет– важное событие. Из окон высовываются головы: что прислали из долины? И навстречу ишачьему реву выбегают все, кто в этот час отдыхает: женщины, дети.
В начале июня в горах пошли дожди. Дирекция комбината в станице близ Загедана узнала, что очередной вьючный караван не смог пробиться в поселок. Размытые потоками дождя, скалы обрушили на узкие тропы тысячи глыб. Караван вернулся с мукой в долину. Глухой уголок сделался совсем недоступным.
– Отрезаны от мира начисто! – тревожились в поселке. – Главное, кончилась мука...
Две тысячи рабочих доедали последний хлеб. Дирекция знала, что в Загедане нет никаких запасов.
– Одна надежда – самолеты, – сказал директор комбината.
Он сообщил о случившемся начальнику управления. И тогда в кабинете Баула зазвонил телефон.
4
Две машины поднялись одна за другой с восточного аэродрома. На самолете «К-5» сидел за управлением Баул. Как только они опустились в Армавире, командир сказал:
– Надо разделить работу самолетов. «Р-5» отправится на разведку Загедана, а мой «К-5» снизится в станице – поближе к загеданскому ущелью. Там уж мы и позаботимся об обслуживании самолетов.
И «Р-5» отправился на разведку. Он вылетел из Армавира в три часа дня. Была ненастная погода, горы затянуло обла-
нами. Самолет сперва шел над Лабой, затем долетел до хребта. Около хребта он нырнул в окошко и спустился с 3000 метров до 1500.
– Нет никакого поселения, – сказал пилот.
Он повернул самолет назад и на тринадцатом километре от хребта увидел поселок. Внизу заиграли белые пятна бараков. Самолет пошел низом. Пилот с бортмехаником заметили людей: бородачи в полушубках, в черных войлочных шляпах, серо-зеленых шинелях.
Загеданцы увидели самолет, который кружил над тесниной минут десять. Потом он взял курс на станицу. На обратном пути пилот заметил и золотые прииски.
– Нашел пропавших, – доложил пилот, сделав в станице посадку, командиру этого небольшого отряда Исаю Баулу.
– Теперь сообразим, как получше упаковать наше продовольствие да как его сбросить, – сказал Баул. – Муку будем насыпать не до краев – пускай свободно болтается в мешках.








