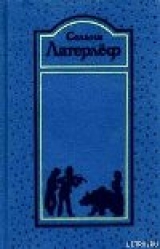
Текст книги "Сага о Йёсте Берлинге"
Автор книги: Сельма Оттилия Ловиса Лагерлеф
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 27 страниц)
Разве недостаточно испытаний, которым подверг ее отец? Неужели еще не скоро отворят ей дверь?
– Отец! отец! – кричала она. – Позволь мне войти в дом! Я замерзаю, я вся дрожу. На дворе ужасно холодно!
– Матушка, матушка, ты ведь так берегла меня, не жалея сил! Сколько ночей ты бодрствовала надо мной, почему же ты спишь сейчас?! Матушка, матушка, попробуй не сомкнуть глаз еще одну-единственную ночь, и я клянусь не причинять тебе больше горя!
Она кричит, впадая время от времени в глубокое молчание, чтобы прислушаться, нет ли ответа на ее слова. Но никто ее не слышит, никто не прислушивается к ней, никто не отвечает.
Тогда она в страхе начинает ломать руки, но глаза ее по-прежнему сухи.
О, каким ужасным кажется ей в ночи молчание этого с виду нежилого, длинного, мрачного дома с закрытыми дверями и неосвещенными темными окнами. Что же будет с ней – ведь она осталась без крова! Она заклеймена и опозорена на всю жизнь! Ей остается только ждать, пока над ее головой не разверзнутся небеса. А родной отец собственной рукой прижал каленое железо к ее плечу.
– Отец! – вновь кричит она. – Что со мной будет?! Люди поверят теперь любой дурной молве обо мне!
Она плакала и терзалась, а тело ее закоченело.
Как горько, что такая беда может выпасть на долю человека, еще совсем недавно стоявшего столь высоко. И что так легко можно быть ввергнутым в пропасть отчаянья. Разве не должны мы после этого бояться жизни?! Кто может плыть без страха на своем утлом суденышке? Вокруг, словно бушующее море, бурлят волны горя. Смотрите, изголодавшиеся волны уже лижут борта суденышка, смотрите, они вздымаются, готовые захлестнуть его! О, никакой надежной опоры, никакой твердой почвы под ногами, никакого надежного судна; и насколько хватает глаз, одно лишь неведомое небо над бескрайним океаном горя!
Но тише! Наконец-то, наконец! В передней слышатся чьи-то тихие шаги.
– Это ты, матушка? – спрашивает Марианна.
– Да, дитя мое.
– Можно мне войти?
– Отец не позволяет впустить тебя.
– Я бежала по сугробам в тонких башмачках от самого Экебю. Я целый час колотила в дверь и кричала. Я замерзаю насмерть! Почему вы оставили меня одну в Экебю?
– Дитя мое, дитя мое, зачем ты целовала Йёсту Берлинга?
– Скажи отцу: это вовсе не значит, что я люблю Йёсту! Это было лишь в шутку, на сцене. Неужто он думает, что я хочу выйти за него замуж?
– Иди в усадьбу управителя, Марианна, и проси разрешения переночевать там! Отец пьян и никаких резонов не принимает. Он держал меня наверху взаперти – в спальне. Он, кажется, уснул, и я незаметно выбралась оттуда. Он убьет тебя, если ты войдешь в дом.
– Матушка, матушка, неужто мне идти к чужим, когда у меня есть родной дом? Неужто ты, матушка, так же жестока, как и отец? Как можешь ты позволить ему запереть двери? Если ты не впустишь меня в дом, я лягу в сугроб.
Тогда мать Марианны взялась за ручку двери, чтобы отворить ее, но в тот же миг на лестнице, ведущей в спальню, послышались тяжелые шаги, и грубый голос позвал ее обратно.
Марианна прислушалась. Матушка поспешно отошла от двери, грубый голос проклинал ее, а потом…
Потом Марианна услыхала нечто ужасное. Из замолкшего дома к ней доносился буквально каждый звук.
До нее донесся шум обрушившегося удара, то ли удара палкой, то ли пощечины, затем какой-то слабый шум и снова удар.
Этот страшный человек бил ее мать! Этот огромный, богатырского сложения Мельхиор Синклер бил свою жену!
И в диком ужасе Марианна упала на колени, корчась от страха. Тут она заплакала, и слезы ее превращались в льдинки на пороге родного дома.
Смилостивитесь надо мной, сжальтесь! Откройте же, откройте двери, чтобы я могла подставить под удары собственную спину! О, как он может бить мою мать, бить за то, что она не хотела наутро увидеть свою дочь мертвой, замерзшей в сугробе?! За то, что она хотела утешить свое дитя?!
Глубокое унижение пришлось пережить в ту ночь Марианне. Она только что видела себя в мечтах королевой, а сейчас лежала здесь, как ничтожная рабыня, которую отхлестали кнутом.
Но она все же поднялась в неистовом, холодном гневе и, снова ударив окровавленной рукой в дверь, закричала:
– Послушай, что я тебе скажу, тебе, посмевшему бить мою мать! Ты еще поплачешь, Мельхиор Синклер, еще поплачешь!
Затем прекрасная Марианна пошла и легла в сугроб, чтобы умереть. Она сбросила с себя шубу и осталась в своем черном бархатном платье. Она лежала, думая о том, что наутро отец ее выйдет, по своему обыкновению, на раннюю утреннюю прогулку и найдет ее здесь. Ей хотелось только одного: чтобы он сам нашел ее.
О, смерть, моя бледная подруга! Мне так и не избежать встречи с тобой, хотя в этой истине кроется утешение. Ты явишься даже ко мне – самой ленивой и самой медлительной изо всех тружениц на свете, вырвешь мутовку и банку с мукой из моих рук, снимешь с ног моих изношенные кожаные башмаки, снимешь домашнее платье с моего тела. Властно и милосердно уложишь ты меня на украшенное кружевами ложе, обрядишь в шелка, в ниспадающее свободными складками льняное белье. Моим ногам не понадобятся больше башмаки, но на руки мои наденут белоснежные перчатки, которые никогда уже не сможет загрязнить работа. Благословленная тобой на сладостный отдых, я засну тысячелетним сном. О, избавительница! Я, самая ленивая и самая медлительная изо всех тружениц на свете! И я в сладострастном исступлении мечтаю о той минуте, когда буду принята в твое царство!
Моя бледная подруга! Ты можешь сколько угодно испытывать на мне свою силу. Но скажу тебе: борьба с женщинами минувших лет давалась тебе куда труднее. Великая жизненная сила таилась в их стройных телах, и никакой холод не мог остудить их горячую кровь. О, смерть! Ты уложила прекрасную Марианну на свое ложе, и ты сидела с ней рядом, как старая нянька сидит у колыбели, убаюкивая дитя. Ты – верная, старая нянька, и ты хорошо знаешь, что надобно дитяти человеческому. Как же тебе не гневаться, когда другие дети, товарищи по играм, с шумом и гамом будят твое уснувшее дитя! Как же тебе не гневаться, если кавалеры подняли прекрасную Марианну с ее ложа и один из них прижал ее к своей груди, а горячие слезы, падавшие из его глаз, оросили ей лицо!
* * *
В Экебю все свечи в бальном зале погасли, все гости разъехались. Наверху же, в кавалерском флигеле, вокруг последней наполовину осушенной чаши с пуншем собрались одни лишь кавалеры.
Тут Йёста, постучав о край чаши, произнес речь в вашу честь, женщины минувших лет.
– Говорить о вас, – сказал он, – все равно что говорить о райском блаженстве. Все до одной – красавицы, все до одной – светлые, как день. Вы были вечно молоды, вечно прекрасны, а ласковы, словно взгляд матери, когда она смотрит на свое дитя. Нежные и мягкие, как бельчата, обнимали вы шею мужей. Голос ваш никогда не дрожал от гнева, ваше чело никогда не бороздили морщинки; ваша нежная ручка никогда не становилась шершавой и грубой. Светлою святыней, гордостью и украшением были вы в храме домашнего очага. Мужчины лежали у ваших ног, курили вам фимиам и возносили молитвы. Любовь к вам творила чудеса, а поэты окружали золотым ореолом ваше чело.
Кавалеры тут же вскочили, хмельные от вина, хмельные от слов Йёсты; от радости кровь закипела у них в жилах. Даже старый дядюшка Эберхард и ленивый кузен Кристофер не устояли и позволили увлечь себя новой затеей. Кавалеры мигом запрягли лошадей в беговые сани и поспешно помчались в морозную ночь, чтобы еще раз отдать дань тем, кого нужно славить неустанно. Чтобы спеть серенаду обладательницам розовых щек и ясных глаз, еще совсем недавно украшавших просторные залы Экебю.
О, женщины минувших лет, как, должно быть, вам нравилось, когда вас, пребывавших на небесах сладчайших снов, вдруг пробуждали серенадой верные ваши рыцари! Да, это, должно быть, вам нравилось, как нравится усопшей душе пробуждаться на небесах от звуков сладостной музыки.
Но кавалерам не удалось далеко уйти от дома в этом благоугодном походе, потому что лишь только они подъехали к Бьёрне, как увидели прекрасную Марианну, лежавшую в сугробе у входных дверей ее родного дома.
Увидев ее там, они содрогнулись и вознегодовали. Это было все равно что обнаружить святыню, которой поклонялись, обезображенной и поруганной за порогом храма.
Йёста, потрясая сжатым кулаком, пригрозил погруженному во тьму дому.
– Вы – исчадья ада! – вскричал он. – Вы – ливни с градом, вы – северные бури, вы – осквернители Божьего райского сада!
Бееренкройц зажег свой роговой фонарь и осветил иссиня-бледное лицо девушки. И кавалеры увидели окровавленные руки Марианны и слезы, превратившиеся в льдинки на ее ресницах. И они начали по-женски причитать; ведь она была для них не только святыней, но и прекрасной женщиной, радостью их старых сердец.
Йёста Берлинг бросился пред ней на колени.
– Она лежит здесь, моя невеста! – сказал он. – Несколько часов назад она подарила мне поцелуй невесты, а ее отец обещал мне свое благословение. Она лежит здесь и ждет, что я приду и разделю с ней ее белоснежное ложе.
И Йёста поднял безжизненное тело сильными руками.
– Скорей домой, в Экебю! – воскликнул он. – Теперь она – моя! Я нашел ее в сугробе, и отныне никто не отнимет ее у меня! Мы не станем будить тех, кто живет в этом доме. Что ей делать за этими дверями, о которые она разбила в кровь свои руки?
Никто ему не мешал. Он положил Марианну на головные сани и сел рядом с ней. Бееренкройц встал на запятки и взял в руки вожжи.
– Набери снега и разотри ее хорошенько, Йёста! – приказал он.
Холод заставил оцепенеть руки и ноги Марианны, но ее обезумевшее от волнения сердце еще билось. Она даже не впала в беспамятство. Она сознавала, что кавалеры нашли ее, но она не могла шевельнуться. И вот она лежала, неподвижная и оцепеневшая, в санях, а Йёста растирал ее снегом, плакал и нежно целовал. И она вдруг почувствовала неистребимое желание хоть немножко приподнять руку, чтобы вернуть ему ласку.
Она помнила абсолютно все. Она лежала в санях, неподвижная и окоченевшая, но голова у нее была такая ясная, как никогда прежде. Влюблена ли она в Йёсту, думала она. Да, влюблена. Не мимолетный ли это каприз, всего на один вечер? Нет, любовь эта длится уже давно, уже много-много лет.
Она сравнивала себя с ним и с другими людьми из Вермланда. Они все были непосредственны, как дети, и поддавались любым своим желаниям. Они жили лишь внешней жизнью, никогда не копаясь в своих переживаниях, в глубинах своей души. Она же стала такой, какой становятся, постоянно вращаясь в свете. Она так и не смогла всецело предаться какому-либо чувству или желанию. Любила ли она, да и вообще, что бы она ни делала, вторая половина ее «я» как бы стояла тут же и взирала на все это с холодной усмешкой на устах. Она тосковала, она мечтала о такой страсти, которая явилась бы и увлекла бы ее за собой, заставив потерять голову. И вот наконец она явилась, дикая, безрассудная страсть.
Когда она целовала на балконе Йёсту Берлинга, она впервые в жизни забыла о самой себе.
И вот ее снова одолела страсть, сердце ее билось так, что она слышала его стук. Неужели она не скоро обретет власть над собой? Она испытывала чувство дикой радости оттого, что ее вытолкнули из дома. Теперь она, не задумываясь, будет принадлежать Йёсте. Как она была глупа, сколько лет она боролась со своей любовью! О, как чудесно, как чудесно дать волю своим чувствам! Но неужто ей никогда, никогда не избавиться от этих ледяных оков? Раньше лед был у нее в душе, снаружи же пламень, теперь – пламенная душа в оледеневшем теле.
И вдруг Йёста чувствует, как две руки, тихонько поднимаясь, слабо и бессильно обвивают его шею.
Он едва чувствует прикосновение ее рук, но Марианне кажется, что она дала выход затаенной страсти в удушающем объятии.
Однако же когда Бееренкройц увидел всю эту картину, он пустил лошадь бежать, куда ей вздумается, по знакомой дороге. Подняв глаза, он упрямо и неуклонно смотрел в небо на Плеяды.[29]29
Плеяды – звездное скопление в созвездии Тельца. В греческой мифологии – дочери Атланта.
[Закрыть]
Глава седьмая
СТАРЫЕ ЭКИПАЖИ
Друзья мои, дети человеческие! Если вам доведется, сидя или лежа, читать эту книгу ночью, подобно тому как я пишу ее в эти тихие ночные часы, то вовсе не здесь, не на этой странице вы вздохнете с облегчением. И вовсе не на этой странице вы подумаете, что добрым господам кавалерам из Экебю удалось обрести наконец сон, после того как они вернулись домой вместе с Марианной и предоставили ей удобную постель в самой лучшей комнате для гостей – в большой гостиной.
Спать-то они легли, и заснули. Но им не суждено было в тишине и покое проспать до самого обеда, как это могло бы случиться со мной или с вами, дорогой читатель, если бы мы бодрствовали до четырех часов утра, а наши руки и ноги ломило бы от усталости.
Конечно, не следует забывать, что в те времена по всей округе бродила старая майорша с нищенской сумой и посохом. А когда ей предстояло какое-нибудь важное дело, особенно зимой, ей ничего не стоило нарушить покой каких-нибудь утомившихся грешников. А в эту ночь она тем более не собиралась тревожиться о чьем-нибудь покое, потому что этой ночью она задумала выгнать кавалеров из Экебю.
Минуло то время, когда она в блеске и великолепии восседала в Экебю, сея радость на земле, подобно тому как сеет Бог звезды на небе. И пока она, бездомная, странствовала по округе, могущество и честь ее огромного поместья были отданы в руки кавалеров. Отданы для того, чтобы они пеклись о нем. Они и пеклись об Экебю, подобно тому как ветер печется о золе, а весеннее солнце – о снежных сугробах.
Порой кавалерам случалось выезжать по шесть или по восемь человек в длинных санях с упряжкой, бубенцами и плетеными вожжами. И если по пути им встречалась майорша, бродившая с нищенской сумой, то глаз пред ней они не опускали.
Лишь сжатые кулаки протягивала к ней вся эта шумная орава. Резкий рывок саней, и она вынуждена была сворачивать в сугробы у обочины. А майор Фукс, гроза медведей, всегда умудрялся трижды сплюнуть, чтобы отвести зло, какое могла причинить встреча с этой старухой.
Они не испытывали к ней ни малейшего сострадания.
Завидев ее на дороге, они чувствовали лишь омерзение, словно им повстречалась троллиха. Случись с ней беда, они горевали бы ничуть не больше, чем тот, кто, стреляя пасхальным вечером из ружья, заряженного латунными крючками, горюет о том, что случайно угодил в пролетавшую мимо ведьму. Для несчастных кавалеров преследовать майоршу было святым делом. Если люди дрожат от страха за свои души, они часто бывают беспощадны и жестоко мучают друг друга.
Когда кавалеры, далеко за полночь, нетвердо держась на ногах, прямо от праздничных столов подходили к окнам, чтобы посмотреть, спокойна ли, звездна ли ночь, они часто замечали темную тень, скользившую по двору. И понимали, что это майорша пришла поглядеть на свой любимый дом. Тогда кавалерский флигель сотрясался от презрительного хохота старых грешников, а сквозь открытые окна к ней вниз доносились бранные слова.
По правде говоря, бесчувственность и высокомерие уже начали прочно овладевать сердцами нищих искателей приключений. Ненависть же взрастил в них Синтрам. Если бы майорша по-прежнему жила в Экебю, души их вряд ли были бы в большей опасности, чем теперь. Ведь многие погибают не в битве, а спасаясь бегством.
Майорша не питала лютой злобы к кавалерам.
Будь это в ее власти, она бы высекла их розгами, как непослушных мальчишек, а потом снова одарила бы своей милостью и благоволением.
Однако же теперь ее одолевал страх за любимое поместье, преданное в руки кавалеров, чтобы они радели о нем подобно тому, как волк радеет об овцах, а журавли о весенних посевах.
На свете, верно, немало найдется людей, на долю которых выпадало такое горе. Не одной майорше приходилось видеть, как разрушительная буря проносится над любимым домом. Не одной ей довелось переживать, глядя, как процветающее поместье приходит в страшный упадок. Отчий дом, где зачастую прошло детство, смотрит на таких изгнанников глазами раненого зверя. И многие чувствуют себя злодеями, видя, как лишайники губят деревья, а песчаные дорожки густо порастают травой. Им хочется пасть на колени пред полями, которые прежде гордились богатыми урожаями, и умолять не упрекать их за этот позор. И отворачиваются от несчастных старых лошадей. Пусть более храбрый встречается с ними взглядом! Они не смеют стоять у калитки, глядя, как возвращается с пастбища скот. Самое страшное на свете – пришедший в упадок дом, самое же невыносимое – это войти в него.
О, умоляю вас всех, кто печется о полях и лугах, разбивает парки и приносящие людям радость цветники – заботьтесь о них хорошенько! Заботьтесь о них хорошенько, не жалея на них ни любви, ни труда! Скверно, если природа скорбит о делах человека!
Когда я думаю о том, что пришлось выстрадать гордому поместью Экебю под владычеством кавалеров, мне хочется, чтобы покушение майорши достигло цели и чтобы поместье у них отобрали.
Майорша вовсе и не помышляла вновь завладеть Экебю.
У нее была одна мысль: освободить свой дом от этих безумцев, этой саранчи, этих одичалых разбойников, с их неистовым буйством, после которого даже трава не росла.
Бродя по округе с нищенской сумой и живя подаянием, она непрестанно думала о своей матери. И сердце ее постоянно жгла мысль о том, что нет для нее спасения, пока мать не снимет с ее плеч тяжкое бремя проклятия.
Никто еще не известил ее о смерти старухи, стало быть, мать ее по-прежнему живет на лесном хуторе Эльвдалена. Девяностолетняя женщина, она по-прежнему неустанно трудится: летом ходит с подойниками, зимой – хлопочет в угольных ямах. Трудится, не покладая рук и мечтая о том дне, когда выполнит наконец свое жизненное предназначение.
Майорша думала, что старуха так зажилась на свете для того, чтобы успеть снять проклятие, тяготевшее над дочерью. Нельзя до времени умереть матери, накликавшей такую беду на свое дитя.
И майорша надумала сходить к старухе, чтобы обе они обрели покой. Она надумала подняться в горы, на север, и пройти по темным лесам вдоль длинной реки в дом, где прошло ее детство. Ведь иначе она не могла обрести ни отдыха, ни покоя. Немало было в округе людей, предлагавших ей в те дни теплый кров и дары верной дружбы, но она нигде не задерживалась.
Угрюмая и разгневанная, она неустанно переходила из одной усадьбы в другую, потому что над ней довлело проклятие.
Ей нужно было подняться в горы, на север, к матери, но прежде ей хотелось позаботиться о любимом поместье. Не хотелось ей уходить, оставив Экебю в руках бездумных расточителей, никчемных пьяниц, сумасбродных расхитителей даров божьих, уйти, чтобы, вернувшись, застать все свое имение расхищенным, молоты в кузнице умолкшими, лошадей истощенными, слуг рассеянными по свету!
О нет, она еще раз поднимется во всей своей силе и выгонит кавалеров!
Она прекрасно понимала, что муж с радостью смотрит на то, как расточается ее наследство. Но она достаточно знала его: выгони она из поместья всю эту саранчу, он не станет заводить новую. Слишком он ленив для этого. Только бы изгнать кавалеров, и тогда ее старый управитель с приказчиком поведут хозяйство в Экебю по старой, проторенной дорожке.
Вот почему ее мрачная тень много ночей подряд скользила вдоль закопченных стен завода. Она тайком пробиралась в лачуги торпарей, шепталась с мельником и его подручными в нижней каморе большой мельницы, держала совет с кузнецами в темной угольне.
И все они поклялись ей помочь. Честь и могущество огромного завода нельзя было долее оставлять в руках беспечных кавалеров, чтобы они пеклись о них так, как ветер печется о золе, а волк – об овечьем стаде.
В эту ночь, когда веселые господа вдоволь натанцуются, наиграются в разные игры и напоются, а после, смертельно усталые, погрузятся в сон, – в эту ночь им придется покинуть Экебю. Она дала им покуражиться, этим беспечным мотылькам. Она угрюмо, не двигаясь, сидела в кузнице, ожидая, когда кончится бал. Она ждала еще дольше, когда кавалеры вернутся из своей ночной поездки. Она сидела в молчаливом ожидании до тех пор, пока ей не принесли весть о том, что последний огонек свечи в окнах кавалерского флигеля погас и что все огромное поместье спит. Тогда она встала и вышла из кузницы.
Майорша велела, чтобы все люди с завода собрались у кавалерского флигеля. Сама же поднялась в свое поместье. Подойдя к жилому дому, она постучалась, и ее впустили. Юная дочь пастора из Брубю, из которой она воспитала хорошую служанку, встретила ее на пороге.
– Добро пожаловать, госпожа, – сердечно приветствовала ее служанка, целуя руку хозяйки.
– Погаси свечу! – приказала майорша. – Неужто ты думаешь, что я не могу обойтись в этом доме без света?
И она начала обход своего молчаливого дома. Прощаясь с ним, она обошла его от погреба до чердака. Крадучись, переходила она из комнаты в комнату, а служанка покорно следовала за ней.
Майорша беседовала со своими воспоминаниями. Служанка не вздыхала и не всхлипывала, но слезы неудержимо капали у нее из глаз. Майорша приказала открыть шкафы с бельем и шкафы с серебром. Она гладила тонкие камчатные скатерти и великолепные серебряные кувшины. Ласково перетрогала она огромную гору пуховых перин в чулане. Ей надо было коснуться всех инструментов и всех снастей, ткацких станков, мотальных машин и ручных прялок. Она проверила ларь, где хранились пряные коренья, и, сунув туда руку, ощупала целые ряды тонких сальных свечей, подвешенных на железной проволоке к крышке.
– Свечи уже высохли, – сказала она. – Их можно снять и положить на место.
Внизу в погребе она осторожно приоткрывала бочки с пивом и гладила со всех сторон шеренги винных бутылок.
Она побывала в кладовой и на кухне, все проверила, все перетрогала. Протягивая руку ко всем вещам, она прощалась со своим домом.
Потом она пошла в жилые комнаты. В столовой она погладила столешницу огромного раздвижного стола.
– Многие наедались досыта за этим столом! – сказала она.
И пошла по всей анфиладе комнат. Она увидела, что длинные широкие диваны по-прежнему стоят на своих местах. Она клала руку на прохладные плиты мраморных столиков, поддерживаемые позолоченными ножками в виде грифонов; они, в свою очередь, подпирали зеркала с рельефами на рамах, изображающими танцующих богинь.
– Богатый дом! – произнесла она. – А что за чудо был человек, подаривший мне все это.
В зале, где совсем недавно еще кружились в вихре танца гости и кавалеры, были уже расставлены вдоль стен застывшие в чинном порядке кресла.
Она подошла к клавикордам и совсем тихо потрогала клавиши.
– И при мне здесь немало радовались и веселились! – сказала она.
Майорша зашла также в комнату для гостей рядом с залом.
Там было темно, хоть глаз выколи. Майорша ощупью ходила по комнате и внезапно коснулась рукой лица служанки.
– Ты плачешь? – спросила она, потому что почувствовала, как рука ее омочилась слезами.
Тут девушка разрыдалась.
– Госпожа! – воскликнула она. – Моя госпожа, они здесь все разорят! Зачем вы, госпожа, уходите от нас и позволяете кавалерам разорять ваш дом!?
Тогда майорша, дернув за шнур штору и указав служанке на двор, воскликнула:
– Неужто это я научила тебя плакать и причитать?! Смотри! Двор полон людей, завтра в Экебю не останется ни одного кавалера!
– И тогда вы снова вернетесь, госпожа? – спросила служанка.
– Мое время еще не настало, – ответила майорша. – Проселочная дорога – мой дом, а сноп соломы – постель! Но пока меня нет, ты должна сберечь для меня Экебю, девочка.
И они пошли дальше. Ни одна из них не знала, да и думать не думала, что именно в этой комнате спала Марианна.
Правда, она вовсе не спала. Сна у нее уже ни в одном глазу не было, она слышала все и все поняла.
Лежа в гостевой комнате, она слагала гимн в честь любви.
– О ты, дивная, возвысившая меня над самой собой! – говорила она. – Я была низвергнута в бездну несчастья, ты же превратила эту бездну в рай. Мои руки примерзали к железной ручке запертых входных дверей, они были ободраны в кровь, мои слезы, замерзнув, и превратившись в ледяные жемчужинки, остались на пороге родного дома. Ледяной холод гнева сковал мое сердце, когда я услыхала, как удары палки обрушиваются на спину моей матери. В холодном сугробе хотела я заставить уснуть вечным сном мой гнев, но ты явилась! О, любовь, дитя пламени, ты явилась ко мне, замерзавшей на лютом морозе. Когда я сравниваю мое несчастье с тем блаженством, которое обрела благодаря тебе, несчастье мое представляется совершенно ничтожным. Я освобождена от всех уз – у меня нет ни отца, ни матери, ни дома. Люди поверят любой дурной молве обо мне и отвернутся от меня. Ну и пусть, ведь так захотелось тебе, о любовь; ведь я не должна быть выше моего любимого. Рука об руку пойдем мы с ним по жизни. Бедна невеста Йёсты Берлинга – он нашел ее в снежном сугробе. Так позвольте же нам жить вместе не в высоких чертогах, а в торпарской лачуге на опушке леса! Я буду помогать тебе стеречь угольню, костер, где жгут уголь, ставить капканы на глухарей и зайцев. Я буду варить тебе еду и латать твою одежду. О, мой любимый, как мне будет скучно, как я буду тосковать, сидя в ожидании тебя, в полном одиночестве, на опушке леса. Веришь ли ты мне? Да, я буду тосковать, буду, но не о прошлых днях в богатстве и неге, а только о тебе. Только тебя буду я высматривать вдали и о тебе мечтать, о звуках твоих шагов на лесной тропинке, о твоей веселой песне, которую ты будешь петь, возвращаясь домой, с топором на плече. О, мой любимый, мой любимый! Всю жизнь могла бы я просидеть в ожидании тебя!
Так лежала она, слагая гимн в честь всемогущей богини сердца и не смыкая глаз, как вдруг в комнату вошла майорша.
Когда же она удалилась, Марианна встала и оделась. Еще раз пришлось ей надеть свой черный бархатный наряд и тонкие бальные башмачки. Завернувшись в одеяло, как в шаль, она поспешила еще раз выйти в эту ужасную ночь.
Февральская ночь – спокойная, звездная и пронизывающе холодная – еще висела над землей. Казалось, ей никогда не будет конца. А мрак и холод, рассеянные по земле этой долгой ночью, еще долго-долго не исчезнут даже тогда, когда взойдет солнце. Они не исчезнут долго-долго после того, как растают снежные сугробы, по которым брела прекрасная Марианна.
Марианна поспешила уйти из Экебю, чтобы позвать на помощь. Она не могла допустить, чтобы изгнали людей, которые подняли ее из сугроба и открыли ей свои сердца и свой дом. Она хотела спуститься вниз, в Шё, к майору Самселиусу. Она очень торопилась. Только через час она сможет вернуться обратно.
Простившись со своим домом, майорша вышла во двор, где ее ждали; и битва за кавалерский флигель началась.
Майорша расставляет людей вокруг высокого узкого дома, верхний этаж которого и есть пресловутый прославленный дом кавалеров. Там, в большой верхней горнице с оштукатуренными стенами, красными сундуками и большим раздвижным столом, где карты еще валяются в луже пролитого вина, где широкие кровати прикрыты пологами в желтую клетку, – там спят кавалеры. Ах, до чего же недальновидны эти кавалеры!
А в конюшне перед полными кормушками спят кони кавалеров, и им снятся походы в дни их молодости. Как сладостно, если на покое снятся безумные подвиги молодости, поездки на ярмарку, когда приходилось выстаивать под открытым небом днями и ночами. Если снятся бешеные скачки наперегонки после рождественской заутрени. Или пробные пробеги перед тем, как обменяться лошадьми, когда захмелевшие хозяева с вожжами, готовыми обрушиться на спины животных, перегнувшись с облучка и осыпая их проклятиями, кричат им прямо в уши. О, как сладостны эти сны! Тем более если знаешь, что уже никогда больше не покинешь теплые стойла конюшни и полные корма ясли в Экебю. О, до чего же беспечны эти кони!
В жутком и унылом старом каретном сарае, куда обычно свозили сломанные, разбитые экипажи и отслужившие свой век сани, собрано диковинное скопище старых колымаг. Здесь и выкрашенные в зеленый цвет телеги, и разные повозки – желтые и красные. Здесь и самый первый кабриолет, какой только видели в Вермланде – военный трофей, захваченный Бееренкройцем в 1814 году.[30]30
…трофей, захваченный Бееренкройцем в 1814 году. – Имеется в виду война с Норвегией 1814 г., последняя в истории война, в которой участвовала Швеция.
[Закрыть] Здесь и всякие мыслимые и немыслимые одноколки, коляски на качающихся рессорах и почтовые таратайки, похожие на причудливые орудия пытки с сиденьем, покоящимся на деревянных рессорах. Здесь и все эти нелепые рыдваны в виде жаровни для кофе, и всевозможные кареты, напоминающие серых куропаток, воспетые еще в эпоху проселочных дорог. Здесь и длинные сани, вмещающие двенадцать кавалеров, и сани с кибиткою, принадлежавшие зябкому кузену Кристоферу. И фамильные сани Эрнеклу с побитой молью медвежьей шкурой и полустертым гербом на спинке, а также беговые сани, бесчисленное множество беговых саней.
Почти все они принадлежат кавалерам, которые жили и умерли в Экебю. Имена их забыты на этом свете и не занимают больше места в сердцах людских. Но майорша спрятала в сарае экипажи и сани, в которых кавалеры прибыли в ее поместье. Все они собраны в старом каретном сарае.
Там они стоят и дремлют, а на них густым-прегустым покровом лежит пыль. Гвозди и заклепки уже не держатся в трухлявом прогнившем дереве, длинными хлопьями отваливается краска, из дыр в побитых молью подушках и сидениях торчит набивка.
– Дайте нам покой, дайте нам развалиться наконец! – просят старые экипажи. – Мы долго тряслись по дорогам, немало впитали в себя влаги под проливными дождями. Дайте нам отдохнуть! Давным-давно миновали времена, когда мы вывозили наших молодых господ на их первый бал. Давным-давно мы, заново выкрашенные и сияющие, выезжали на санную прогулку навстречу увлекательным приключениям. Давным-давно возили мы наших веселых героев по размокшим весенним дорогам, на юг, к полям Тросснеса. Большинство из них спит вечным сном, последние и самые лучшие из них намерены никогда больше не покидать Экебю.
И вот трескается кожа на фартуках экипажей, расшатываются зубчатые ободья, гниют спицы и втулки колес. Старые экипажи не хотят больше жить, они жаждут умереть.
Словно в плащаницу одевает их пыль, и под ее покровом они, не противясь, позволяют старости одерживать над ними верх. Одолеваемые неукротимой ленью, стоят они там, все больше и больше приходя в упадок. Никто не дотрагивается до них, и все же они рассыпаются на куски. Один раз в году двери сарая открываются, если прибывает новый сотоварищ, который всерьез собирается обосноваться в Экебю. Но как только двери за ним закрываются, усталость, сонливость, упадничество, старческая слабость наваливаются также и на новый экипаж. Крысы и жучки, моль и могильный червь, и как там их еще называют – словом, все на свете хищники набрасываются на него, и он также начинает ржаветь и гнить в сладостном, лишенном сновидений, покое.








